Конец сюжетов: Зеленый шатер. Первые и последние. Сквозная линия (сборник) Улицкая Людмила
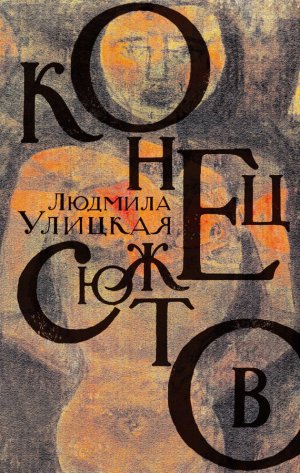
– Каким-то таинственным путем фотографии попадают в западные газеты. Может быть, ваш бельгийский друг Пьер Занд? Очень скользкая личность, между прочим, работает на западную разведку. И нам иногда помогает.
«Ой, как сгорел! Насчет Пьера – врет, конечно. Но свели, сволочи, все концы с концами. Надеялся, как дурак, что проморгают. Те, с Лубянки, были примитивные следаки, а этот – высокий класс».
– Нет, нет, меня этот вопрос совершенно не интересует. Меня беспокоит другое: этот материал необходимо сохранить. То, что у вас отобрали, уже не пропадет. Будет храниться вечно. Или относительно вечно. А вот что будет с теми вашими работами, которые вы будете делать завтра, послезавтра, через год? Конечно, если вас завтра не посадят. Я должен признаться, что вы мне симпатичны, Илья Исаевич. Я бы не желал вам ни тюремного, ни лагерного опыта. Но это вопрос вашего личного выбора. В течение очень короткого времени это решится. Да, строго говоря, это уже решено.
Пауза.
Илья сидел неподвижно, бровью не повел, но в затылке опять застучало. Казалось, что сердце остановилось, а потом закудахтало со страшной силой. «У меня же порок сердца, – мелькнуло в голове. – Они все, что угодно, могут пришить, вплоть до шпионажа. Это не три года. Что там самое страшное? Портрет Сахарова, может быть? Его в доме нет. Когда он отправил “Памятную записку Советскому правительству”, я передал эту фотографию Клаусу. Но по газетам немецким это не прошло. Или уже где-то тиснули?»
– Но у меня, скажу откровенно, есть некоторые особые возможности. Я сейчас вам сделаю предложение, над которым вы подумайте. Возможно, вас это предложение удивит. Даже не исключаю, что возмутит в первый момент. Но прежде подумайте.
Пауза. Чтоб подумал?
– У вас превратное представление о нашей организации. Она уже не та, что была в тридцатых или в сороковых. Есть новые идеи, новые силы, новые люди. В стране идут глубокие перемены, которые пока не всеми ощущаются. И перемены могут быть гораздо глубже и радикальнее, чем вы себе представляете. Не так все просто, как вам представляется. Я хочу, чтобы эта портретная галерея не прервалась на последнем портрете, который вы сделали. Я имею в виду портрет академика Сахарова. Я хочу, чтобы вы продолжали свою работу. Я готов стать вашим гарантом. Мое условие – все, что вы делаете, должно существовать в двух экземплярах. Один у вас, дубликат – у меня. Я подчеркиваю – у меня. Считайте, что в моем личном архиве. Это – в интересах истории, если хотите. И в ваших интересах тоже.
«Кажется, я попал. Уже не до машинки. Похоже, рукопись “ГУЛАГа” их тоже не интересует. Им я нужен, со всеми потрохами». – В голову уже больше не стучало, теперь надо было головой работать, искать какой-то выход – Илья лицом владел, задумчивое у него было лицо, но ладони вспотели.
– Вы играете в свою опасную игру, и я испытываю к вам уважение, хотя свои взгляды на радикальные движения в нашем обществе вам изложил. После революции семнадцатого года все они обречены на провал и, главное, лишены смысла. Это – простая диалектика. Вы это поймете спустя какое-то время, надеюсь, не слишком поздно. Откровенно говоря, меня не особенно беспокоит, каким образом вы будете распоряжаться той работой, которую вы будете делать в будущем. Вы поняли уже, что оперативная работа – не мой уровень. Если вы примете мое предложение, вы сможете сделать много интересного. К тому же я понимаю, что человек, который мог создать такой прекрасный архивный материал в пятнадцатилетнем возрасте – я имею в виду ваших «люрсов», – способен работать и на более серьезном уровне.
Он взглянул на часы:
– Надеюсь, вы понимаете, что наш разговор носит совершенно конфиденциальный характер. И в ваших, и в моих интересах.
– Я не могу считать наш разговор конфиденциальным, Анатолий Александрович. – Илья проглотил слюну и сделал жест в сторону приоткрытой двери.
– Это пусть вас не беспокоит. Вас здесь никто не видел. И не увидит. Станьте, пожалуйста, лицом к окну. Да, да, именно так. – И, повысив голос, Анатолий Александрович сказал начальственным голосом: – Вера Алексеевна, вы можете идти.
Процокали каблуки, входная дверь скрипнула, замок защелкнулся.
– Не все так просто, как вам кажется, Илья Исаевич, – грустно сказал Чибиков.
Илья молчал.
– Решать надо сегодня. Сегодня я еще могу что-то для вас сделать, – голосом глубоким, черно-бархатным заметил «полковник». – Завтра уже не смогу.
«Так, я сейчас говорю “нет”, и отсюда меня уже не выпускают. А все мои материалы все равно уже у них. Речь идет лишь о том, что дальше я живу как жил, но работаю уже не на себя, а на них. Нет, не могу себе этого представить…»
– К тому же – это я просто для полноты картины добавляю, – если я сейчас не вмешаюсь и дело вернется на свой…
Пауза…
– …рутинный уровень, то вы и ваша жена будете нести ответственность. Положим, книги вы ей в дом своими руками занесли, но машинка – на ней. И рукопись Солженицына на ней. Вы ведь не только себя, вы и ее ставите под удар. Между нами говоря, ведь это вы ее втянули в сомнительную деятельность. И это серьезный аргумент. Пока я имею возможность остановить это дело.
«Попал. Выхода нет. Детский мат. Девочка моя любимая, тебя-то я не сдам».
– Это наше джентльменское соглашение. Я вам дам номер телефона. Домашний номер. Наша связь не будет регулярной – вы будете мне звонить всякий раз, когда будет что-то интересное. Вы печатаете столько экземпляров, сколько сочтете нужным для вашей работы, а мне передаете негативы.
– Негативы – это слишком, – отрезал Илья.
Но «полковник» уже понял, что выиграл. Он засмеялся:
– Да вы мне руки выкручиваете!
– Нет, если речь идет о деловом соглашении, я должен защищать свои интересы.
Чибиков посмотрел на него с уважением.
– Хорошо. Негативы – у вас. И последнее – ваша подпись!
– Но соглашение джентльменское! – возмутился Илья.
– Но я тоже должен защищать свои интересы! – засмеялся Анатолий Александрович.
Обе пачки выкурили. Расплывчатые мальчики в мерцающей дымовой завесе все еще тянули свои сети.
Когда Илья вышел, уже стемнело. Но осенний дождь, меленький, нудный, все шел.
Головастый ангел
«Это невероятно и неправдоподобно», – ранним утром, проснувшись, глаз не открывая, размышляла Тамара о вчерашнем вечере. Столько лет, как консервная банка, держала в себе паршивую свою тайну о великой и запретной любви, и вдруг как взорвало: выложила все человеку, который всю жизнь казался лишним, чужим, случайно к ее жизни прибившимся. Столько лет ни единого слова: ни матери – чтоб не огорчать ее, ни Ольге – чтоб не нарушить запрет, ни лучшему другу и учителю Вере Самуиловне Винберг – чтобы тайна не прорвалась в чужую жизнь, не нарушила счастливого существования чужой семьи… И вдруг ни с того ни с сего выложила все Полушке, гэбэшной жене. Впрочем, теперь все это происшествие потеряло свою актуальность.
Нет, вообще-то Тамара уже однажды признавалась в этом всём – перед крещением священнику, тот выслушал терпеливо, без всякой реакции, а потом сказал, улыбнувшись:
– Теперь все это уже прошлое. С крещением начинается новая жизнь, станете как непорочный младенец. Это преимущество своего рода – креститься в разумном возрасте, сознательно. Вам дается новая чистота, и ее берегите.
Новая чистота довольно быстро поблекла. Прошлая жизнь никуда не девалась, бросала свою длинную тень в будущее, и даже оставленный Марленом старый Робик еще два года, прежде чем издохнуть, пролежал на том коврике, где немало лет по субботам поджидал хозяина. Молчала собака, молчала Тамара.
А вчера вечером как прорвало – все выложила. Зачем? Нет, нет – все есть как есть. И если бы заново все начиналось, так же точно и поступила бы. Маму жалко. Раиса Ильинична плакала. Не о Коровине, не о Борисове-Мусатове, а именно об этом маленьком, небрежном эскизе Врубеля, на котором только что и было – большая голова и крыло, задранное противно законам анатомии. Хотя какая там анатомия у ангелов, кто ее изучал… Все были бабушкины картины, из дома Гнесиных, полученные, подаренные в разные годы. Елена Фабиановна была ее с гимназических времен пожизненная подруга. Бабушка этому семейству посвятила жизнь, и много в доме и по сей день остается следов той девичьей дружбы: чашечки, открыточки, перышки, книжечки бумажные с дарственными надписями мелким почерком с пышной подписью. Но тех трех картин уже нет. Ушли. Нет, нет, нисколько не жалко. Другое плохо – горячка, многолетнее затмение, пылающие страсти, от которых не осталось ничего, кроме чувства обокраденности. Нет, нет, нет – не про то речь.
Все было тогда ужасно: Марлена с работы выгнали, отказ шел за отказом, таскали на Лубянку, обещали посадить, а совсем уж под конец признался: жена беременна, вот-вот родит. Он всегда так пренебрежительно говорил о жене и так горячо о дочках, что у Тамары сложилась такая картина их семейной жизни, что новому ребенку как будто не от чего было завестись. Ведь он был весь ее мужчина, единственный. А тут – еще и жена беременная…
Он похудел и пожелтел лицом – Тамара даже повела его в лабораторию анализы делать. Но кровь была спокойная, печень на месте. Только разрешения на выезд не давали. Прежние препятствия давно ушли сами собой. Давно умерла бедная инвалидка-сестра, а потом тихонько мать, которая об Израиле слышать не хотела. Ненавидела эту вражескую страну, от которой всем одно горе. С этого ее было не свернуть. И разрешения на выезд сыну никогда бы не дала….
В предпоследнюю субботу декабря пришел к Тамаре Марлен. Собака еле дотащилась. Робик, единственный свидетель их любви, стал совсем старый. Они его не стеснялись.
Раисы Ильничны тоже можно было не стыдиться – она за все эти годы Марлена в глаза не видела. Когда он приходил, она забивалась к себе в девятиметровку. Даже ночной горшок бабушкин реанимировала и поставила под кровать.
Чем хуже становились обстоятельства, тем жарче делались объятия. Теперь, годы спустя, Тамара испытывала запоздалое недоумение: да с чего она так бесновалась, забывая все на свете от простенькой этой механики: туда-сюда-обратно? Почему воспаряла в какие-то неизреченные выси? А ведь все дело-то было в двух стероидных кольцах, одно к другому прилепленных, и еще одно к верхней правой стороне, и сбоку полукольцо, да в некоторой суете радикалов, вокруг этих колец образующихся. Кто, как не она, знал на память биологическую формулу, обладающую полнейшей властью над телами и душами…
А теперь вот чувство неловкости и даже запоздалого стыда. И за него тоже: бедный Марлен, почему он так плохонько себя вел? Тоже – гормоны им руководили…
В ту предпоследнюю декабрьскую субботу, когда сердцебиение еще не успокоилось и его мохнатая грудь еще прижата была к ней плотно и влажно, он сказал делово:
– В среду меня опять вызвали для беседы. Они теперь новую политику придумали – вы не просто сионисты, вы еще и в правозащитники лезете. Это по поводу моей подписи насчет разрешения эмиграции. Они, конечно, после демонстрации озверели. Лысый всегдашний говорит: вы на этот раз пятнадцатью сутками не отделаетесь. Возьмите лист и рассказывайте в письменной форме, как это письмо к вам попало. Кто принес? Может, академик Сахаров? А там подписей штук пятьдесят. Я сказал, что не собираюсь сам на себя донос писать. В общем, сказали, что дают три дня сроку. Если не напишу, кто мне принес письмо, арестуют. Так что, Томик, возможно, мы очень долго не увидимся.
Тяжесть ширококостного мужского тела, наполненность им, неразделенность… вот сегодня я забеременею и рожу… и будь что будет… и никаких абортов больше не будет… сегодня… и если его посадят, я смогу сама… мальчика вырастить…
– И тут, понимаешь, возникло одно новое обстоятельство.
Опершись на руку, привстал, обтерся краем пододеяльника, сел, опустив шерстистые ноги на пол.
Тамара его едва слышала. Она к другому в эту минуту прислушивалась: как дрейфуют друг другу навстречу два микронных зерна, медленно, устремленно, наверняка. Пусть толстуха его Лида рожает еще одну девочку, а она родит мальчика и сама, сама его вырастит… теперь уж точно. И спрашивать не буду.
Лежала на спине и гладила свой живот. «Дура, какая дура, сколько времени упустила. Уже в школу бы ходил мальчик, если б сразу решилась», – навоображала себе Тамара другую жизнь, которая не была ей на роду написана.
– Очень интересное обстоятельство. Я давно уже слышал, что эти сволочи евреев за деньги выпускают. Поверить не мог. Просто как в тридцать девятом в Германии: богатые тогда из концлагерей выкупались. Но позже уже было невозможно. Представь, и сейчас этот механизм работает.
– Да что ты? У нас? – изумилась Тамара, мигом позабыв о своем воображаемом зародыше.
– У вас, у вас! У кого еще? – нахмурился Марлен. – Представь, к моей тетке зашел ее односельчанин. Ну, из их местечка человек, портной, как полагается. Очень хороший портной. Он шьет одному высшему чину. Большой начальник, имени называть не хочу. – Он легонько постучал в стену. Потом склонился к Тамариному уху и что-то прошептал.
– Ты с ума сошел! Никогда не поверю.
– А ты поверь! Вот так, представь себе! И портной этот шьет ему с довоенных времен, и семью его обшивает. Он его даже в Москве поселил, в свою квартиру. Ну, не в свою личную, у него есть несколько квартир для нужных людей. И мужик он хороший, ну, в каком-то смысле…
– Портной? – переспросила Тамара.
– Да при чем тут портной! Начальник этот, мистер Икс, он в своем роде приличный человек. Не кровожадный, просто деньги любит. Собственно, даже не деньги сами по себе. Он картины собирает. Серьезные картины, знаменитых художников. Серов, Перов, ну, эти ваши передвижники. Из Германии после войны целый вагон этого добра вывез, но немецких. А теперь русских собирает.
– Коллекционер? – все никак не могла вместить Тамара новых сведений о начальниках.
– Ну, если хочешь, коллекционер, – скривился Марлен. – Портной этот нам дальняя родня. Он сказал, что имеет подход к этому начальнику. Тот не от всякого возьмет, сама понимаешь. А этот родственник наш знает, как к нему подойти, и однажды такой же номер проделал. За Саврасова семью из четырех человек выпустили. Небольшая такая картинка. – И Марлен развел руками нешироко, примерно как портной ему показывал.
Тамара поняла мгновенно:
– Марлен, у нас передвижников нет. Самое ценное – один Коровин и один Борисов-Мусатов.
– Этих он не называл. Он сказал, что тот последнее время за Врубелем охотится.
– Врубель передвижником не был, – ответила Тамара. – У нас Врубель есть, только не картина, а эскиз.
– Да какая разница? Главное, надо быстро действовать. Если меня посадят, никакие картины уже не помогут, другое ведомство.
Тамара зажгла свет. Ангел с надломленным крылом висел над изголовьем Тамариной кровати. Голова большая, лоб слишком выпуклый, лицо не прописано, все мазком, нервно и торопливо. Зато крыло голубоватое, перистое, переливалось и мерцало. Удалось крыло.
– Бери, – легко сказала Тамара. – Все бери.
– Но, ты понимаешь, есть риск, может и не получиться… – Он как будто сомневался, следует ли пускаться в эту авантюру, но Тамара чувствовала, что глаз его ожил, и он думал уже вперед – куда везти, как передавать картины, и дальше, дальше….
– Может. Но ведь тебя могут и посадить.
Наготы не прикрыв – ее уже не существовало, – полезли за картинами. Все три торопливо сняли со стены, завернули в простыни, потом оделись.
– Ты уж меня извини, Томочка, но дело-то спешное. Я сейчас схвачу такси, отвезу картины к тетке, портной этот завтра часов в десять обещал к ней прийти. Чтобы все было у нее к тому времени. Я оставлю Робика до утра.
Дальше события понеслись со скоростью сверхъестественной.
Через три дня вместо обещанного ареста Марлен был вызван в районное отделение КГБ, где ему вручили постановление о лишении гражданства и разрешение на выезд со всем семейством в трехдневный срок. В следующую субботу он не пришел на всегдашнее свидание к Тамаре. Забежал в пятницу утром. Привел Робика на поводке. Сообщил, что завтра они улетают в Вену.
– Я твой должник до конца жизни, – сказал Марлен. – Ты лучшее, что было у меня. Если все-таки надумаешь возвращаться, – он всегда говорил «возвращаться», а не «эмигрировать», – свяжешься через Илью, я тут же пришлю вызов. Оставляю тебе Робика на память.
На проводы Тамара не пошла. Оля потом рассказывала ей, какое множество народу набежало прощаться с Марленом, как ошарашены были родители Лиды, как все это было неожиданно: высылка вместо обещанного ареста. Праздник вместо похорон. И все равно это были немного похороны.
– Но ты ведь никуда не уедешь, правда? Или, ты думаешь, в конце концов все евреи из России уедут? – Оля заглядывала в Тамарино остановившееся лицо.
– Нет. Что касается меня, я – нет. Даже если все уедут. Можешь быть уверена.
Так в самом конце восемьдесят первого года Марлен уехал. В ноябре восемьдесят второго года умер Брежнев. Большого начальника, любителя живописи и друга бровастого орденоносца, сняли с министерской должности, открыли дело о каких-то бешеных хищениях, об использовании служебного положения в корыстных целях. Портной быстро съехал с предоставленной ему квартиры и исчез. Так в плохих романах исчезают служебные персонажи, введенные, чтобы двинуть неумело построенное действие. Имущество бывшего начальника конфисковали, а сам он застрелился из двуствольного «гастин-раннета». А может, свои же пристрелили, чтобы закрыть дело, из которого могло произойти много лишних неприятностей.
Тамара с головой ушла в свою науку, написала докторскую диссертацию.
Марлен с семьей живет в Реховоте, научном городке недалеко от Иерусалима. У него все в порядке.
Неизвестно только, кому в конце концов достался головастый ангел с голубым крылом. Как и маленький Коровин и Борисов-Мусатов.
Дом с рыцарем
Когда Илья вышел, уже стемнело. Но дождь все шел. Странное чувство. Проиграл – чудовищно. Но и выиграл – неописуемо. Бывает ли так, чтобы сразу и проигрыш, и выигрыш? Шел медленно вверх по улице Горького. Выхода на самом деле не было. Впрочем, был один – запись об отце в его метрике. Отец Ильи был наполовину еврей, можно было бы восстановить документы, вытащить свою еврейскую четвертинку на поверхность и попробовать подать на выезд. Но тут-то они и сгноят.
Свернул к «Арагви» – там телефон-автомат стоял. Нашел «двушку», набрал номер:
– Кать! Привет! Виктор Юльевич дома? В Большевистском? Спасибо. У вас все в порядке? Пока.
Позвонил по старому телефону. Илья знал, что после смерти матери Виктор Юльевич часто ночует на старой квартире. Подошла соседка. Илья долго ждал, пока тот возьмет трубку. Спросил, можно ли прямо сейчас прийти.
Зашел в «Елисеевский». Купил армянского коньяку «пять звездочек» – раньше учитель их хорошими грузинскими винами угощал, теперь они учителя – армянским коньяком.
На Пушкинской сел в троллейбус и доехал до Чистых прудов. Потом пешком, как в дом родной, к рыцарю, который стоял в нише над парадной дверью. Железный человек под псевдоготическим козырьком перестоял здесь революцию, пережил переименование переулка из Гусятникова в Большевистский и не ведал, что ему еще предстояло, с места не двигаясь, вернуться на старый адрес.
Илья поднялся на четвертый этаж. Пять кнопок. «Шенгели» – на одной из табличек. Позвонил. Шесть личинок на высокой двери, довольно высоко – раньше здесь жили более рослые люди, чем теперешние? Все замки, кроме одного, сломаны.
Сколько лет он сюда ходит? С пятьдесят шестого? Или даже с пятьдесят пятого? Лет с тринадцати. И сейчас ему столько, сколько учителю было тогда. Или около того. Странно, долго не открывает. Отворила круглая соседка в фартуке:
– Он дома, не слышит, наверное.
Бронзовая, асимметрично-округлая ручка двери – дом «модерн» – сколько раз ее отжимал вниз, до щелчка. Вошел. На кушетке, некрасиво закинув голову и приоткрыв рот, спит, немного похрапывая, учитель. Рукав свитера вшит внутрь. Интересно, а как выглядит культя?
Спит небритый, пожелтевший, пожилой человек. Темно-красная скатерть откинута с половины стола, на обнаженном пятнистом дереве толстая тетрадь, ручка, стакан темного, как йод, чая. Да, на этой плюшевой скатерти писать нельзя.
Илья снял плащ, сел за стол. Не будить же старика. Да, с виду старик. Как быстро он сдал. Лет на пятнадцать нас старше. Конечно, не так давно сорок пять праздновали. Неужели год уже прошел? Бедняга. Был такой блестящий, элегантный, помесь Дон Кихота с Сервантесом. Мальчишки ходили за ним табуном. Да и девчонки. Всем мозги прочистил, а сам сник. Постарел. Катя его бросила. А может, он ее бросил? Из школы выгнали. Потом сколько лет смотрителем в Музее Советской армии. Говорил, книгу пишет. И там, в музее, материал богатейший – документы Второй мировой войны. Новая идея его посетила: инициация страхом. Там, где нет инициации взросления через положительные импульсы, работает инициация страхом.
Послереволюционные поколения в очень раннем возрасте получали прививку страха, и она была так сильна, что другие импульсы уже не работали, – вот какое открытие вывел Виктор Юльевич. Обсуждал с друзьями, бывшими учениками. Миха от этой идеи впал в большой ажиотаж, Илье тоже понравилось. Интересно бы почитать. Предлагал ему, что передаст на Запад. Но книгу Виктор Юльевич так и не дописал. Может, слишком долго о ней говорили, и она вся ушла в воздух. И висит в воздухе, и невидимо что-то меняет в сознании тех, кто вообще об этом задумывается…
В принципе, во всем учитель прав. Илья закрыл глаза. Да, гениальный неудачник. А Миха – бесталанный поэт, идеалист. Саня – несостоявшийся музыкант. А я теперь стукач… Хорошая компания.
Впрочем, я просто делаю свою работу. Мне важно, чтобы все это осталось. Если никто ничего не будет знать, то ничего этого как бы и не было. Мой архив сохранит это бездарное, ползучей чумой пораженное время. А что страх? Он был, есть и будет…
Что-то в этом есть, только непонятно, что случилось с самим Виктором Юльевичем. Надо как-нибудь спросить, что с ним самим случилось: почему он лежит здесь один, полупьяный, среди лучших русских книг.
Может, мир спасет красота, или истина, или еще какая-нибудь прекрасная хрень, но страх все равно всего сильней, страх все погубит – все зародыши красоты, ростки прекрасного, мудрого, вечного… Не Пастернак, а Мандельштам останется, потому что у него больше ужаса времени. А Пастернак все хотел со временем примириться, объяснить время положительным образом.
Сидеть надоело, Илья тихо постучал пальцем по голой столешнице. Спящий встрепенулся, захлопнул рот.
– А, я вас жду, Илья.
Илья вытащил из кармана плаща бутылку, поставил на стол. Виктор Юльевич встал, пошатываясь.
– Да, да, – засуетился, – сейчас.
Вынул из горки две рюмки, улыбнулся слабой улыбкой:
– Еды никакой в доме.
Илья углубился на дно кармана и вытянул лимон:
– Давайте сахарный песок, что ли…
– Это есть.
Разлили по рюмкам – коньячным, брюхатеньким. Рука учителя прекрасная, с длинными бледными пальцами без костяшек, с ровными ногтями. Держит рюмку за ножку, ласково.
– Ну что, друг мой дорогой! Видите, куда мы с вами приехали? – улыбнулся Виктор Юльевич. Двух зубов с левой стороны не было. А что он, Илья, хотел у него спросить? Что хотел сказать? Да ничего. Вот именно этого хотелось: сидеть, выпивать, испытывать друг к другу сострадание, сочувствие, бескорыстную любовь. Пили молча. Становилось лучше.
Кофейное пятно
Ирка Троицкая, сто восемьдесят три сантиметра живого роста, по прозвищу Верста, с мужскими руками-ногами, никому не говорила, что ее отец генерал. Тем более – по какому ведомству. Одевалась как все. Хотя в стенном шкафу их генеральского дома возле метро «Сокол» висело все, о чем девчонки мечтали.
И вообще у нее было все, о чем они и не мечтали, и даже более того. Но дружить с ней в студенческие годы не хотели. Она подходила – замолкали. И не только в столовой, даже в курилке, хотя стрелять – стреляли. Но – молча. То есть не все ее избегали, а именно те, с которыми ей хотелось дружить: Ольга, Рихард, Ляля, Алла и Воскобойников. Что самое обидное, Ольга сама из генеральской семьи, у Рихарда отец министр в Латвии, у Ляльки – посол в Китае. Почему они к ней свысока и презрительно? Не станешь же всем встречным объяснять, что отец у нее хоть и генерал КГБ, но высшей лиги игрок – всю жизнь внешней разведкой занимается.
Старшая сестра Ленка заканчивала МГИМО, там ничего подобного не наблюдалось, даже наоборот: деток начальников очень уважали. На особом счету девочки. Они все замуж выходили перед распределением, за своих же. Это поощрялось. Самостоятельной карьеры никто из них не делал, но любому дипломату подготовленная жена в плюс.
За Ленкой чуть ли не в очередь стояли лучшие мальчики с курса, и со старших курсов тоже. Отец шутил: ребят у них, как попов, без венчанья не рукополагают. И правда, такие пары получали очень хорошие назначения.
Отец был вообще умница, весельчак и красавец. Мама во всем уступала. За исключением роста. Игорь Владимирович всегда так и говорил: женился на Ниночке для поправки породы, чтобы сыновья были рослыми, а она девок принесла. На что им такой рост, хоть в баскетбол играли бы!
Правду сказать, обе дочки на полголовы его переросли и обувь носили на два номера больше. Отца своего малорослого они обожали. С ним было интересно. О чем ни заговори, все знает: историю, географию, литературу. Библиотека дома была – как у профессора университета. Сам он профессором не был, но профессором был дед, преподавал римское право в Казанском университете в те допотопные времена, когда марксизма-ленинизма в помине не было, а основоположник задней части будущей науки сидел на студенческой скамье перед профессором и мало интересовался предметом.
Игорь Владимирович своих дочек наставлял: учитесь, у образованных людей жизнь интересней, чем у неучей.
К полкам подводил, пальцем тыкал:
– Если читать не можете, вы хоть корешки изучайте: Аристотель, Платон, Плутарх. Тебя, Ирка, хоть в университете чему-нибудь обучат, а ты, Леночка, почитывай иногда книжечки, оно не вредно…
Лена с Ирой скользили взглядом рассеянно по дорогим книгам, с детства знали, где что стоит.
Шкафы были старые, шведские, низы закрытые, а верхи – полки с опускающимися стеклянными створами. В низах у отца стояли книги особые – на русском, но заграничной выпечки, он их с работы приносил.
Лена ими совершенно не интересовалась, а Ира иногда брала на прочтение. Там было много интересного, чего в библиотеках не найдешь: и Гумилев, и Ахматова, и Цветаева, и Мандельштам.
Вот эти самые книги изменили Ирин статус на факультете. Эта давно не переиздававшаяся поэзия оказалась таким крючком, что вся компания на нее клюнула. Потом стала носить с отцовских тайных полок и другие книжечки – по одной. Отцу, конечно, не объявляла. Он, между прочим, и сам эту редкую поэзию любил, много и наизусть знал.
Престиж Иры Троицкой возрос, она вела себя умно, не открывала сразу всего богатства, а кормила желающих дозированно. Приносила в курилку и опасные редкости, и редкие драгоценности – все тамиздатское, новенькое, с иголочки. Главным образом книги издательства «ИМКА-Пресс». Вот тогда-то и мелькнуло впервые перед Олиными глазами имя Бердяева, но в то время предпочитала она поэзию. Взяла томик Ходасевича и залила случайно кофе – на обложке изобразилось смутное дерево и дорога, хоть гадай по этой картинке. Оля расстроилась, всполошилась, но Ирина только плечами пожала: не переживай!
Потом пришел в Россию первый Набоков. Это было «Приглашение на казнь». Читала «своя компания». Ошеломляюще. Потрепанная книжечка, изданная на русском в Берлине в тридцать шестом году. На обложке дарственная надпись по-немецки: «Дорогому Эдвину в день рождения. Анна». Изъята была при аресте одного немецкого еврея, эмигрировавшего в Россию из Германии в тридцатые годы. Вышеупомянутый Эдвин изучал по этой книге русский язык – на полях карандашиком немецкий перевод отдельных слов.
Генералу Троицкому принес его друг в подарок, тоже на день рождения, но много лет спустя. У книг была разная судьба. Некоторые были уничтожены, а другие пошли по рукам. «Дар» с рук на руки передавали – открыли нового автора, которого ни в каких библиотеках, ни в каких учебниках не было.
Ольгу распирало желание отнести книжечку любимому доценту. Спросила его аккуратно о Набокове – он поднял бровь. «Что именно?» – спросил.
– «Дар».
Доцент и сам только недавно ознакомился – один студент, канадец русского происхождения, принес первого Набокова.
– Да, да, – кивнул сдержанно доцент. – Поразительный автор. На русском языке давно ничего подобного не было.
Но не спросил: а что еще есть?
«Приглашение на казнь» ходило по рукам юных филологов. Пролом в железном занавесе. Руки трясутся, сердце останавливается. Как найти этому место? Полный пересмотр всей иерархии. Новое небесное тело вошло в Галактику, и все связи затрепетали, вся небесная механика на глазах меняется: половина литературы самовозгорается и превращается в пепел…
Чистый алмаз. Все Ира Троицкая несла.
По случайному стечению обстоятельств у доцента во время обыска отобрали тот самый генеральский экземпляр «Дара», который пришел к нему по цепочке, из надежных рук. То есть Ира и не знала, что редкая книга попала в достойные руки. Нашли у доцента и выписки, которые он при чтении делал. Он уже начал писать статью «Возвращение на родину». Не успел. Но и эти несовершенные, незавершенные, к огорчению доцента, наброски тоже забрали.
Случился скандал, доцента и его соавтора посадили – не за Набокова, конечно, а за их собственные книги, изданные на Западе под псевдонимами. Началась подписная кампания, полетели головы, студентов трясли по инстанциям, Ольгу из университета отчислили за подпись на письме в защиту доцента. Иру Троицкую никто не трогал. Писем она не подписывала, никто из Олиной компании не показал на нее как на источник антисоветчины.
Ира запоздало рассказала отцу о своей просветительской деятельности. Отец в этой жизни мало чего боялся, но тут крякнул. Потом, когда всех, кого надо, посадили, выгнали и отчислили и все затихло, он восстановил утраченный экземпляр. Но это было уже американское издание. Набокова генерал тоже высоко ценил, как и доцент.
Книжки посаженных писателей любознательный генерал тоже прочитал, сказал дочери: недурно, но такого скандала они не заслужили. Ира глубоко пережила эту историю, хотя и выскочила совершенно незапятнанной. Олю она больше никогда не встречала и жалела, что она исчезла. Теперь с Ирой все дружили, хотя книг она больше в университет не таскала – отец запретил.
Ира окончила университет, распределение было шикарным: иностранная комиссия при Союзе писателей. Старый товарищ отца курировал этот союз, через него и место вышло.
В семидесятом году в одночасье от инфаркта умер Игорь Владимирович. Незадолго до смерти дошел до него слух, что Солженицына выдвинули на Нобелевскую премию, и был он недоволен:
– Что там за комитет такой? Толстому не дали, а Солженицыну дают?
Ира после смерти отца впала в депрессию: от всего тошнило, и от шикарной работы тоже. А сестра Лена жила в Стокгольме. Ее мидовский муж служил атташе по культуре в посольстве СССР в Швеции.
Понятное дело, ему намерение Нобелевского комитета грозило одними неприятностями.
С Ирой в том году случилась удивительная вещь – ее выловила на улице из толпы немолодая элегантная дама и предложила прийти на просмотр. Дама оказалась известнейшим в стране модельером. Ирину такое предложение развеселило. Она пришла на просмотр, и ее немедленно взяли. Таких высоких манекенщиц тогда еще не было, она была первой.
Благодаря надежности происхождения Ирина Троицкая в первый же год выехала за границу. Сначала это был Белград, потом Париж и, наконец, Милан. В Милане она и осталась, получив молниеносное предложение от журналиста, ведущего колонку моды в провинциальной газете. Он не был ни красавцем, ни миллионером, но они были совершенно счастливы на юге, под Неаполем, откуда он был родом. Итальянский муж вскоре бросил коммунистическую партию, в которой состоял, заодно и никчемную журналистику, открыл ресторан, а впоследствии даже стал мэром микроскопического городка. Ни слависткой, ни переводчицей Ирина не стала, Россию никогда больше не навещала.
История, однако, тем не закончилась, во всяком случае, для семьи Троицких. Скандал с Нобелевским комитетом молодому дипломату замять было бы просто не под силу, но мидовское руководство любило объявлять виноватыми не высокое начальство, а тех, кто пониже стоит. Сочли, что Ленкин муж недостаточно старался. А тут еще Иркин побег! И дипломат, муж сестры Лены, получил по мозгам за Нобелевскую премию, в которой не был виноват, за Иркин побег и собственную неповоротливость. Молодая пара с прекрасными анкетными данными была отозвана из Швеции.
Неудачливый дипломат с семьей вернулся в Москву. Детям – мальчикам-близнецам – в Москве нравилось. Лена варила суп к приходу мужа из МИДа, где он был пятым заместителем седьмого помощника в отделе, который двадцать лет собирались расформировать. Потом от безденежья Лена пошла в школу преподавать английский язык. Бабушка Нина, как обычная домработница, гуляла с детьми в Чапаевском парке, пока не простудилась и не умерла от воспаления легких. Все было очень плохо до тех пор, пока Лена не сходила к гадалке. Гадалка была какая-то особая, с индийским направлением, она велела Лене «чистить карму», но самым первым делом предписала почистить дом, в котором накопилось много «грязи». Порекомендовано было сделать ремонт.
Муж был страшно недоволен. И так еле сводили концы с концами, а тут – нате вам! – ремонт.
Для уменьшения расходов подготовительную стадию делали своими руками. Для начала, чтобы отодвинуть шкафы от стен в кабинете покойного Игоря Владимировича, вытащили книги. Ту часть старья, что в кожаных переплетах, отправили в букинистический и деньги получили непредсказуемо огромные. Хотя там приняли не все. Оказалось, что у генерала было довольно много книг с библиотечными и музейными штампами, а их букинисты не брали.
В закрытой части шкафов муж Лены нашел огромную коллекцию антисоветских книг, в том числе и собрание, на тот момент полное, нобелеата, который испортил ему столько крови.
– Да, отец книги собирал, – пояснила Лена. – У него доступ был к тем книгам, что отбирали на обысках. Кое-что его друзья из-за границы привозили. Он много чего собирал – монеты, бумажные деньги, марки.
Ленин муж не занимал того высокого положения, что его покойный тесть, не мог себе позволить держать в доме такую коллекцию. Поздней ночью выволокли опасные книги на помойку.
Следующим вечером сдирали обои. В толще капитальной стены обнаружили сейф. Ключ к нему не прилагался. Вскрыть его домашними способами не удалось, зато он легко выскочил из стены целиком. Задняя стенка этого небольшого ящика была просто-напросто фанерная. Оторвали ее – там лежало несколько пачек допотопных долларов, имевших, впрочем, хождение до сих пор, и двадцать пять царских червонцев.
Муж схватился за голову – но на помойку не вынес.
История семьи генерала Троицкого на этом кончается.
Дальнейшее уже не имело к этой семье ни малейшего отношения.
Смена в котельной заканчивалась у Игоря Четверикова в восемь утра, и обыкновенно он совершал утренний обход близлежащих помоек после шести. Район Сокола был не жирный, старого жилья оставалось немного, здешние дома заселялись перед войной и после войны, так что карельскую березу и французскую бронзу местные жители либо выбросили во время предыдущего переезда, либо вообще никогда не держали.
Здесь, в бывшем селе Всесвятском, если что и попадалось изредка на помойках, то были это веши мещанские. Не так давно выбросили сундук с женской одеждой середины девятнадцатого века. Большую часть успели уволочь маленькие девочки. Игорю удалось поживиться коричневым роброном, меховой пелериной и полной гимназической формой девочки-подростка.
На этот раз Игорь просто ахнул – возле деревянного ящика, в который сбрасывали мусор жители дома, стояли аккуратные стопки «тамиздата». Не разглядывая особенно, он стащил их в котельную и побежал звонить к метро. Бывший одноклассник Илья спал, и голос его был недовольный:
– Охренел – в такую рань звонить?
– Срочно приезжай в котельную. На машине.
Илья прекрасно знал эту котельную, потому что он и устроил туда Игоря через знакомых год назад, когда Игоря выгнали со скандалом из Курчатовского института.
Через полчаса Илья приехал. Книги погрузили и отвезли на квартиру другого генерала, который когда-то увлекался не монетами и не книгами, а мебелью. И проживал на даче, а не в городской квартире.
Костя уже ушел в школу. Ольга сварила мужикам кофе и села на полу разбирать книги. Там было все читанное. Среди аккуратных томов нашла Ходасевича с кофейным пятном на обложке – дерево и дорога.
– Игорек, а твоя котельная на Соколе, в генеральском доме?
– Ну да, а что?
– Ничего. Я все эти книги еще в университете прочитала. Наверное, хозяин умер. Генералом был.Беглец
Гроза состоялась в половине третьего, как опера или симфония – с увертюрой, лейтмотивами, дуэтом воды и ветра. Молнии взлетали столбами, под непрерывный грохот и сверкание, потом антракт и второе действие. У Марии Николаевны сразу перестало болеть сердце, которое весь день ныло, у капитана Попова прошла головная боль, мучившая его почти сутки. Ему даже удалось поспать пару часов, прежде чем идти на работу. Единственное, чего не успел, – поставить печать на документ. Но это можно было сделать и потом.
В девять часов ровно он позвонил в дверь. Долго не открывали, потом за дверью послышалась возня.
– Кто там? Кто? Кто? – какой-то капризный женский голос что-то выговаривал невидимому собеседнику.
Наконец дверь приоткрыли, но цепочку не сняли. Сивцев и Емельяненко переминались с ноги на ногу – торопились поскорей начать и поскорей кончить. Бестолковые ребята. Попов показал в просвет свою книжечку. Опять повозились и открыли наконец.
Притопал понятой, свой парень из ЖЭКа.
– Муратов Борис Иванович здесь проживает?
Тут же появился Муратов. Крупный, лет сорока, с бородой, в синем халате, вроде бархатном.
«Таких халатов у нас не бывает, – подумал Попов с неприязнью. – Заграничный. И где только берут?»
– Ваш паспорт, пожалуйста, – вполне вежливо попросил Попов.
Муратов ушел в смежную комнату, а оттуда как раз вышла жена, конечно, красавица, и тоже в синем халате! Это ж надо, чтоб два одинаковых!
– Ознакомьтесь, пожалуйста, – Попов протянул Муратову ордер на обыск. В руки не давал, так, немного издали.
– Разрешите! – протянул руку Муратов.
Но Попов отвел бумажку:
– А чего здесь разглядывать – ордер на обыск, я вам и так скажу. Из моих рук, пожалуйста.
– Вижу, что ордер. Только печати нет.
– Вот черт какой, – рассердился Попов. – Это большого значения не имеет. Ордер есть ордер, а печать поставим, не беспокойтесь.
– Сначала поставьте, а потом и приходите, – нагло ответил Борис Иванович.
– Я б на вашем месте… повежливее. Вам с нами ссориться невыгодно. Давайте-ка не мешайте работе… – И он двинулся внутрь квартиры, Сивцев за ним. Емельяненко стоял в крошечной прихожей – входная дверь и большая комната под присмотром.
– Минуточку, – сказал Борис Иванович, вышел в маленькую комнату.
Наизусть известное расположение, распашонка: проходная, запроходная, в стене чулан, там все и сложено. Капитан Попов таких квартир много видел.
Он загородил дверь. Муратов покраснел, отстранил капитана и стал шарить в верхнем ящике письменного стола. Попов разозлился. В этой мелочной борьбе прав был Муратов. Ордер, строго говоря, был недействительный.
Но допустить поражения капитан не мог и прикрикнул:
– Не трогать ящики! Теперь мы будем их смотреть.
Но Муратов, видно, сразу нашел, что искал. Расправил плотную бумагу, желтоватую, с красной казенной шапкой и профилем «самого великого».
«Почетная грамота».
Художник сунул бумагу прямо под самый нос капитану, на такое расстояние, с которого вообще ничего не видно.
Опять у Попова заломило в затылке.
– Что вы себе позволяете?
Жена в синем халате, глаза синющие, сама бледная, смотрела на мужа умоляюще, а теща Мария Николаевна как ни в чем не бывало разливала чай по чашкам.
Борис Иванович отодвинул лист на разумное расстояние: капитану видно, но лист не цапнет.
– Из моих рук, пожалуйста, из моих рук.






