Конец сюжетов: Зеленый шатер. Первые и последние. Сквозная линия (сборник) Улицкая Людмила
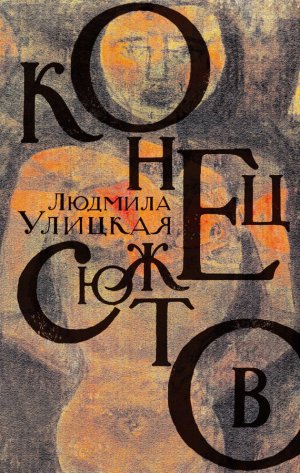
Зеленый шатер
Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще нас правыми, его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не соглашаясь с ним, тем уже и быть человеком.
Б.Пастернак – В.Шаламову9 июля 1952 года
Пролог
Тамара сидела перед тарелкой с жидкой яичницей и ела, еще досматривая сон.
Мама Раиса Ильинична нежнейшим движением проталкивала редкий гребень сквозь ее волосы, стараясь не слишком драть этот живой войлок.
Радио извергало торжественную музыку, но не слишком громкую: за перегородкой спала бабушка. Потом музыка умолкла. Пауза была слишком длинна, и как-то неспроста. Потом раздался всем известный голос:
– Внимание! Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем правительственное сообщение…
Гребень замер в Тамариных волосах, а сама она сразу проснулась, проглотила яичницу и хрипловатым утренним голосом проговорила:
– Мам, наверное, какая-нибудь простуда ерундовая, а сразу на всю страну…
Договорить ей не удалось, так как неожиданно Раиса Ильинична дернула что было силы за гребень, голова Тамары резко откинулась, и она клацнула зубами.
– Молчи, – прошипела сдавленным голосом Раиса Ильинична.
В дверях стояла бабушка в древнем, как Великая Китайская стена, халате. Она выслушала радиосообщение со светлым лицом и сказала:
– Раечка, ты купи в «Елисеевском» чего-нибудь сладкого. Сегодня, между прочим, Пурим. Я таки думаю, что Самех сдох.
Тамара не знала тогда, что такое Пурим, почему надо покупать что-нибудь сладкое и тем более кто такой Самех, который сдох. Да и откуда ей было знать, что для конспирации Сталина и Ленина в их семье с давних пор называли по первой букве их партийных кличек, «с» и «л», да и то на потаенном древнем языке – «самех» и «ламед».
Тем временем любимый голос страны сообщил, что болезнь вовсе не насморк.
Галя уже натянула форму и теперь искала фартук. Куда задевала? Полезла под топчан – не завалился ли туда?
Вдруг мать ворвалась с кухни с ножом в одной руке и картофелиной в другой. Она выла не своим голосом, так что Галя подумала, что мать руку порезала. Но крови видно не было.
Отец, тяжелый по утрам, оторвал голову от подушки:
– Что орешь, Нинка? Что орешь с утра пораньше?
Но мать выла все громче, и слов было почти не разобрать в ее обрывчатых воплях:
– Умер! Что спишь, дурак? Вставай! Сталин умер!
– Объявили, что ли? – отец приподнял большую голову с прилипшим ко лбу чубом.
– Сказали, заболел. Но помер он, вот те крест, помер! Чует мое сердце!
Дальше шли опять невнятные вопли, среди которых прорезался драматический вопрос:
– Ой-ой-ой! И что теперь будет? Что будет теперя со всеми нами? Будет-то что?
Отец, поморщившись, грубо сказал:
– Ну что ты воешь, дура? Что воешь? Хуже не будет!
Галя вытащила наконец фартук – он и точно завалился под топчан.
– А пусть мятый – не буду гладить! – решила она.
К утру температура спала, и Оля заснула хорошим сном – без поту и без кашля. И спала почти до обеда. Проснулась, потому что в комнату вошла мать и произнесла громким торжественным голосом:
– Ольга, вставай! Случилось несчастье!
Не открыв еще глаз, еще спасаясь в подушке в надежде, что это сон, но уже ощущая ужасный стук в горле, Оля подумала: «Война! Фашисты напали! Началась война!»
– Ольга, вставай!
Какая беда! Фашистские полчища топчут нашу священную землю, и все пойдут на фронт, а ее не возьмут…
– Сталин умер!
Сердце еще колотилось в горле, но глаза она не открывала: слава богу, не война. А когда война начнется, она уже будет взрослой, и тогда ее возьмут. И она накрыла голову одеялом, пробормотала сквозь сон: «И тогда меня возьмут», – и уснула с хорошей мыслью.
Мать оставила ее в покое.
Школьные годы чудесные…
Интересно проследить траекторию движения, приводящего к неминуемой встрече предназначенных друг другу людей. Иногда такая встреча происходит как будто без особых усилий судьбы, без хитроумной подготовки сюжета, следуя естественному ходу событий, – скажем, люди живут в одном дворе или ходят в одну школу.
Эти трое мальчишек вместе учились. Илья и Саня – с первого класса. Миха попал к ним позже. В той иерархии, которая выстраивается самопроизвольно в каждой стае, все трое занимали самые низкие позиции – благодаря полнейшей непригодности ни к драке, ни к жестокости. Илья был длинным и тощим, руки и ноги торчали из коротких рукавов и штанин. К тому же не было гвоздя и железяки, которые не вырвали бы клок из его одежды. Его мать, одинокая и унылая Мария Федоровна, из сил выбивалась, чтобы наставить кривые заплаты совершенно кривыми руками. Искусство шитья ей не давалось. Илья, всегда одетый хуже других, тоже плохо одетых ребят, постоянно паясничал и насмешничал, делал представление из своей бедности, и это был высокий способ ее преодоления.
Санино положение было худшим. Зависть и отвращение вызывали у одноклассников курточка на молнии, девичьи ресницы, раздражающая миловидность лица и полотняные салфетки, в которые был завернут домашний бутерброд. К тому же он учился играть на пианино, и многие видели, как он с бабушкой в одной руке и нотной папкой в другой следовал по улице Чернышевского, бывшей и будущей Покровке, в музыкальную школу имени Игумнова – иногда даже в дни своих многочисленных не тяжелых, но затяжных болезней. Бабушка – сплошной профиль – ставила впереди себя тонкие ноги, как цирковая лошадь, и мерно покачивала при ходьбе головой. Саня шел сбоку и чуть сзади, как полагается груму.
В музыкальной школе, не то что в общеобразовательной, Саней восхищались – уже во втором классе на экзамене он играл такого Грига, которого не каждый пятиклассник мог осилить. Умилению способствовал и малый рост исполнителя: в восемь лет его принимали за дошкольника, а в двенадцать – за восьмилетнего. В общеобразовательной школе по той же самой причине у Сани было прозвище Гном. И никакого умиления – одни злые насмешки. Илью Саня сознательно избегал: не столько из-за автоматического ехидства, специально на Саню не направленного, но время от времени задевающего, сколько из-за унизительной разницы в росте.
Соединил Илью и Саню Миха, когда появился в пятом классе, вызвав общий восторг: он был идеальной мишенью для всякого неленивого – классическим рыжим. Наголо стриженная голова, отливающий красным золотом кривой чубчик, прозрачные малиновые уши парусами, торчком стоящие на неправильном месте головы, как-то слишком близко к щекам, белизна и веснушчатость, даже глаза с оранжевым переливом. К тому же – очкарик и еврей.
Первый раз Миху поколотили уже первого сентября – несильно и назидательно – на большой перемене в уборной. И даже не сами Мурыгин и Мутюкин – те не снизошли, – а их подпевалы и подвывалы. Миха стоически принял свою дозу, открыл портфель, достал платок, чтобы стереть выбежавшие сопли, и тут из портфеля высунулся котенок. Котенка отобрали и стали перекидывать из рук в руки. Зашедший в этот момент Илья – самый высокий в классе! – поймал котенка над головами волейболистов, и прозвеневший звонок прервал это интересное занятие.
Входя в класс, Илья сунул котенка подвернувшемуся Сане, и тот спрятал его в свой портфель.
На последней перемене главные враги рода человеческого, имена которых, Мурыгин и Мутюкин, послужат основой для будущей филологической игры и по многим причинам стоят упоминания, котенка немного поискали, но вскоре забыли. После четвертого урока всех отпустили, и мальчишки с гиком и воем рванулись вон из школы, оставив этих троих без внимания в пустом классе, уставленном пестрыми астрами.
Саня вытащил полузадохшегося котенка и протянул Илье. Тот передал его Михе. Саня улыбнулся Илье, Илья – Михе, Миха – Сане.
– Я стихотворение написал. Про него, – застенчиво сказал Миха. – Вот.
- Он был красив среди котов
- И к смерти был почти готов,
- Илья его от смерти спас,
- И с нами он теперь сейчас.
– Ну, ничего. Не Пушкин, конечно, – прокомментировал Илья.
– «Теперь сейчас» не может быть, – заметил Саня, и Миха самокритично согласился:
– Да, точно. И с нами он сейчас. Без «теперь» звучит лучше!
Миха подробно рассказал, как утром, по дороге в школу, вытащил бедолагу-котенка почти из самой пасти собаки, которая собиралась его загрызть. Но отнести его домой он не мог, потому что тетя, у которой он жил с прошлого понедельника, еще неизвестно как бы к этому отнеслась.
Саня гладил котенка по спинке и вздыхал:
– Я не могу его взять, у нас дома кот. Ему точно не понравится.
– Ладно, я его возьму. – И Илья небрежно перехватил котенка.
– И дома – ничего? – поинтересовался Саня.
Илья усмехнулся:
– Дома как я скажу, так и будет. У нас с матерью нормальные отношения. Она меня слушает.
«Он совсем взрослый, я никогда таким не стану, я даже не смогу выговорить: “У нас с матерью нормальные отношения”. Все правильно: я – маменькин сынок. Хотя и меня моя мама слушает. И бабушка слушает. О, больше чем слушает! Но все равно это по-другому», – опечалился Саня.
Он смотрел на костлявые руки Ильи в желтых и темных пятнах, в ссадинах. Длинные пальцы, две октавы возьмет такими пальцами. Миха пристраивал тем временем котенка у себя на голове, на рыжем плюшевом чубчике, оставленном вчера «на развод» великодушным парикмахером у Покровских ворот. Котенок скатывался, Миха все усаживал его на темечко.
Они вышли из школы втроем. Котенка покормили растаявшим мороженым. У Сани были деньги. Их хватило на четыре порции. Как выяснилось позже, у Сани почти всегда были деньги… Первый раз в жизни Саня ел мороженое на улице прямо из пачки: когда бабушка покупала мороженое, его несли домой, клали оседающей горкой в стеклянную вазочку на низкой ножке, сверху капали вишневым вареньем – и только так!
Илья с воодушевлением рассказал, какой фотоаппарат он купит себе на первые заработанные деньги, а заодно изложил план, как именно эти деньги можно заработать.
Саня ни с того ни с сего вдруг открыл свою тайну – руки у него маленькие, «непианистические», и это для исполнителя большой недостаток.
Миха, обживавший новую – третью по счету – родственную семью за последние семь лет, сообщил этим почти незнакомым мальчишкам, что родственники уже кончаются, и если эта тетка его у себя держать не станет, то придется опять в детский дом идти…
Новая тетка, Геня, была женщина слабая. У нее не было какой-то определенной болезни; скорбно и значительно она говорила про себя: «Я вся больная» – и постоянно жаловалась на боли в ногах, в спине, в груди и в почках. Кроме того, у нее была дочь-инвалид, что тоже плохо отражалось на ее здоровье. Всякая работа была ей тяжела, и в конце концов семья решила, что сироту-племянника поселят у нее, а ей будут собирать по родне деньги на его содержание. Миха, как ни крути, был сыном их погибшего на войне брата.
Мальчишки брели и болтали, болтали и брели, а потом остановились возле Яузы, замолчали. Почувствовали одновременно – как хорошо: доверие, дружество, равноправие. И мысли нет, кто главней, напротив, все друг другу равно интересны. А про Сашу с Ником, про клятву на Воробьевых горах они еще не знали, даже начитанный Саня Герцена еще не открывал. Да и гнилые эти места – Хитровка, Гончары, Котельники – столетиями считались самыми вонючими в городе и не созданы были для романтических клятв. Но что-то важное произошло: такая сцепка между людьми возможна только в юном возрасте. Крючок впивается в самое сердце, и нить, связывающая людей детской дружбой, не прерывается всю жизнь.
Спустя некоторое время этот союз сердец после долгих споров, отвергнув «Троицу» и «Трио», они назовут напыщенно: «Трианон». Они ничего не знали о разделе Австро-Венгрии, слово было выбрано за красоту.
Этот «Трианон» через двадцать лет промелькнет в тягостной беседе Ильи с сотрудником госбезопасности высокого ранга, но так и не установленного чина, и с не вполне достоверным именем, Анатолием Александровичем Чибиковым. Даже самые ушлые из всей гэбэшной банды борцы с диссидентами тех лет постеснялись провести «Трианон» как молодежную антисоветскую организацию.
Надо отдать должное Илье: с появлением первого фотоаппарата он стал создавать настоящий фотоархив, который полностью сохранился до наших дней. Правда, на первой папке школьных лет стояло другое название, не менее загадочное, чем «Трианон», – «Люрсы».
Итак, соединил мальчиков – и это было впоследствии документировано – не высокий идеал свободы, ради которого следовало либо немедленно пожертвовать жизнью, либо, что более скучно, всю жизнь год за годом отдавать на служение неблагодарному народу, как это произошло с Сашей и Ником за сто с лишним лет до того, – а чахлый котенок, которому не суждено было пережить потрясений первого сентября 1951 года. Бедняга скончался спустя два дня на руках Ильи и был похоронен тайно, но торжественно под садовой скамьей во дворе дома № 22 по улице Покровка (в те времена Чернышевского, тоже потратившего свою жизнь на благородные идеи). Дом когда-то имел прозвище «комод», но из теперешних его обитателей мало кто об этом мог быть наслышан.
Котик покоился под садовой скамейкой, на которой сиживал некогда – предположительно – юный Пушкин со своими кузинами, забавляя их складными стишками. Санина бабушка постоянно напоминала: дом, в котором они живут, знавал лучшие времена.
Удивительным образом в классе довольно быстро – через две недели или через месяц – что-то поменялось. Миха, конечно, не почувствовал, откуда ему знать, как было раньше, он был новичок. А Саня с Ильей ощутили: в классе они по-прежнему располагались в самом низу иерархии, но теперь не поодиночке, а совокупно. И стали они, таким образом, признанным меньшинством по тому самому неопределенному признаку, из-за которого они не могли влиться в общую среду малого мира. Два вождя, Мутюкин и Мурыгин, держали всех остальных в руках, а когда ссорились между собой, то и класс разделялся на две враждующие партии, к которым изгои никогда не примыкали, да их и не приняли бы. Тогда происходили веселые, злобные, с кровянкой и без, потасовки, и все про них забывали. А потом, когда Мутюкин и Мурыгин мирились, опять начинали замечать этих непарных, некомпанейских чужаков, которых избить как следует труда не составляло, но интереснее было держать их в страхе и беспокойстве и постоянно напоминать, кто здесь главный: еврей-очкарик, музыкант, школьный шут или «нормальные ребята», как Мутюкин и Мурыгин.
В пятом классе началась средняя школа, и теперь вместо единственной на всю грамматику и арифметику Натальи Ивановны, доброй тетеньки, научившей азбуке даже Мутюкина и Мурыгина, которых она звала ласково Толенькой и Славочкой, появились предметники: математик, русичка, ботаничка, историчка, немка и географ.
Предметники были помешаны каждый на своем предмете, задавали большие домашние задания, и «нормальные ребята» явно не управлялись. Илья, который в начальной школе никак не блистал, подтянулся в окружении новых друзей, и к концу второй четверти, то есть к Новому году, обнаружилось, что низкосортные очкарики и слабаки здорово учатся, а Мутюкин с Мурыгиным еле тянут. Конфликт, который взрослые люди назвали бы социальным, обострялся, приобретал более осознанный характер, по крайней мере со стороны притесняемого «меньшинства». Именно тогда Илья впервые ввел термин, который сохранился в их компании на долгие годы, – «мутюки и мурыги». Это был почти синоним знаменитым «совкам» более позднего времени, но прелесть была в его рукотворности.
Наибольшее раздражение у «мутюг и мурыг» вызывал Миха, ему больше всех доставалось, но он, с детдомовским опытом, легко переносил школьные побои, никогда не жаловался, встряхивался, подбирал шапку и улепетывал под улюлюканье врагов. Илья с успехом паясничал, так что ему часто удавалось сбить врагов с толку насмешкой или поразить неожиданной выходкой. Саня оказался наиболее чувствительным. Впрочем, именно эта неприличная чувствительность послужила в конце концов ему защитой. Однажды, когда Саня мыл руки над раковиной в школьном сортире – помеси парламента и воровской сходки, – Мутюкин проникся глубоким отвращением к этому невинному занятию и предложил Сане вымыть заодно и рожу. Саня, отчасти из миролюбия, но отчасти из трусости, умылся, и тогда Мутюкин взял половую тряпку и вытер ею Санино мокрое лицо. К этому времени их уже окружало кольцо любопытствующих: ожидали развлечения. Но развлечения не вышло. Саня затрясся, побледнел и, потеряв сознание, упал на кафельный пол. Жалкий противник был, конечно, повержен, но каким-то неудовлетворительным образом. Он лежал на полу в странной позе, весь запрокинувшись. Мурыгин тихонько попихал его ногой в бок, просто проверить, чего тот лежит без движения. Позвал его вполне незлобиво:
– Эй, Санек, чего разлегся-то?
Мутюкин очумело смотрел на бездвижного Саню.
Но Саня глаз не открывал, невзирая на бодрящие тычки. Тут в уборную вошел Миха, взглянул на немую картину и понесся к школьному врачу. Понюшка нашатыря вернула Саню к жизни, физкультурник отнес его в медицинский кабинет. Врачиха измерила Сане давление.
– Как ты себя чувствуешь? – спросила она.
Он ответил, что вполне удовлетворительно, но не сразу вспомнил, что произошло. А когда вспомнил грязную тряпку, которой возили по лицу, его затошнило. Он попросил мыла, тщательно умылся. Врачиха хотела вызвать родителей. Саня не без труда уговорил ее не звонить. Мама все равно была на работе, а бабушку он оберегал от неприятностей. Илья вызвался сопровождать ослабевшего друга домой, и врачиха дала записку, что отпускает их с урока.
Санин статус с этого дня, как ни странно, повысился. Его, правда, звали теперь «Гном припадочный», но задирать перестали: а ну как снова грохнется в обморок?
Тридцать первого декабря школу распустили, начались зимние каникулы, одиннадцать дней счастья. Миха запомнил каждый из этих дней в отдельности. На Новый год ему подарили сказочный подарок. После секретных переговоров с сыном, получив от него заверения, что его потомство отказывается от этой части семейного наследства, а сам он не возражает, тетя Геня вручила Михе коньки.
Это был американский, давно вышедший из употребления гибрид, нечто среднее между «снегурками» и «гагами», с двойными полозьями, зазубренным носком. Коньки были приделаны к разбитым ботинкам бывшего красного цвета крупными звездчатыми клепками. На металлической пластине, соединяющей лезвия с ботинками, можно было прочитать “Einstein” и ряд непонятных цифр и букв… Ботинки были сильно биты предшествующим хозяином, но сами лезвия блестели как новенькие.
Тетя Геня относилась к конькам как к семейной реликвии. В других семьях относились так к бабушкиным бриллиантам.
Бриллианты в истории этих коньков тоже косвенным образом присутствовали. В 1919 году старшего брата тети Гени Самуила сам Ленин послал в США для организации Американской коммунистической партии. Самуил весь остаток жизни гордился этой миссией и рассказывал в деталях о своей поездке близким родственникам и близким друзьям, которых было несколько сотен, пока не был арестован в тридцать седьмом. Он получил десять лет без права переписки и исчез навеки, но его великая история стала семейной легендой.
В июле девятнадцатого года кружным путем Самуил доехал из Москвы через Северную Европу до Нью-Йорка и ступил на пирс как матрос, прибывший на торговом судне из Голландии. Он сошел по трапу, грохоча каблуками ботинок, пошитых кремлевским сапожником, с замурованным в каблуке огромной стоимости бриллиантом. Он выполнил задание – от имени Коминтерна открыл первый подпольный съезд компартии. Через несколько месяцев Самуил вернулся и доложил лично товарищу Ленину о выполнении задания.
Его скромные командировочные, за вычетом двенадцати долларов, потраченных на питание, пошли на подарки. Он привез жене красное шерстяное платье с вязаными ягодами на вороте и на плечах и красные туфли на три размера меньше, чем было нужно. Коньки были третьим и самым дорогим американским подарком в его багаже – куплены были на вырост малолетнему сыну, который вскоре умер.
Лучше бы купил коньки себе. Мальчишкой Самуил так мечтал выйти на середину катка и промчаться, пригнувшись к маслянистому льду, мимо всех своих недоброжелателей, мимо дам с муфтами, гимназистов и барышень, среди которых непременно должна была на-ходиться Маруся Гальперина… Коньки долго лежали в сундуке, ожидая появления нового наследника. Но детей у Самуила больше не случилось, и коньки, пролежав десять лет под спудом, достались сыну Гени, младшей сестры.
Теперь, спустя еще двадцать лет, они перешли в руки – точнее, в ноги – другому родственнику героического Самуила.
Таким неожиданным подарком, превышающим все представления о возможном счастье, закончился для Михи первый день каникул. И ничто не предвещало беды, которая из этого подарка вскоре последовала…
В новогодний вечер большая семья тети Гени собиралась за столом, который с разрешения соседей накрывали на просторной коммунальной кухне, а не в четырнадцатиметровой комнате, где проживала сама тетя Геня, ее незамужняя и неудачная в эндокринологическом отношении дочка Минна и с некоторых пор Миха. Еду тетя Геня приготовила богатую – сразу и курицу, и рыбу. Ночью, после памятного застолья, Миха написал стихотворение, в котором отразил незабываемые впечатления дня.
- Коньки прекраснее всего,
- Что в жизни видел я,
- Прекрасней солнца и воды,
- Прекраснее огня.
- На них прекрасен человек,
- Который на коньках.
- И стол накрыт, как на балу,
- Не перечесть всех ед,
- И можно только пожелать
- Родне больших побед.
Первоначально вместо «ед» стояло «яств». Но к «яствам» никакой рифмы, кроме «пьянства» в родительном падеже, не находилось.
Миха всю неделю вставал затемно и выходил во двор, на залитый пятачок катка, катался в одиночестве и уходил, как только во дворе появлялись отсыпавшиеся в дни каникул ребята. Он не очень твердо стоял на коньках и боялся, что не сможет отбить их в случае нападения.
Коньки были, конечно, в те каникулы событием номер один. Номер два – Санина бабушка Анна Александровна. Она водила мальчиков в музеи.
Пробрало не только Миху, который по природе своей наполовину состоял из жажды знаний, научного и ненаучного любопытства и восторга, а на вторую половину из неопределенного творческого горения. Походы в музеи произвели глубокое впечатление даже на Илью, который, казалось, художественными запросами не отличался, а больше склонялся к технике. Только Санечка, владелец потрясающей бабушки, обыденно переходил из зала в зал и время от времени подавал реплики – не друзьям, бабушке! – из которых следовало, что и здесь, в музеях, он, как и в консерватории, свой человек.
В Анну Александровну Миха влюбился. На всю жизнь, до самой ее смерти. Она же увидела в нем будущего мужчину той породы, какая ей всегда нравилась. Мальчонка был рыж, он был поэт, и в ту неделю он даже прихрамывал, перекатавшись на новых коньках, – точь-в-точь как тот поэт, почти великий, в которого Анна Александровна была тайно влюблена тринадцатилетней девочкой… Сам эталон, в ту далекую пору взрослый мужчина в ореоле борца и почти мученика, пользовавшийся в начале двадцатого века большим успехом, не заметил влюбленную барышню, но оставил глубокий отпечаток на какой-то фрейдовской изнанке ее психики: всю длинную жизнь ей нравились такие вот рыжие, яркие, эмоциональные мужчины.
Она улыбалась, глядя на Миху – малыш той самой породы, но разошлись во времени… И приятно было ловить его восторженный взгляд.
Таким образом, сам того не ведая, Миха пользовался взаимностью. С той зимы он стал частым гостем в доме Стекловых. В большой комнате с тремя окнами и еще половиной окна, рассеченного надвое перегородкой, под высоченным потолком с лепниной, тоже рассеченной, гнездились невиданные книги, и даже на иностранных языках. В позе всегдашней боевой готовности стояло пианино с упрятанной в него музыкой. Время от времени всплывали непривычные, но восхитительные запахи – настоящего кофе, мастики, духов.
«Наверное, именно так все и было в доме моих родителей», – думал Миха. Родителей он не помнил: мать погибла при бомбежке последнего состава, который шел из Киева на восток восемнадцатого сентября сорок первого года, когда немцы уже подходили к Подолу. Отец погиб на фронте, так и не узнав о гибели жены и спасении сына.
На самом деле в доме Михиных родителей все было совсем не так, как у Сани Стеклова, и фотографии родителей, чудом сохранившиеся после войны, он впервые увидел уже двадцатилетним. Там были изображены бедные некрасивые люди, сильно его разочаровавшие, – мама с фальшивой улыбкой на маленьких темных губах и с огромным бесстыжим бюстом и папа, толстый коротышка с необыкновенной важности лицом. Сзади топорщились фрагменты быта, ничем не напоминавшие отрезок малой залы бывшей усадьбы Апраксиных-Трубецких, в котором обитало семейство Сани.
Девятого января, под конец каникул, справляли Санин день рождения. До этого было еще и Рождество, но на него приглашались только взрослые гости. Прошло еще несколько лет, прежде чем ребят стали принимать и седьмого января. Зато на Санин день всегда оставались всякие рождественские сладости – засахаренные яблоки, вишни, даже апельсиновые корочки, которые готовила Анна Александровна как никто в мире. И еще: складывали ширму, переносили ближе к двери обеденный стол и между двумя окнами воздвигали большую елку, украшенную невиданными игрушками из коробки, хранившейся весь год на антресолях.
Праздник Сане всегда устраивали прекрасный. Там бывали даже девочки: на этот раз две Санины подруги, Лиза и Соня, из музыкальной школы, и внучка бабушкиной подруги Тамара со своей подружкой Олей, но они были совсем маленькие, первоклашки, и никакого интереса у мальчиков не вызвали. Да и сама эта бабушкина подруга была маловыразительная и кое-какая. Зато дедушка Лизы, Василий Иннокентиевич, в военной форме, с усами, окруженный сложным запахом одеколона, медицины и войны, был великолепен. К внучке своей он полушутя обращался на «вы», а Анне Александровне говорил: «Нюта, ты…» Он был ее двоюродным братом, и Лиза, таким образом, приходилась Сане сколькотоюродной сестрой. Даже прозвучали дореволюционные слова «кузен», «кузина» – тоже, вероятно, из той коробки на антресолях…
Анна Александровна называла девчонок барышнями, мальчишек молодыми людьми, и Миха был ошеломлен всем этим великосветским обращением, совершенно растерян и успокоился, лишь когда Илья подмигнул ему издали с таким выражением лица – мол, не боись, не обидят!
Анна Александровна все организовала незабываемым образом. Сначала был кукольный театр с настоящей ширмой, Петрушкой, Ванькой и толстой куклой Розой. Они смешно дрались и ругались на иностранном языке.
Потом немного поиграли в слова. Маленькие девочки Тамара и Оля не отставали от взрослых, оказались не по годам развитыми. Анна Александровна пригласила детей к овальному столу, а взрослые второстепенно пили чай за шкафом. Василий Иннокентиевич сидел в кресле и курил папиросу. После окончания домашнего спектакля Анна Александровна вынула из серебряного портсигара, который лежал перед Василием Иннокентиевичем на столике, толстую папиросу, закурила, но тут же закашлялась:
– Базиль, ужасно крепкие папиросы!
– Потому я их никому и не предлагаю, Нюта.
– Фу, фу! – разгоняла перед собой пахучий дым Анна Александровна. – Откуда ты их берешь?
– Я табак покупаю, а Лизка гильзы набивает.
Но это был далеко не конец праздника. После театра был сладкий стол, который Миха запомнил на всю жизнь, – от самодельного крюшона до желтых костяных колец, в которые были всунуты салфетки из жесткой белой ткани.
Илья с Михой переглядывались. Это был тот момент, когда Саня существовал единолично и высоко, а они вдвоем отдельно от него и чуть пониже. Дружба втроем, как и всякий треугольник, вещь непростая. Возникают препятствия и соблазны – ревности, зависти, иногда вплоть до мельчайшей, даже извинительной, но подлости. Оправдывается ли подлость нестерпимо большой любовью? Нестерпимо большой ревностью и болью? Чтобы разобраться в этом, им троим была дана на редкость подходящая для этого эпоха и целая жизнь – кому короче, кому длиннее…
В этот вечер не только зажатый Миха, но даже разбитной Илья чувствовали себя несколько униженными великолепием дома. Саня, более всего занятый длиннолицей Лизой с распущенными из-под синей ленты волосами, что-то почуял, отозвал Миху, они долго шептались между собой, а потом привлекли Анну Александровну. Немного погодя объявили, что будут ставить шараду. Затем Саня перевернул небольшой странноватый стул, и тот превратился в невысокую лесенку. Саня залез на самый верх, так что стал много выше Михи, а тот стал на ступеньку пониже, и они прочитали на два голоса, пихаясь, толкая друг друга, дергая друг друга за уши, мыча и издавая разные непонятные звуки, следующее почти-стихотворение:
- Мое первое на двоих одно —
- разговор на лугу двух почтенных особ,
- мое второе – в одном случае ноша – «тяжело – ух!»,
- в другом – не вполне приличный звук,
- издаваемый после еды,
- мое третье, снова на двоих одно, —
- в немецком языке предлог.
- Вместе – имена двух существ,
- условно принадлежащих виду Homo sapiens.
Гости смеялись, но разгадать, конечно, никто не мог. Среди гостей был только один человек, способный разгадать эту лингвистическую загадку, – Илья. И он не подвел. Дав гостям убедиться, что решение им не по зубам, он объявил не без гордости:
– Я знаю, эти животные называются Мутюкин и Мурыгин!
По совести говоря, эту шараду нельзя было ставить, ведь никто из гостей никогда слыхом не слыхивал ни о каких Мурыгиных и Мутюкиных, но никто их в этом не укорял. Было весело, чего еще надо?
Но внутри мальчишеской компании что-то повернулось: Миха, участвуя в сочинении шарады, подтянулся до Сани, а Илья даже и превознесся над ними – ведь именно он оказался разгадчиком, поддержал игру. Ее можно было бы считать неудачной, если б никто не отгадал. Молодец Илья!
Мальчишки обнялись, и Василий Иннокентиевич сфотографировал их втроем. Это была их первая совместная фотография.
Фотоаппарат у Василия Иннокентиевича был трофейный, замечательный – это Илья заметил. И еще заметил, что погоны полковничьи и со змейками. Военный врач…
Десятого января Анна Александровна повела мальчиков на фортепианный концерт в зал Чайковского – слушать Моцарта. Илье было здорово скучно, он даже заснул ненадолго, Миха пришел в большое возбуждение, потому что музыка эта вызвала восторг и смятение такие сильные, что он даже не смог написать по этому поводу стихотворения. Саня почему-то расстроился, чуть не плакал. Анна Александровна знала почему: Сане хотелось бы тоже вот так играть Моцарта…
Одиннадцатого пошли в школу, и в первый же день их троих и еще одного, Игоря Четверикова, в школьном дворе здорово изметелили. Началось с невинного обстрела снежками, а кончилось большим поражением: у Михи был подбит глаз, сломаны очки, Илье разбили губу. Обидно, что нападающих было всего двое, а их четверо. Саня по обыкновению держался чуть поодаль – скорее из деликатности, а не из трусости. Мурыгин и Мутюкин вызывали такое же отвращение, как незабываемая тряпка, которой возили по его лицу. На Саню противники вообще не обращали внимания, рыжий Миха, закатавший Мурыгину каменной твердости снежок ровно в нос, их интересовал гораздо больше. Илья отплевывал кровь у забора, Четвериков колебался, не пора ли дать деру, а Миха, прислонившись спиной к стене, стоял на изготовку с красными кулаками впереди лица. Кулаки у Михи были большие, почти мужского размера.
И тогда Мутюкин вытащил складной нож, похожий на перочинный, но, видно, для очень уж больших перьев, из него выскочило тонкое лезвие, и он пошел враскачку прямо на Миху с его глупыми кулаками. И тогда Саня взвизгнул, подпрыгнул, сделал два нескладных прыжка и схватился рукой за лезвие. Кровь хлынула неправдоподобно быстро, Саня махнул рукой, красная струя залила Мутюкину все лицо. Мутюкин завопил, как будто это ему нанесли ножевое ранение, и мгновенно унесся, сопровождаемый Мурыгиным. Но о победе никто не думал. Миха плохо видел происшедшее – он был без очков. Четвериков кинулся запоздало за Мурыгиным, но смысла в погоне не было ни малейшего. Илья перетягивал руку Сани шарфом, но кровь хлестала как из водопроводного крана.
– Беги к Анне Алексанне, быстро! – крикнул Илья Михе. – А ты давай в школу, к врачихе.
Саня был без сознания – то ли от испуга, то ли от кровопотери. В Институт Склифосовского его доставили через двадцать пять минут. Кровь быстро остановили, рану зашили. Через неделю выяснилось, что четвертый и пятый пальцы не разгибаются. Пришел профессор, распеленал маленькую Санину кисть, порадовался, как хорошо идет заживление, и объявил, что этот чертов нож перерезал глубокую поперечную пястную связку, и он очень удивлен, что не разгибаются только два пальца, а не все четыре.
– Можно ли это разработать? Массаж? Электрофорез? Какие-нибудь новые процедуры? – спросила Анна Александровна у профессора, который посмотрел на нее с уважением.
– Обязательно. После полного заживления. Частично восстановится подвижность. Но, видите ли, сухожилия – это не мышцы.
– А музыкальный инструмент?
Профессор улыбнулся с сочувствием:
– Маловероятно.
Не знал, что подписал приговор. Анна Александровна ничего этого Сане не сказала, и полгода после выписки они ходили на процедуры.
В больницу к Сане сразу после операции прибежала директорша, разговоры о ноже дошли до нее, и она перепугалась. На допросе Ларисы Степановны Саня вел себя замкнуто и твердо: повторил раз пять, что нашел ножик в школьном дворе, нажал на кнопку, и лезвие выскочило, разрезав ему ладонь. А чей нож – понятия не имел. «Вещдок» обнаружили на следующий день после происшествия. Нож лежал, как в кино, посреди пропитанного кровью островка снега. Его доставили директрисе, и он был уложен в верхний ящик ее письменного стола.
Тетя Геня долго стонала над Михиными разбитыми очками, мать Ильи поругала его немного за драчливость, а Игорю Четверикову и вообще удалось скрыть происшествие от родителей.
С этого дня он хотя не вошел в «Трианон» полноценным членом, но считался сочувствующим. Дальнейшее развитие событий, растянувшееся, правда, на четверть века, подтвердило, что все на свете закономерно – не напрасно потрепали этого будущего диссидента сверхъестественно прозорливые мелкие хулиганы.
Когда дело о взволновавшем всю школу побоище усилиями директорши удалось замять, от Мутюкина и Мурыгина на время отстали, они поссорились и дрались теперь между собой. Класс раскололся на два лагеря, и у всех была интересная жизнь – с вражескими лазутчиками, перебежчиками, переговорами и стычками. Боевой дух овладел большинством, а меньшинство расслабилось и разнежилось.
Саня пришел в школу через три недели с перевязанной рукой, ходил несколько дней, после чего заболел ангиной и до конца третьей четверти в школе не появлялся. Илья с Михой навещали его почти ежедневно, приносили уроки. Анна Александровна поила их чаем с яблочным пирогом, который назывался «пай». Это было первое английское слово, которое усвоил Миха. Саню английскому и французскому учили с детства. В школе как раз с пятого класса преподавали отвратительный немецкий. Но Анна Александровна по части немецкого языка оказалась неожиданно требовательна, стала заниматься с Саней дополнительно, пригласив для компании и Саниных друзей. Илья уклонялся, а Миха прибегал на уроки как на праздник.
Одновременно Анна Александровна подарила Михе старый английский учебник для начинающих.
– Учи, Миха, при твоих способностях сам все одолеешь. Я дам тебе несколько уроков, чтоб произношение поставить.
Так с барского стола валились на Миху щедрые дары.
У Сани настроение было странное: ничему не мешали подогнутые немного внутрь два крайних пальца, и даже было незаметно, потому что люди обычно не держат пальцы врастопырку, а всегда немного поджимают их внутрь. Но они означали полную перемену жизни, полную перемену планов. Он целыми днями слушал музыку и наслаждался как никогда прежде: он больше не беспокоился о том, что не сможет играть как великие музыканты… Язва неуверенности в своих талантах больше не точила его. Лиза – единственная! – понимала:
– Ты теперь свободней тех, кто пытается стать музыкантом. Немного завидую тебе…
– А я – тебе, – признавался Саня.
Они вместе ходили в консерваторию: Анна Александровна с Саней, Лиза с дедушкой, к ним присоединялась какая-нибудь бабушкина подруга, чья-нибудь племянница, родственница. Иногда, если был просвет в работе, приходил Лизин отец, Алексей Васильевич, тоже хирург, как и Василий Иннокентиевич, и видно было, какое между ними сильное фамильное сходство: удлиненные лица, высокие лбы, тонкие носы с кавказской горбинкой. Впрочем, тогда казалось, что все посетители консерватории между собой в родстве и, уж во всяком случае, все между собой знакомы. Это было особое малое население, затерянное в огромном многолюдстве города, – как религиозный орден, скрытая каста, может быть, даже как тайное общество…
В начале года вообще произошло множество событий.
Из Ленинграда приехал отец Ильи, Исай Семенович. Приезжал он раз-два в год, всегда с подарками. В прошлом году отец привез тоже хороший подарок – немецкую готовальню, но от нее, кроме красоты, никакого прока не было. На этот раз привез фотоаппарат «ФЭД-С», довоенный, сделанный руками мальчишек из трудовой коммуны имени Дзержинского и представлявший собой точную копию немецкой «лейки». Отец дорожил этим старым аппаратом – он был в войну корреспондентом, почти три года таскал его с собой – и теперь подарил своему единственному сыну, рожденному от южного романа с невзрачной немолодой девушкой Машей. Маша ни на что не рассчитывала, ни на что не претендовала, тихо любила сына, радовалась, что Исай не бросает его, дает иногда деньги, то вдруг помногу, то подолгу совсем ничего. В ласках Маша бывшему любовнику последовательно отказывала, чем подогревала к себе интерес. Она улыбалась, угощала пирогом, стелила хрустящее крахмалом белье, уходила на диванчик к сыну и ложилась рядом с ним «валетом». Исай же все более на нее дивился и все более о ней думал.
Фотоаппарата было немного жалко, но он переборол привязанность к верной и нужной вещи – чувство вины перед заброшенным мальчишкой перевесило. Были у него камеры и получше. И еще была семья и две любимые дочки, которые совершенно не интересовались никакой фототехникой. Мальчонка же просто затрясся от этого подарка, и отец почувствовал досаду на жизнь, в которой все не так устроилось, как надо бы, и вместо кроткой Маши, в невзрачности которой проглядывала и миловидность, досталась ему грубая крикливая Сима, и теперь он уж не мог и припомнить, как и зачем оказался ее подкаблучником-мужем.
Он рассказал сыну, что такое камера-обскура, что темной коробки с маленьким отверстием и пластинки, покрытой светочувствительным веществом, достаточно, чтобы сделать снимок, остановить мгновение жизни. Мария Федоровна тут же сидела, подперев щеку рукой, и улыбалась своему крохотному счастью. Ей надо было зернышко одно, как синице… Исай видел это и видел, как быстро Илья все схватывает, какие ловкие у него руки – похож был, похож! – и уехал с твердым намерением поменять свою жизнь так, чтобы почаще видеться с сыном. И Маша, Маша его притягивала теперь больше, чем тогда, летом тридцать восьмого, когда взял он ее скорее по обязанности нестарого и дееспособного мужчины, чем по осмысленной симпатии. Жизнь менять было поздно. Но хоть немного: признаться наконец Симе, что есть у него довоенный отпрыск, которого неплохо бы принять в доме и познакомить с младшими сестрами… Но это было последнее свидание отца с сыном: спустя два месяца Исай Семенович, лишившись работы на «Ленфильме», умер от инфаркта.
В тот последний раз отец пробыл у них дня два. Мать, как всегда после его отъезда, несколько дней исподтишка плакала, а потом перестала. Жизнь у Ильи явственно распалась на две половины – до «ФЭДа» и после. Эта умная машинка постепенно пробудила упрятанный в глубинах талант. Он и раньше собирал коллекции всего, что попадало в поле зрения: еще во втором классе у него собралась коллекция перьев, потом были спичечные этикетки и марки. Но это была преходящая мелочь. А теперь, когда он освоил весь технологический процесс – от выбора выдержки до наката фотобумаги на стекло, – он начал коллекционировать мгновения жизни. В нем пробудилась настоящая страсть коллекционера, и она не утихла уже никогда.
К концу школы собрался настоящий фотоархив, довольно культурный: каждая фотография подписана карандашом на обороте – время, место, действующие лица, все негативы в конвертах… Фотоаппарат изменил жизнь еще и потому, что вскоре оказалось, что, кроме аппарата, нужно множество вещей, которые стоили больших денег. Илья сильно задумался, и тогда еще один талант в нем проснулся: предпринимательский. У матери он никогда денег не просил, научился добывать сам. Первый весенний почин того года – расшибалочка. Он лучше всех в школе играл в эту мальчишескую игру, а потом научился играть и в другие. Это приносило заработок.
Саня Стеклов не одобрял Илюшиной погони за деньгами, но Илья только пожимал плечами:
– Ты знаешь, сколько стоит пачка фотобумаги восемнадцать на двадцать четыре? А проявитель? Откуда мне брать?
И Саня замолкал. Он знал, что деньги берутся у мамы с бабушкой, и догадывался, что это не лучший способ.
Старенькая камера сделала Илью фотографом. Вскоре он понял, что ему нужна своя фотолаборатория. Обычно такие домашние лаборатории фотолюбители устраивали в ванных комнатах, где была проточная вода для промывки пленки. Но в их коммуналке никакой ванной не было. Был чулан, где три семьи хранили тазы для мытья и корыта для стирки, а также другие нужные вещи. Чулан имел общую стену с уборной, где водопровод был, так что Илья сразу же начал обдумывать план, как туда воду отвести и как вывести. О соседях, имевших равные права на чулан, Илья сразу не подумал.
В квартире, кроме Ильи с матерью, еще жила безвредная одинокая старушка Ольга Матвеевна и вдова Граня Лошкарева с тремя детьми, из которых двух младших Марья Федоровна часто сама водила в сад, где и работала. И вообще Марья Федоровна много помогала этой самой Гране.
Словом, Марья Федоровна попросила, и соседи ей не отказали – вытащили из чулана свои корыта, и теперь дело было за Ильей. Он еще успел написать отцу письмо с просьбой помочь устроить ему «проявочную». Отец растрогался, прислал сто пятьдесят рублей, а на переводе две строчки: «Приеду на майские праздники, все сделаем». Это было последнее его письмо – до майских он не дожил.
Воду в чулан протянули не сразу, года через полтора, но появился у Ильи свой закуток, где он теперь проводил много времени. Втащил туда найденный на помойке книжный шкаф, расположил в нем свое фотоимущество.
Пятый класс длился бесконечно. Шел тринадцатый год жизни – мальчишки постепенно наполнялись тестостероном, у самых ранних отрастала шерстка в укромных местах, открывались гнойнички на лбу, все чесалось, ломило, ныло, стало больше драк и ссор, и тянуло себя потрогать, облегчить неопределенное изнывание плоти.
Миха изнурял себя коньками. В результате тайных утренних тренировок он стал здорово кататься. И еще он пристрастился к чтению. Он и раньше читал все подряд, что в руки попадалось, а теперь Анна Александровна давала ему замечательные книги – Диккенса, Джека Лондона.
Тетя Геня ровно в десять часов вечера единократно всхрапывала с лошадиной силой, после чего до утра храпела тихонько и мерно. Минна укладывалась еще раньше и, покопошившись немного, быстро засыпала. Тогда Миха выскальзывал на кухню и читал там под общественной лампочкой сколько влезет, и ни разу не был пойман. Сидел, поковыривая тугие прыщи, с книжкой для юношества, ничего общего не имевшей с беспокойством его тела.
Саня как будто отставал от товарищей не только ростом – чистый лоб, чистый воротничок, нежный мальчик. Но и в нем тоже происходил процесс возмужания. Он объявил маме и бабушке, что больше не будет ходить на физиотерапию – всем ясно, что рука не выправится и музыкантом он никогда не будет. Мама и бабушка обе были музыкантами домашней квалификации, обе мечтали о музыкальной карьере, но обеим пришлось бросить обучение – время было совершенно немузыкальное, выли трубы, гремели литавры, звучали марши-гимны, замаскированные под уличные песни.
Лучшее, что было у двух одиноких женщин, – Саня, он обещал стать музыкантом, и все шло замечательно, и педагог был прекрасный, и намечалось будущее… Теперь, после несчастного случая с ножом, в музыкальную школу Саня перестал ходить. Анна Александровна и Надежда Борисовна подготовились к ответственному разговору заранее. Анна Александровна сказала, что при его музыкальности не следует так окончательно порывать с музыкой. Профессионалом он не будет, но что мешает ему заниматься игрой на фортепиано дома – в домашнем музицировании есть особая прелесть. Саня немного поупрямствовал, отказываясь, но недели через две согласился. Стал заниматься дома с бабушкиной подругой, Евгенией Даниловной.
Он играл своими маленькими бесперспективными, изувеченными руками на любимом пианино карельской березы. Млел от шопеновских вальсов, как его ровесники от дворовых девочек, к которым можно было прикоснуться в суматохе игр и беготни. Читал, играл, а иногда делал то, что мальчики его возраста способны делать только в виде наказания, – гулял вдвоем с бабушкой по близлежащим бульварам.
Года два ходила к ним Евгения Даниловна, а потом занятия эти расстроились. Отчасти из-за Лизы: успехи ее были столь велики, а Санины столь незначительны, что он стал отлынивать.
Анна Александровна была преподавателем русского языка, но особой квалификации – учила русскому иностранцев.
Что это были за иностранцы! Молодые люди из коммунистического Китая, приехавшие обучаться в Военной академии. Это была восьмая или девятая профессия из тех, которыми Анна Александровна овладела после окончания гимназии, и на этот раз ее все устраивало: и отношение к ней начальства, и неполный рабочий день, и очень хорошая зарплата с разного рода добавками и привилегиями, включая прекрасный военный санаторий, которым она имела право пользоваться раз в год бесплатно.
Надежда Борисовна, Санина мать, была рентгенотехником. Профессия редкая, вредная, однако с коротким рабочим днем и бесплатным молоком для укрепления здоровья. Жизнь, несмотря на то что они могли считаться хорошо устроенной семьей, была непростой: слишком много скрытого недовольства копилось у матери с дочерью. Обе безмужние, потерявшие и тех мужчин, которые были их мужьями, и других, мужьями не ставших. Но бестактный вопрос, где же их мужья, никто не задавал. Кому положено, те знали. Спасибо, оставили в покое.
Миха проводил много времени у Стекловых. Саня трогал пальцами клавиши, они отзывались. Чудились какие-то переговоры между мальчиком и инструментом, но Миха, догадываясь о тайном смысле происходящего, понимать этого до конца не умел.
Он сидел в уголке, шелестел страницами, ждал прихода Анны Александровны, чтоб поговорить. Она ставила перед ним простое печенье, чашку чая с молоком и присаживалась рядом – с папиросой, которую не столько курила, сколько держала в красиво выгнутых пальцах. Иногда и Саня отходил от инструмента, садился на край стула. Но он своим присутствием немного им мешал. Миха стремительно перерастал Диккенса, и Анна Александровна, не раздумывая, несла Пушкина.
– Да я уже читал! – противился Миха.
– Это как Евангелие – всю жизнь читают.
– Дайте лучше Евангелие, Анна Александровна, его-то я не читал…
Анна Александровна засмеялась, качая головой:
– Меня твои родственники убьют. Но, честно говоря, никакую европейскую книгу нельзя понять, не зная Евангелия. А уж про русскую и не говорю. Саня, принеси, дружочек, Евангелие. На русском.
– Нюта, – фамильярно поддел тот бабушку, – по-моему, ты просто растлитель малолетних.
Но книгу в черном переплете принес.
Уговорились, что читать Евангелие Миха будет, не вынося из их дома, и никому об этом не скажет. Сколько же теперь всего было у Михи – дом со своей раскладушкой, тетя Геня с супом, дебелая дебильная Минна, задевающая его постоянно то боком, то толстым бюстом, друзья Саня и Илья, Анна Александровна, коньки, книги…
В середине марта наступила оттепель, каток растаял, и Миха смазал коньки машинным маслом, как учил его Марлен, – для сохранности. Однако рано: ударили морозы, каточек заледенел, и Миха снова встал на коньки. Ясно было, что скоро зима кончится. Теперь он уже и после обеда выходил во двор. Так и вышло, что все увидели его драгоценность. Подобных коньков ни у кого не было, все прикручивали какую-то дрянь к валенкам, и только у одного Михи были настоящие, с ботинками. О них мгновенно прошла по дворам большая слава. Дня через два Мурыгин пришел на них посмотреть. Постоял, посмотрел и ушел. На другой день, возвращаясь с дворового катка, Миха в парадном был прижат к стене Мурыгиным и Мутюкиным.
Дело было ясное – им приглянулись коньки.
– Давай снимай! – потребовал Мутюкин.
Мурыгин заломил Михе руки, Мутюкин подшиб под колени, Миха завалился. Они ловко стащили с ног коньки и убежали. Миха, в шерстяных носках, мелькая пятками, рванул за ними. Он нагнал их у ворот, уцепился за Мурыгина. Тот перекинул коньки Мутюкину. Мутюкин понесся с коньками по Покровке. Миха следом за своими коньками, с воплями, в сторону Покровских Ворот. Конечно, они бежали к Милютинскому саду, там был каток.
С Чистопрудного бульвара медленно выползал трамвай. Миха почти догнал Мутюкина – тот бросил коньки Мурыгину, но Мурыгин их упустил, и они упали между рельсами. Все трое кинулись за коньками. Трамвай закричал ужасным голосом, потом взвизгнул, захлебнулся звоном, заскрежетал. Миха упал. Когда открыл глаза, коньки лежали перед его носом. Мутюкина видно не было. Перед трамваем дымилась какая-то куча. Тряпье, кровь, вывернутая нога. Это были остатки Мурыгина. Набежала воющая толпа. Позади дребезжали трамваи. Миха встал, взял коньки… Нет, это был только один конек. Сгорбившись, он пошел домой. Он шел босиком по ледяной земле, носки куда-то делись, но ничего этого он не замечал. Возле подъезда он швырнул конек в сторону катка и, стуча зубами, вошел в подъезд, из которого выбежал ровно пять минут тому назад.
В подъезде подобрал свои ботинки, сунул в них голые ступни и понесся к Анне Александровне. Она выслушала его, ничего не сказала, но налила тарелку грибного супа и поставила перед ним.
Миха доел суп, Анна Александровна пошла на кухню с грязной тарелкой.
– Я этого не хотел, клянусь тебе! – тихо сказал Миха Сане.
– Да кто ж такого хочет? – мотнул головой Саня.
- Ужасный звук трамвайный все разрушил,
- Весь мир он поменял и разрубил.
- И все, что было, есть и дальше будет.
- А вот Мурыгин БЫЛ.
Это стихотворение сочинил Миха в день похорон Мурыгина. Хоронили Славу Мурыгина всей школой, как национального героя. Завуч и два старшеклассника возложили на могилку венок, купленный на собранные общественные деньги, и надпись была сделана золотым по красному.
Миха, свидетель и, как он считал, виновник этой смерти, все переживал ту минуту, ее молниеносную случайность: вот мелькнувшие в воздухе коньки, вот металлический вопль трамвая и неопрятная куча под трамвайными колесами вместо ничтожного и вредного мальчишки, кривляющегося и скачущего вдоль улицы за минуту перед тем. Жалость огромного размера, превышающая Михину голову, и сердце, и все тело, накрыла его, и это была жалость ко всем людям, и плохим, и хорошим, просто потому, что все они беззащитно-мягкие, хрупкие, и у всех от соприкосновения с бессмысленной железкой мгновенно ломаются кости, разбивается голова, вытекает кровь, и остается одна лишь безобразная куча. Бедный, бедный Мурыгин!
Ни у кого не сохранилось классной фотографии за пятьдесят второй год, только у Ильи. В его фотоархиве все фотографии были его собственные, авторские, только первые две сняты не им.
Одну сделал Василий Иннокентиевич в день Саниного рождения. Вторая была снята ремесленным фотографом: послевоенные недокормленные мальчишки стоят на этом снимке в четыре рядка. Нижние сидят, а верхние стоят на стульях, все в окружении толстых колосьев, складчатых знамен и пупырчатых гербов – декоративной рамки, которая была базисом, а вся бритоголовая мелочь, с лупоглазой училкой в середине, – надстройкой над стульями из актового зала. Мурыгин и Мутюкин стоят рядом, в верхнем ряду, с левой стороны. Мурыгин смотрит в сторону, маленький, наголо стриженный мальчик, незначительный и неопасный. Стеклова на фотографии нет – он болел. Миха в самом углу, внизу. В центре – классная руководительница, русичка, имя которой все забыли, потому что после пятого класса она навсегда ушла в декретный отпуск. Мутюкин в пятом классе остался на второй год, а вскоре и затерялся. Его карьера продолжалась в ремесленном училище, а потом и на зоне. Мурыгина больше не было нигде.
Новый учитель
В шестом классе на место никому не запомнившейся училки-русички пришел новый классный руководитель, Виктор Юльевич Шенгели, литератор.
Вся школа его заметила с первого же дня: он быстро шел по коридору, правый рукав серого полосатого пиджака был подколот чуть пониже локтя, и полруки в пиджаке слегка колыхалось. В левой он нес старорежимный портфель с двумя медными замками, по виду гораздо более старый, чем сам учитель. Прозвище ему образовалось уже в первую неделю – Рука.
Он был скорее молодой, лицо красивое, почти как у киноактера, но излишне подвижное: он то улыбался неизвестно чему, то хмурился, то подергивал носом или губами. Неправдоподобно вежливый, он всем говорил «вы», но при этом был невероятно ехиден.
Для начала он сказал Илье, когда тот проходил между рядами парт своей шаткой походкой: «А вы что здесь вихляетесь?» – и Илья его мгновенно и сильно невзлюбил. Потом учитель взял журнал, сделал перекличку. На фамилии «Свиньин» – был такой несчастный ученик – сделал остановку, внимательно посмотрел на мелколицего Свиньина и сказал со странной, не то почтительной, не то насмешливой интонацией: «Хорошая фамилия!» Класс заржал с готовностью, Сенька Свиньин налился краской. Учитель поднял недоуменно брови:
– Да что вы смеетесь? Почтенная фамилия! Был старинный боярский род Свиньиных. Петр Первый посылал одного Свиньина – не помню, как звали, – в Голландию учиться. Да вы и «Князя Серебряного» не читали? Там Свиньин упоминается. Интереснейшая книга, между прочим…
Уже через три месяца все, включая Илью, Сеню Свиньина и в особенности Миху, смотрели учителю в рот, обсуждали каждое его слово и дергали губами и бровями точно как он.
И еще Рука читал стихи. Каждый урок, пока все усаживались и вынимали тетради, он начинал с какого-нибудь стихотворения и никогда не говорил, кто его написал. Выбирал причудливо – то общеизвестный «Белеет парус одинокий», то непонятный, но запоминающийся «…и воздух синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы», то совсем уж ни с того ни с сего какую-то абракадабру:
- Стояли холода, и шел «Тристан».
- В оркестре пело раненое море,
- Зеленый край за паром голубым.
- Остановившееся дико сердце.
- Никто не видел, как в театр вошла
- И оказалась уж сидящей в ложе
- Красавица, как полотно Брюллова,
- Такие женщины живут в романах,
- Встречаются они и на экране…
- За них свершают кражи, преступленья,
- Подкарауливают их кареты
- И отравляются на чердаках…
У Михи кровь к лицу приливала от таких стихов, хотя другим было хоть бы что. Но учитель на Миху и поглядывал. Миха был почти единственный, кто заглатывал рифмованные строчки, как ложку варенья. Саня улыбался снисходительно учительской слабости – некоторые были те самые, что бабушка читала. Другие ребята это пристрастие учителю прощали. Стихи представлялись им делом женским, слабоватым для фронтовика.
Но иногда он вдруг читал стихотворение совершенно по делу – когда начинали тему «Тарас Бульба», он вошел в класс и прочитал явно про Гоголя:
- Ты, загадкой своенравной
- Промелькнувший на земле,
- Пересмешник наш забавный
- С думой скорби на челе.
- Гамлет наш! Смесь слез и смеха,
- Внешний смех и тайный плач,
- Ты, несчастный от успеха,
- Как другой от неудач.
- Обожатель и страдалец
- Славы, ласковой к тебе,
- Жизни труженик, скиталец
- С бурей внутренней в борьбе.
- Духом схимник сокрушенный,
- А пером Аристофан,
- Врач и бич ожесточенный
- Наших немощей и ран!
На все, ну буквально на все случаи жизни был у него заготовлен стишок!
– Мы изучаем литературу! – объявлял он постоянно, как свежую новость. – Литература – лучшее, что есть у человечества. Поэзия – это сердце литературы, высшая концентрация всего лучшего, что есть в мире и в человеке. Это единственная пища для души. И от вас зависит, будете вы вырастать в людей или останетесь на животном уровне.
Позже, когда всех ребят уже знал по именам и расставил в ряды – не так, как на классной ежегодной фотографии, и не по алфавиту, а своим собственным фасоном, – когда все сблизились через разговоры о хитроумном Одиссее, о таинственном летописце Пимене, о несчастном сыне Тараса Бульбы, о честном глуповатом Алексее Берестове и смуглой умнице Акулине – всё по школьной программе, между прочим, – мальчишки стали задавать вопросы о войне: как было? И сразу стало ясно, что Виктор Юльевич литературу любит, а войну – нет. Странный человек! В то время все юное мужское население, не успевшее пострелять фашистов, войну обожало.






