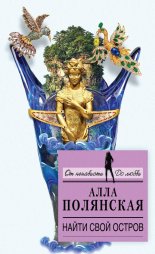Персики для месье кюре Харрис Джоанн

Моему отцу Бобу Шорту,
который никогда бы не позволил ни одному фрукту пропасть зря
Новолуние
Глава первая
Одна женщина как-то сказала мне, что только во Франции каждый год четверть миллиона писем доставляют тем, кто уже умер.
Но вот о чем она даже не упомянула: иногда и нам приходят письма от мертвых.
Глава вторая
Четверг, 10 августа
Письмо принес ветер рамадана[1], хотя тогда я, конечно, этого еще не знала. В августе в Париже часто дуют ветры, и тогда кажется, что по пыльным улицам носятся маленькие дервиши[2], одетые в лохмотья; они скользят по тротуарам и что-то ищут, оставляя на щеках и ресницах прохожих колючие сверкающие песчинки; а солнце пялится на них с небес, точно белый подслеповатый глаз, и жара стоит такая, что люди начисто лишаются аппетита. В августе Париж почти вымирает; живы только туристы да несчастные вроде нас, которые не могут себе позволить даже в отпуск уехать; в августе от Сены исходит зловоние, и тени нигде не найти, и ты, кажется, готов на все, лишь бы вырваться из раскаленного города и побродить босиком по полю или посидеть в тенистом лесу.
Ру все это, конечно, хорошо понимает. Он вообще для городской жизни не создан. А Розетт, когда ей скучно, начинает творить всякие пакости; я же упорно делаю из шоколада всякие сласти, которые некому покупать. Анук целыми днями пропадает в интернет-кафе на улице Мира, болтая с друзьями в «Фейсбуке», или поднимается на Монмартрское кладбище и наблюдает за бездомными котами, что скользят и прячутся среди каменных домов мертвых, и солнечный свет, падая, как лезвие гильотины, узенькой полоской разрубает густую тень между соседними гробницами.
Анук пятнадцать. Куда уходит время? Так же, потихоньку, испаряются из флакона духи, как бы плотно ты ни закрывала его пробкой; а однажды ты возьмешь флакон в руки и увидишь, что на дне осталась лишь капелька душистой жидкости, хотя тебе казалось, что ее там еще много…
Как тебе живется, моя маленькая Анук? Что происходит в твоем, неведомом мне, маленьком мире? Счастлива ли ты? Или душа твоя не знает покоя? А может, ты всем довольна? Сколько еще дней осталось у нас с тобой до той поры, когда ты навсегда покинешь мою орбиту и, стремительно улетев в космические дали, точно сорвавшийся с поводка спутник-бродяга, исчезнешь среди звезд?
Подобная череда мыслей посещает меня отнюдь не впервые. Страх следует за мной как тень еще с тех пор, как родилась Анук, но нынешним летом мой вечный страх стал как-то особенно силен, расцвел на этой жаре, словно некий чудовищный цветок. Возможно, это связано с воспоминаниями о моих матерях – о моей первой, покойной матери и второй, настоящей, которую я обрела всего четыре года назад. А может, всему виной Зози де л’Альба[3], похитительница сердец, чуть не лишившая меня всего, что у меня есть? Она так ярко продемонстрировала, сколь хрупка наша жизнь, как легко разрушить твой тщательно выстроенный карточный домик – для этого хватит даже малейшего вздоха ветра.
Пятнадцать.Пятнадцать. В ее возрасте я уже успела вдоволь постранствовать по свету. И знала, что моя мать скоро умрет. И слово «дом» означало для меня тогда всего лишь место, где мы в этот раз остановились на ночлег. И у меня еще никогда не было настоящего друга. А любовь… любовь моя в то время была похожа на светильники, что зажигают по вечерам на террасах кафе; я воспринимала ее как источник мимолетного тепла, как нежное прикосновение, как чье-то лицо, которое едва успела разглядеть при свете горящего костра.
Анук, надеюсь, будет иной. Она уже и сейчас очень красива, но пока что об этом не подозревает. Но однажды она влюбится – и что тогда будет с нами? Но пока, уговариваю я себя, время еще есть. Пока в жизни Анук есть только один друг – Жан-Лу Рембо; обычно они неразлучны, но в этом месяце ему пришлось лечь в больницу. Жану-Лу предстояла очередная операция, у него тяжелый врожденный порок сердца; Анук никогда об этом не говорит, и я прекрасно понимаю ее страх, ибо он подобен моему собственному. Этот страх – точно темная тень; он подкрадывается к тебе и шепчет, шепчет: ничто не вечно!
О Ланскне Анук до сих пор порой вспоминает. Хотя в Париже она, в общем, вполне счастлива, но он кажется ей скорее долгой остановкой на пути, что ею еще не пройден, чем домом, в который она всегда будет возвращаться. Разумеется, наш плавучий дом – дом не совсем настоящий; ему не хватает убедительности каменной кладки, скрепленной известковым раствором. Вот Анук и вспоминает – в самом что ни на есть розовом свете, с забавной ностальгией, свойственной в основном маленьким детям, – маленькуюchocolaterie[4] напротив церкви, полосатые маркизы над окнами и ею самой нарисованную вывеску. И взгляд у нее такой тоскующий, когда она говорит со мной об оставленных в Ланскне друзьях, о Жанно Дру и Люке Клермоне, и о том, что там по улицам даже ночью никто ходить не боится, а двери в домах никогда не запирают…[5]
Понимаю, мне не следовало бы особо тревожиться. Характер у моей маленькой Анук, конечно, скрытный, но в отличие от большинства своих приятелей она по-прежнему с удовольствием общается с матерью, то есть со мной. И все у нас с ней пока что хорошо. А бывают и совсем чудесные дни, когда мы остаемся только вдвоем и, забравшись в кровать вместе с Пантуфлем – его я воспринимаю краешком глаза, как некое расплывчатое пятно, – устраиваемся перед экраном портативного телевизора; на экране мелькают загадочные тени и образы, за окнами уже темно, а Розетт и Ру сидят на палубе и, точно рыбу, ловят звезды в безмолвной Сене.
Ру прямо-таки пристрастился к роли отца. Я, честно говоря, такого никак не ожидала. Но Розетт – ей сейчас восемь, и она точная его копия – сумела, похоже, вытянуть из его души нечто такое, о чем ни Анук, ни я и знать-то не могли. На самом деле мне порой кажется, что Розетт куда сильней связана с Ру, чем с кем бы то ни было еще; что онапринадлежит ему. У них есть собственный тайный язык – комбинация диких воплей, улюлюканья и свиста, – с помощью которого они могут общаться часами и которого никто больше не понимает, даже я.
С другой стороны, моя маленькая Розетт по-прежнему почти ни с кем не разговаривает, предпочитая объясняться с помощью языка жестов, который освоила еще совсем маленькой, и пользуется этим языком весьма умело, проявляя прямо-таки завидную изобретательность. Еще ей нравится рисовать и заниматься математикой; например, судоку с последней страницы газеты «Монд» она может решить за несколько минут; она также умеет складывать в уме целые столбцы больших чисел, ей даже не нужно их записывать. Однажды мы попытались отдать ее в школу, но из этого, разумеется, ничего не вышло. Здешние школы слишком велики, и ученики в них настолько лишены персонального внимания, что подобная обстановка совершенно не подходит такомуособенному ребенку, как Розетт. Так что теперь ее учит Ру, и хотя их «расписание уроков» может кому-то показаться несколько необычным – основной упор Ру делает на занятия искусством и различные игры с числами, а также учит ее различать птиц по голосам, – она, похоже, бесконечно этому рада. Друзей у Розетт, разумеется, никаких нет, если не считать Бама, и я порой замечаю, с какой странной тоской она наблюдает за детьми, идущими мимо нас в школу. Но в целом Париж относится к нам неплохо – при всем своем равнодушии и отсутствии внимания к конкретной персоне; и все же бывают такие дни, как, например, сегодняшний, когда я, подобно Анук и Розетт, вдруг обнаруживаю, что мечтаю о чем-то большем. Большем, чем это суденышко на реке, от которой исходит зловоние; большем, чем этот равнодушный город, похожий на раскаленный котел с затхлым воздухом; большем, чем этот лес церковных башен и шпилей; большем, чем наш крохотный камбуз, где я готовлю шоколад на продажу…
Мечты о чем-то большем. Ох, какие обманчивые слова! Слово «больше» – точно пожиратель жизни, точно воплощение неудовлетворенности, точно та самая соломинка, что сломала спину верблюду, требуя… а чего, собственно, требуя?
Я очень счастлива в своей нынешней жизни. Счастлива с мужчиной, которого люблю. А еще у меня есть две чудесные дочери и любимое занятие, для которого я и родилась на свет. Доходов это занятие, правда, особых не приносит, но все же помогает нам платить за стоянку на Сене, да и Ру берется за любую работу, связанную со строительством или плотницким делом, так что в целом мы четверо вполне держимся на плаву. И по-прежнему рядом все мои друзья с Монмартра: Алиса, Нико, мадам Люзерон, хозяин маленького кафе Лоран, художники Жан-Луи и Пополь. Сейчас со мною рядом даже моя родная мать, которую, как мне казалось раньше, я потеряла столько лет назад…
Казалось бы, чего мне еще хотеть?
Все началось несколько дней назад, когда я у нас на камбузе возилась с трюфелями. В такую жару только трюфели можно делать более или менее без опаски; любые другие шоколадные конфеты рискуют вскоре испортиться – либо от хранения в холодильнике, либо от этой несносной жары, которая до всего добирается. Для приготовления трюфелей нужно слегка нагреть шоколадную глазурь на плите, затем переместить ее в чуть теплую духовку, добавить специи, ваниль и кардамон и дождаться момента, когда простое кухонное действо превратится в акт домашней магии.
Чего еще могла бы я пожелать в такой момент? Ну, может быть, только легкого ветерка; самого легкого, как нежное прикосновение, как поцелуй в ямку на шее под затылком, где мои волосы, заколотые в неопрятный узел, уже начали на проклятой жаре попахивать потом…
Самого легкого ветерка… А что? Разве в таком желании есть что-то дурное?
И я призвала его, этот ветерок, – едва заметный, теплый, игривый ветерок, который гоняется за облачками в небе, словно котенок.
- V’la l’bon vent, v’la l’joli vent,
- V’la l’bon vent, ma mie m’appelle…[6]
Правда-правда, я вызвала совсем маленький ветерок; просто легкое дыхание и легкое свечение в воздухе, подобное чьей-то улыбке; и этот вздох ветра принес с собой отдаленный аромат цветочной пыльцы, специй, пряников. На самом деле мне всего лишь хотелось, чтобы этот ветерок немного причесал облака в летнем небе, принес в наш тесный уголок ароматы иных мест…
- V’la l’bon vent, v’la l’joli vent…
И повсюду на Левом берегу сразу, точно бабочки, запорхали в воздухе фантики и обертки от сластей; но игривый ветерок не унимался и задрал юбку какой-то женщине, шедшей через Сену по мосту Искусств, – оказалось, это мусульманка, лицо ее было закрыто черным покрывалом,никабом, теперь в Париже очень много мусульманок в никабах, – и на мгновение мне вдруг показалось, что из-под ее покрывала блеснуло нечто неясное, и сразу же над нею в раскаленном воздухе возникла дрожащая дымка, а тени от деревьев, потревоженных дыханием ветра, вдруг превратились на пыльной воде в какие-то дикие абстрактные письмена…
- V’la l’bon vent, v’la l’joli vent…
Мусульманка, шедшая по мосту, на мгновение остановилась и посмотрела на меня. Лица ее подникабом разглядеть, разумеется, было невозможно – я видела только глаза, сильно подведенные сурьмой. Но она смотрела на меня так внимательно, что я вдруг подумала: а что, если мы с ней знакомы? На всякий случай я подняла руку и помахала этой женщине. Нас разделяла неторопливо текущая Сена и становившийся все сильнее аромат шоколада, который доносился из открытого окошка нашей маленькой кухоньки.
Попробуй. Испытай на вкус. На мгновение мне показалось, что эта женщина сейчас тоже махнет мне рукой, но она лишь опустила темные глаза и, отвернувшись, двинулась дальше по мосту – безликая, вся в черном – навстречу ветру, принесенному рама-даном.
Глава третья
Пятница, 13 августа
Нечасто доводится получать письма от мертвых. Письмо было из Ланскне-су-Танн; и не просто письмо, аписьмо в письме. Его нам прислали, разумеется, до востребования (ведь в плавучие дома почту не доставляют), и принес его Ру; он заглянул на почту, когда, как обычно, ходил за хлебом.
– Да самое обыкновенное письмо, – сказал он мне и пожал плечами. – И совсем не обязательно, чтобы это что-нибудь такое значило.
Но тот ветер дул уже и весь минувший день, и всю ночь, а мы такому ветру никогда не доверяли. К тому же сегодня он еще и стал порывистым, то и дело менял направление и разрисовывал поверхность молчаливой Сены мелкой рябью, похожей на запятые. Розетт, точно игривый котенок, упражнялась в прыжках на набережной у самой воды, играя с Бамом. Бам – это невидимый дружок Розетт; впрочем, невидимый он отнюдь не всегда. Мы, во всяком случае, видим его довольно часто. Даже наши покупатели порой его видят, особенно в такие дни, как этот; и Бам тогда лукаво посматривает на них с моста или свисает с ближайшего дерева, уцепившись хвостом за ветку. Розетт, разумеется, видит егопостоянно– но, с другой стороны, и сама Розетт не такая, как все.
– Самое обыкновенное письмо, – снова сказал Ру. – Просто вскрой конверт и прочти.
Я доделывала последние трюфели и собиралась уже разложить их по коробкам. Шоколад вообще сохранить непросто, нужна правильная температура, а уж на нашем-то суденышке, где так мало места, лучше готовить что-нибудь самое простое. Например, трюфели. Во-первых, делать их очень легко, а во-вторых, порошок какао, в котором их обваливают, предохраняет шоколад от таяния. Коробки с готовыми трюфелями я храню под кухонным столом; туда же я убираю подносы со «старыми ржавыми железками» – гаечными ключами, отвертками, гайками и болтами; глядя на них, можно поклясться, что они настоящие, хотя на самом деле сделаны из шоколада.
– Да мы уж восемь лет как оттуда уехали, – сказала я, катая трюфель на ладошке. – И, между прочим, от кого оно, это письмо? Почерк я что-то не узнаю.
И тогда Ру сам вскрыл конверт. Он всегда поступает так, как проще всего. И всегда действует сразу; всяческие размышления он, в общем-то, считает излиш-ними.
– Письмо от Люка Клермона.
– От маленького Люка?
Я вспомнила неуклюжего подростка, который страшно стеснялся своего заикания. Господи, вдруг подумала я, да ведь теперь-то Люк, должно быть, совсем взрослый! Ру развернул листок и стал читать вслух:
Дорогие Вианн и Анук!
Как много времени уже прошло! Надеюсь все же, что это письмо до вас дойдет. Как вы знаете, когда умерла моя бабушка, она оставила мне все – и свой дом, и все свои деньги, и некий запечатанный конверт, который я не должен был вскрывать, пока мне не исполнится двадцать один год. День рождения у меня был в апреле, тогда я и вскрыл этот конверт, а внутри оказалось письмо, адресованное вам.
Ру вдруг умолк. Я повернулась к нему и увидела, что он держит в руках простой белый конверт, немного помятый, словно отмеченный морщинами прожитых лет и многочисленными прикосновениями живых рук к мертвой бумаге. На этом конверте темно-синими чернилами было написано мое имя. Да, рукой Арманды – ее пораженной мучительным артритом, но властной рукой – было старательно выведено мое имя…
– Арманда… – только и сумела вымолвить я.
Ах, мой дорогой старый друг! Как это странно – и как печально – спустя столько лет получить от тебя весточку! Вскрыть запечатанный тобою конверт, сломать поставленную тобой печать, от времени ставшую совсем хрупкой. Краешек этого конверта ты, должно быть, облизала, прежде чем запечатать, как облизывала ложечку, вынув ее из чашки с моим сладким крепким шоколадом, – сладострастно, жадно, как ребенок. Ты всегда видела значительно дальше, чем я, – и меня тоже заставляла смотреть дальше, нравилось мне это или нет. И сейчас я совсем не была уверена, хочется ли мне, готова ли я узнать, что там, в этой весточке из мира мертвых, но ты-то хорошо знала: я так или иначе ее прочту.
Дорогая Вианн! (Так начиналось письмо, и я прямо-таки услышала голос Арманды: сухой, как порошок какао, и такой же нежный.)
Я помню, как в Ланскне впервые провели телефон. У-у-у! Какое смятение это вызвало! Каждому хотелось испытать новый аппарат. Епископа, которому, собственно, телефон и поставили, буквально по уши засыпали всевозможными подарками и подношениями – лишь бы позволил позвонить. Ну, если людям казалось, что телефон – это настоящее чудо, то можешь себе представить, что бы они подумали обэтом письме. И обо мне, которая ведет с тобой переписку из мира мертвых. Да, кстати, если тебе это интересно, то шоколад в раю действительно есть. Передай месье кюре, что тебе об этом сообщила именно я. Заодно и проверишь, научился ли он понимать шутки.
Я перестала читать и на минутку присела на одну из табуреток.
– Все нормально? – с тревогой спросил Ру.
Я молча кивнула. И снова углубилась в письмо:
Восемь лет. За восемь лет многое может случиться, верно? Маленькие девочки начинают взрослеть. Времена года успевают много раз сменить друг друга. Люди уезжают, приезжают, переезжают из дома в дом. Мой внук уже совершеннолетний – двадцать один год! Хороший возраст, это я еще помню. А ты, Вианн, – ты тоже уехала из Ланскне? Думаю, да. Ты не была готова остаться. Но это вовсе не означает, что когда-нибудь ты там не останешься, – запри кошку в доме, и единственное, к чему она будет стремиться, это вновь оказаться на улице. Но если ее оставить на улице, она будет мяукать под дверью до тех пор, пока ее не впустят в дом. Люди, в общем, ведут себя примерно так же. Ты сама это поймешь, если когда-нибудь туда вернешься. Но с какой стати туда возвращаться? Я будто слышу, как ты это спрашиваешь. Нет, я не утверждаю, что способна заглянуть в будущее. Во всяком случае, если я что-то там и вижу, то весьма смутно. Но ты однажды здорово встряхнула Ланскне, хотя и не все тогда восприняли это положительно. И все же, как известно, времена меняются. Мне, во всяком случае, ясно одно: раньше или позже, а в Ланскне ты вновь понадобишься. Однако я никак не могу рассчитывать на то, что наш упрямый кюре сообщит тебе, когда это случится. Так что уважь меня в последний раз: съезди в Ланскне. И детей с собой возьми. И Ру – если, конечно, он с тобой. Положишь цветочки на могилу одной старой дамы. Только не из магазина Нарсиса, анастоящие, полевые. Поздороваешься с моим внуком. Выпьешь чашку шоколада.
Да, и еще одно, Вианн. Там, под стеной моего дома, раньше росло персиковое дерево. Если вы приедете летом, то персики наверняка уже созреют, и их нужно будет собрать. Раздай их детям и своих угости. Мне даже думать противно, что все эти персики попросту склюют птицы. И помни, Вианн: все возвращается. Река под конец все приносит назад.
Люблю тебя всем сердцем, как и прежде.
Твоя Арманда
Я еще довольно долго молчала, тупо глядя на зажатый в руке листок; в ушах у меня все еще звучало эхо голоса Арманды. Господи, сколько раз мне слышался этот голос во сне или на грани сна! Голос Арманды и ее суховатый старческий смех всегда звучали так отчетливо, что мне казалось, будто я чувствую и ее запах – запах лаванды, шоколада и старых книг, – и от этого ощущения в воздухе словно позолота поблескивала. Говорят, никто не умирает насовсем, пока его хоть кто-нибудь помнит. Возможно, именно поэтому Арманда по-прежнему так явственно присутствовала в моих мыслях, в моей душе – со своими темными, блестящими, как черная смородина, глазами, со своим дерзким нравом, со своими алыми нижними юбками, которые она надевала под черные траурные платья. Именно поэтому я бы никогда не смогла ей отказать, даже если б хотела; даже если и пообещала себе, что никогда больше в Ланскне не вернусь, хотя этот городок мы с Анук полюбили больше всех прочих и нам уже почти удалось остаться там навсегда, но тот ветер все же заставил нас уйти, и мы ушли, половину своей души оставив в Ланскне…
И вот теперь снова подул этот ветер. Он подул откуда-то из-за могилы Арманды и принес с собой чудесный аромат персиков…
И детей с собой возьми.
А почему бы и нет?
Назовем это каникулами, подумала я. Хоть какая-то причина уехать из душного города. Пусть Розетт немного поиграет на свободе, а Анук повидается со старыми друзьями. И потом, ядействительно соскучилась по Ланскне; по его мрачноватым серо-коричневым домам; по его извилистым узким улочкам, которые, словно спотыкаясь, сбегают к берегам Танн; по узким полоскам полей на склонах голубоватых окрестных холмов. И по району Маро[7], где жила Арманда; по старым заброшенным дубильням; по допотопным домам-развалюхам, что, как пьяные, наклонились над водами Танн; по причаленным к берегу лодкам и плавучим домам речных цыган, по их кострам…
Съезди в Ланскне. И детей с собой возьми.
Что, собственно, в этом плохого?
Я никогда ничего не обещала. И никогда не собиралась менять направление ветра. Но если уж ты можешь путешествовать во Времени, можешь вернуться назад и почувствовать себяпрежней, то неужели же не попробуешь сделать это – хотя бы раз? Неужели не подашь ей какой-нибудь знак? Неужели не захочешь все исправить, как надо? И тем самым показать ей, что она не одинока?
Глава четвертая
Суббота, 14 августа
Анук восприняла новость о предстоящей поездке с живым, даже каким-то трогательным энтузиазмом. Большинство ее школьных друзей разъехались – в августе все стремятся уехать из Парижа, – а поскольку Жан-Лу по-прежнему был в больнице, она слишком много времени проводила в одиночестве и спала, пожалуй, больше, чем было ей полезно. Я понимала: Анук, как и всем нам, необходимо уехать отсюда – хотя бы ненадолго. Париж в августедействительно ужасен; он превращается в город-призрак, сокрушенный десницей жары; витрины магазинов закрыты металлическими ставнями, улицы совершенно пусты, там лишь изредка можно встретить туристов с рюкзаками, в бейсболках и кроссовках, но даже стойкие туристы перемещаются стаями, точно мухи.
Я сказала Анук, что мы собираемся на юг.
– В Ланскне? – тут же с надеждой спросила она.
Такого я не ожидала. Нет, пока что не ожидала. Возможно, впрочем, Анук обо всем догадалась по цветам моей ауры. Но лицо ее моментально просветлело, а из глаз – они у нее столь же выразительны, сколь выразительна небесная синева во всех своих оттенках и проявлениях, – исчезло то грозное, точнее, предгрозовое выражение, столь свойственное им в последнее время; теперь глаза Анук возбужденно сияли, в точности как в тот день, восемь лет назад, когда мы впервые прибыли в Ланскне. Розетт, на мордашке которой тут же отражается все, что делает или говорит Анук, внимательно за нами наблюдала, ожидая своей очереди высказаться.
– Если всем это по душе, – наконец сказала я.
– Да это просто клёво! – воскликнула Анук.
–Клё! – эхом откликнулась Розетт, и тут же в грязной воде Сены что-то громко булькнуло, как будто это слово, рикошетом отскочив от поверхности реки, вернулось обратно: это Бам выразил одобрение нашей затее.
И только Ру ничего не сказал. С тех пор как мы получили письмо от Арманды, он вообще стал невероятно молчаливым. И дело было явно не в том, что он так уж любит Париж; если честно, он его едва терпит, причем исключительно ради нас; и здесь дом для него – это прежде всего река, а не сам город. К тому же в Ланскне с ним поступили не очень-то хорошо, а таких вещей Ру никогда не забывает. Он до сих пор еще имеет зуб на тамошних жителей из-за своего сгоревшего судна и из-за того, что случилось после пожара. Хотя и в Ланскне у Ру, конечно, есть друзья – например, Жозефина, – в целом он считает этот городок гнездом узколобых фанатиков, которые открыто ему угрожали, которые сожгли его дом, которые даже еду ему продавать отказывались. А уж что касается тамошнего кюре Франсиса Рейно…
Несмотря на чисто внешнюю, кажущуюся простоту, Ру – человек все же довольно замкнутый, даже немного угрюмый. Он напоминает дикое животное, которое можно приручить, однако оно никогда не забудет недоброго к себе отношения. Вот и Ру тоже способен быть и невероятно преданным, и свирепо злопамятным. Я подозреваю, например, что он никогда не переменит своего мнения о кюре Рейно; а прочих обитателей Ланскне – во всяком случае, подавляющее их большинство – так и будет воспринимать с легким презрением, считая кем-то вроде ручных кроликов, которые живут себе тихо на берегах Танн и даже за ближайший холм заглянуть не осмеливаются, которых безумно пугает и дыхание перемен, и появление в городе любого чужака…
– Ну а ты, Ру, – спросила я, – что ты об этом думаешь?
Он довольно долго молчал, глядя на реку и пряча лицо под низко свисающей прядью волос. Потом пожал плечами и сказал:
– Может, не стоит?
Подобная реакция меня удивила. Мое предложение поехать в Ланскне вызвало такой энтузиазм, что я и забыла заранее выяснить, как он отнесся к письму Арманды. Я просто решила, что и он с радостью воспримет возможность ненадолго переменить обста-новку.
– Что значит «может, не стоит»?
– Арманда ведь к тебе в своем письме обращалась, а не ко мне.
– Но почему же ты до сих пор молчал?
– Я же видел, как тебе хочется туда поехать.
– А сам ты, значит, предпочел бы остаться здесь?
Он снова пожал плечами. Порой его молчание куда красноречивее слов. В Ланскне, во всей видимости, есть нечто – или скореенекто,– являющееся причиной абсолютного нежелания Ру вновь посещать эти места; но я прекрасно понимала: сколько его ни спрашивай об истинной причине, он все равно ни в чем не признается.
– Да все нормально, – сказал он, прерывая наконец затянувшееся молчание. – Не волнуйся. Поступай, как считаешь нужным. Съезди в Ланскне. Положи на могилу Арманды цветочки. А потом возвращайся домой, ко мне. – Он улыбнулся и поцеловал мне кончики пальцев. – У твоих рук все еще вкус шоколада.
– Значит, не передумаешь?
Он покачал головой.
– Ничего, вы ведь там недолго пробудете, – сказал он. – И потом, надо же кому-то и за судном присматривать.
И это действительно так, подумала я; однако мысль о том, что Ру не хочет ехать с нами и предпочитает остаться здесь, не давала мне покоя. Я-то уже размечталась, как мы поплывем туда все вместе, на своем судне. Ру отлично знает все водные пути Франции и сумел бы отлично проложить маршрут: сперва вниз по Сене, потом по лабиринту каналов до Луары и оттуда до Canal de Deux Mers[8]; затем, поднявшись по Гаронне и миновав систему шлюзов, мы наконец добрались бы до Танн с ее бесчисленными перекатами и тихими заводями и плыли бы потихоньку мимо полей, замков, заводов, любуясь тем, как река делается то уже, то шире; как ее грязно-зеленая с маслянистыми разводами вода то вдруг замедляет свой бег, то снова его убыстряет; как меняется ее цвет, становясь то коричневым, то черным, то желтым, а потом она вдруг превращается в чистую, прозрачную, деревенскую речку.
У каждой реки свой нрав. Сена – река городская, промышленная; этакий хайвей, по которому непрерывно снуют баржи, груженные лесом, всевозможными контейнерами и упаковочными клетями, металлическими балками и автомобильными запчастями. Луара с ее красивыми песчаными берегами весьма коварна; она и вправду очаровательна, когда серебрится в солнечных лучах, скрывая свой буйный нрав, но там полно опасных отмелей и ядовитых змей. Гаронна вся такая ухабистая, неровная, неправильная; в одних местах она очень щедрая, полноводная, а в других – настолько мелка, что даже такие маленькие суда, как наш плавучий дом, приходится перемещать с помощью шлюзов с одного уровня на другой, и на это уходит немало драгоценного времени…
В общем, ничего из моих тайных планов не вышло. В Ланскне мы поехали поездом. И это оказалось во многих отношениях лучше: во-первых, проплыть немалый путь по Сене – задача не самая простая; во-вторых, для этого нужно оформить множество документов и получить кучу разрешений; в-третьих, необходимо еще и сохранить за собой место у причала в центре Парижа, а также решить немало иных административных вопросов. И все же мне отчего-то было очень неприятно возвращаться в Ланскне вот так, с чемоданом в руке, словно я беженка и Анук снова бежит за мною следом, точно приблудная собачонка.
А впрочем, с какой стати меня должно это тревожить? В конце концов, мне абсолютно не нужно кому-то что-то доказывать. Да и я уже больше не та Вианн Роше, которую восемь лет назад занес в этот городок безумный ветер. У меня теперь есть свой бизнес, свой дом. Мы больше не какие-то речные крысы, которым приходится перебираться из одного селения в другое в поисках жалкой поживы и браться за любую временную работу – копать землю, сажать растения, собирать урожай. Теперь я сама отвечаю за свою судьбу. Теперья сама призываю ветер. И ветер подчиняется моим приказам.
Но тогда к чему… такая поспешность? Неужели ради Арманды? Или, может, все-таки ради меня самой? И почему этот ветер, который и не думал ослабевать, когда мы уезжали из Парижа, становится все сильней, все настойчивей по мере того, как мы продвигаемся к югу? Почему в его голосе слышится одно лишь плаксивое требование:спеши, спеши, спеши?
Я положила письмо Арманды в ту шкатулку, которую всегда и всюду беру с собой; там хранятся и карты Таро, принадлежавшие моей матери, и еще кое-какие осколки прошлых лет. Впрочем, чтобы составить представление о целой жизни, их попросту не хватит; ведь мы тогда почти все время проводили в пути. Но все же там есть вещи, напоминающие о местах, где мы жили; о людях, которых мы встречали; о друзьях, которых мы теряли, едва успев приобрести. Там хранятся кулинарные рецепты, которые я собирала всю жизнь, и рисунки, сделанные Анук в школе. И несколько фотографий. И паспорта. Немногочисленные почтовые открытки, полученные мной от Ру. Свидетельства о рождении. Удостоверения личности. Прожитые мгновения, воспоминания о былом. Все то, из чего мы, собственно, и состоим, сжатое в каких-то два-три килограмма бумаги – примерно столько же весит человеческое сердце; но какими же неподъемными кажутся порой эти жалкие килограммы!
Спеши. Спеши. Снова я слышу в ушах этот голос.
Но чей он? Может, мой собственный? Или Арманды? А может, это голос переменившегося ветра, который сейчас настолько ослабел, что мне порой почти кажется, будто ветер совсем улегся?
Здесь, на последнем отрезке нашего пути, обочины дороги буквально покрыты одуванчиками, только они в основном уже отцвели, и в воздухе носятся облака крошечных белых семян.
Спеши. Спеши. Помнится, Рейно говорил, что если позволить одуванчикам отцвести и обсемениться, то на следующий год они заполонят все – обочины дорог, землю у живых изгородей, виноградники, церковные дворы и сады; они пробьются даже в трещины на тротуаре, и через пару лет вокруг будут одни одуванчики; а потом они в победоносном марше двинутся дальше по всей округе, голодные, неуничтожимые сорняки…
Франсис Рейно сорняки ненавидел. А мне одуванчики всегда нравились; нравились их веселые желтые головки, их вкусные листья. Но такого количества одуванчиков я никогда прежде не видела. Розетт сразу предалась своему любимому занятию – аккуратно срывала белые головки цветов и дула на них, рассеивая в воздухе летучие семена. И я понимала, что на будущий год…
На будущий год…
Как странно думать о том, что будет здесь на будущий год. Мы не привыкли что-либо планировать заранее. Мы всегда походили на эти одуванчики; поселимся где-нибудь на одно лето, а потом подует ветер и унесет нас куда-то еще. Корни у одуванчиков мощные. Они и должны быть такими, чтобы найти поддержку и пропитание. А вот цветет это растение совсем недолго – даже если никто, вроде Франсиса Рейно, и не выкорчует его из почвы, – а потому, чтобы выжить, оно, едва успев обсемениться, вынуждено лететь вместе с ветром все дальше и дальше.
Уж не поэтому ли меня оказалось так легко снова заманить в Ланскне? Уж не реакция ли это на некий глубинный инстинкт, спрятанный в таких недрах моей души, что я сама едва сознаю вызванную им потребность непременно вернуться туда, где мною были однажды посеяны собственные упрямые семена? Интересно, выросло ли там что-нибудь за время нашего отсутствия? Остался ли в тех краях хоть какой-то след нашего недолгого пребывания? Как вспоминают нас тамошние жители? С любовью? С равнодушием? Да и помнят ли они нас вообще? Может, восьми лет вполне хватило, чтобы стереть в их душах всякую память о нас?
Глава пятая
Воскресенье, 15 августа
Ах, отец мой, им годится любой повод, лишь бы себе праздник устроить! В Ланскне, по крайней мере, дела обстоят именно так; здесь люди много и тяжело работают, и каждое новое событие – даже открытие очередной лавчонки или забегаловки – воспринимается как долгожданный перерыв в бесконечных трудах и заботах, как возможность передохнуть и попраздновать.
Сегодня день Пресвятой Девы Марии[9]. Национальный праздник. Хотя большинство церкви сторонится, предпочитая проводить время перед телевизором, а многие и вовсе уезжают к морю – отсюда до побережья всего часа два на автомобиле – и возвращаются под утро, пряча блудливый взгляд, точно домашние коты, всю ночь зря прошлявшиеся по улицам.
Я знаю. Я должен проявлять толерантность. Моя роль священника прямо на глазах претерпевает значительные изменения. Сегодня стрелка морального компаса в Ланскне указывает на совершенно иных людей – на столичных жителей и прочих чужаков, на местное начальство и тех, кто является образцом политкорректности. Недаром говорят, что времена меняются. Старые традиции и верования теперь должны быть приведены в соответствие с решениями, принятыми в Брюсселе мужчинами (а то и, не приведи Господи, женщинами) в строгих официальных костюмах, которые и столицу-то никогда не покидали, разве что проводили летний отпуск в Каннах или ездили покататься на лыжах в Валь-д’Изер.
У нас в Ланскне, разумеется, этому яду потребовалось несколько больше времени, чтобы добраться до жизненно важных центров общества. Нарсис по-прежнему держит пчел, как это делали его отец и дед, а мед так и не пастеризует, пренебрегая общеевропейскими запретами; впрочем, теперь он его с преувеличенной щедростью и довольным блеском в глазах раздаетабсолютно бесплатно, как он выражается, но только в придачу к почтовым открыткам; а вот их он продает по 10 евро за штуку. Таким образом, ему удается, не вступая в противоречие с новыми правилами и ограничениями, не нарушать и местную традицию, которая в течение нескольких веков оставалась неизменной.
Нарсис – не единственный, кто порой пренебрегает постановлениями властей. Есть еще Жозефина Бонне – до развода Жозефина Мюска, – которой принадлежит кафе «Маро»; так вот, она всегда старается сделать так, чтобы эти презренные речные цыгане подольше у нас прожили. Есть еще этот англичанин со своей женой Маризой – они владеют виноградником чуть дальше по дороге и часто нанимают речных цыган во время сбора урожая (разумеется, неофициально). Есть еще Гийом Дюплесси, который давным-давно уже на пенсии и не преподает в школе, однако по-прежнему дает частные уроки и всегда готов помочь любому ребенку, который его об этом попросит, – а ведь новый закон требует особой проверки всех, кто работает с детьми.
Разумеется, есть у нас и те, кто приветствует любые инновации – особенно если эти инновации тем или иным образом касаются их собственного благополучия. Каро Клермон и ее муж, например, теперь стали ярыми сторонниками законов, принятых в Брюсселе и Париже, и недавно вменили себе в обязанность пропагандировать в нашем городкездоровый образ жизни и безопасность; теперь они проверяют тротуары, надеясь обнаружить любые свидетельства пренебрежения к общественному порядку; ведут настоящую войну с теми, кто вынужден много ездить и часто покидать родной город, а также с прочими нежелательными элементами; всячески продвигают современные ценности и в целом явно чувствуют себя значительно выше прочих смертных. Мэра мы в Ланскне традиционно не избираем, но если б избирали, то самой очевидной кандидатурой, безусловно, стала бы Каро Клермон. Она и так уже возглавляет две общественные организации – «Соседи не дремлют» и «Лигу христианских женщин» – и наш деревенский «Книжный клуб», а заодно и движение по очистке речных берегов, и союз «Бдительные родители», которому вменяется в обязанность защищать детей от педофилов.
А церковь? Впрочем, кое-кто скажет, что Каро Клермон и в церкви всем заправляет.
Если бы ты, отец, лет десять назад сказал, что когда-нибудь и я начну симпатизировать бунтовщикам и «отказникам», я бы, скорее всего, рассмеялся тебе в лицо. Но с тех пор я сильно изменился. И стал ценить совсем другие вещи. В молодости мною правил Порядок; путаница и неразбериха, царившие в жизни моей паствы, служили для меня постоянным источником раздражения. Теперь же я гораздо лучше понимаю этих людей – хотя их действия и не всегда одобряю. Пытаясь разобраться в их проблемах, я стал испытывать к ним не то чтобы приязнь, но нечто весьма к этому близкое. Сам я, возможно, не стал от этого лучше, зато с годами понял: порой лучше немного прогнуться, чем сломаться. И этому меня научила Вианн Роше. Когда Вианн с дочерью покидали Ланскне, не было на свете человека счастливее меня, и все же я отлично понимаю, чем ей обязан. Да, это я понимаю отлично!
Вот почему, когда на исходе очередного здешнего карнавала мне вдруг словно почудился в воздухе легкий запах дыма, я отчего-то представил себе, что это Вианн Роше к нам возвращается. А что, это было бы вполне в ее духе – явиться в город накануневойны. Потому что в Ланскне действительно пахнет войной, отец. А в воздухе отчетливо пахнет грозой, и она вот-вот разразится.
Интересно, а Вианн тоже почувствовала бы это? И неужели так уж безнадежны мои мечты, что в данном случае она приняла бы мою сторону, а не сторону моих врагов?
Глава шестая
Воскресенье, 15 августа
Обычно я не посещаю тех мест, которые когда-то покинула. По-моему, слишком сложно и даже неприятно вновь столкнуться с тем, какие там за это время произошли изменения, – с закрытыми кафе, с заросшими дорожками, с тем, что старые друзья уехали или же переселились на кладбище или в богадельню. Между прочим, это они почему-то делают с завидным постоянством…
А некоторые места и вовсе меняются настолько, что мне порой с трудом верится, что я вообще когда-то там жила. В определенном смысле это даже лучше, ибо в таких случаях при виде знакомых мест не испытываешь мучительной сердечной тоски и тебе не кажется, что воспоминания о них уменьшились до размеров отражения в осколках того зеркала, которое мы разбиваем, уезжая навсегда. В иных же местах перемены почти не заметны, и оказывается, что это, как ни странно, пережить значительно труднее. Но мне никогда еще не доводилось вернуться туда, где ничто не изменилось бывовсе…
По крайней мере, до сегодняшнего дня мне казалось, что это именно так.
В Ланскне нас занес ветер карнавала, и с тех пор минуло восемь с половиной долгих лет. Тогда этот ветер, казалось, обещал нам столь многое; дикий, безумный ветер, полный веселого конфетти, запаха дыма и соблазнительного аромата лепешек, которые пекли на обочине дороги. Но и на этот раз жаровня с лепешками стояла на прежнем месте, и праздничная толпа на улице была точно такой же, как и украшенная цветами повозка с пестрой командой фей, волков и ведьм. Я вспомнила, что и в тот раз купилаgalette[10] у этого уличного торговца, и теперь тоже, и лепешка оказалась точно такой же вкусной и поджаристой, а ее аромат и вкус – тесто из ржаной муки, соль, сливочное масло – помогли мне разбудить память.
Тогда рядом со мной стояла Анук с пластмассовой трубой в руках. Теперь же Анук напряженно застыла с широко распахнутыми глазами, а пластмассовая труба на этот раз оказалась в руках у Розетт.Тру-ру-ру-у-у! Только теперь труба была красная, а не желтая и в воздухе не чувствовалось даже намека на заморозки; и все же и звуки вокруг, и голоса людей, и запахи были точно такими же, как тогда; и люди, одетые по-летнему – куртки и береты сменили белые рубашки и соломенные шляпы, кто же будет носить черное в такую жару? – вполне могли быть почти теми же самыми, особенно дети, которые точно так же скакали рядом с движущейся повозкой, подбирая длинные узкие разноцветные ленты, цветы и сладости…
Тру-ру-ру-у-у-у! – снова взвыла труба, и Розетт засмеялась. Сегодня она в своей стихии. Сегодня она может носиться как сумасшедшая, вести себя как обезьянка и смеяться как клоун, и никто ничего не заметит, никто не сделает замечание. Сегодня она вполне нормальна – что бы это ни значило – и с удовольствием участвует в процессии, сопровождающей праздничную повозку, завывая и улюлюкая от восторга.
Сегодня, должно быть, 15 августа, подумала я. Я уж почти позабыла, какой это день. Я, в общем, не особенно слежу за церковными праздниками, но, наверное, все-таки должна была ее заметить – гипсовую Богородицу в позолоченной короне под балдахином из цветов. Ее торжественно несли впереди процессии четверо мальчиков-хористов, одетых в стихари, и на мальчишеских лицах явственно читалась легкая обида: еще бы, в такую жару тащиться в долгополых стихарях через весь город, когда все вокруг веселятся! На мгновение показалось, что я почти узнаю одного из хористов – он был очень похож на маленького Жанно Дру, дружившего с Анук в те далекие времена, когда мы держали в Ланскне лавку «Небесный миндаль». Но это, разумеется, попросту невозможно: Жанно теперь наверняка уже лет семнадцать. Но этот мальчикдействительно был очень похож на Жанно. Может, это какой-то его родственник? Двоюродный брат? Или даже родной? А вон та девушка с крылышками феи, что едет на повозке, – вылитая Каролина Клермон. Женщину в голубом летнем платье легко можно принять за Жозефину Мюска, ну а мужчина с собакой – он, правда, стоял слишком далеко, и мне было трудно разглядеть его лицо под надвинутой на лоб шляпой – это, скорее всего, мой старый друг Гийом…
Интересно, кто этот тип в черном одеянии, стоящий чуть в стороне и с безмолвным неодобрением взирающий на праздничную толпу?..
Неужели это Франсис Рейно?
Тру-ру-ру-уу! Игрушечная труба из ярко-красного пластика звучала, естественно, на редкость фальшиво, но оглушительно. Так что человек в черном даже слегка вздрогнул, когда Розетт с дикими воплями, сопровождавшими вой трубы, пронеслась мимо него вместе с Бамом (сегодня он, кстати, виден вполне отчетливо).
Но человек в черном оказался вовсе не Рейно. И даже вообще не мужчиной. Мне стало это ясно, как только «он» обернулся, глядя вслед процессии. Оказалось, что это женщина-мусульманка, довольно молодая, судя по фигуре, но вся до кончиков пальцев в черном, и лицо скрытоникабом. Она даже перчатки черные надела, несмотря на чудовищную жару; единственное, что можно было хорошо разглядеть, это ее глаза, очень красивые, миндалевидной формы, темные, бездонные, совершенно непроницаемые.
Может быть, подумала я, мы с ней когда-то уже встречались? Да нет, вряд ли. И все же она казалась мне странно знакомой – возможно, из-за ярких цветов ее ауры, несколько необычно смотревшихся на фоне черной неподвижной фигуры; это были цвета карнавала, цветов, живых и бумажных, ярких лент и пестрых флажков.
Никто с ней не разговаривал. Никто даже не смотрел в ее сторону. Даже в Париже, где люди заезжены жизнью и ко всему привычны настолько, что вряд ли что-то способно привлечь их внимание и вызвать комментарии, закутанная вникаб мусульманка все же обычно бросается в глаза; но здесь, в Ланскне, где сплетни служат разменной монетой, как ни странно, никто даже не обернулся, чтобы взглянуть на женщину, закутанную в покрывало по самые глаза.
Неужели они все тут настолько тактичные? Возможно, конечно. Но, скорее всего, они просто боялись. Во всяком случае, толпа, разделившись на два рукава, как бы обтекала эту женщину в черном; возле нее даже образовалось некое свободное пространство; она, точно невидимый другим призрак, высилась над людским потоком среди дразнящих ароматов жареной еды и сахарной ваты, среди шума толпы и звонких детских голосов, огненными шутихами взмывавших в горячее синее небо.
Тру-ру-ру-у-у! О господи, опять эта труба! Я поискала глазами Анук, но моя старшая дочь куда-то исчезла, и на мгновение в душе вновь пробудился страх, обостренный долгой жизнью в столице…
И тут я наконец заметила Анук в самой гуще толпы – она разговаривала с каким-то мальчиком, примерно ее ровесником. Я решила, что это, скорее всего, кто-то из ее старых приятелей. Анук с трудом обретает друзей, но отнюдь не потому, что чурается общества сверстников. Как раз наоборот! Но многие, даже слишком многие, почувствовав, что она не такая, как все, начинают ее избегать, обходить стороной. Исключение составляет лишь Жан-Лу Рембо. Но Жан-Лу за свою короткую жизнь уже столько раз стоял на пороге смерти, что меня порой охватывает отчаяние: моей маленькой Анук и без того уже пришлось пережить столько потерь, однако самым близким своим другом она снова сделала мальчика, который едва ли доживет до двадцати.
Не поймите меня неправильно. Мне очень нравится Жан-Лу. Но моя маленькая Анук в определенном отношении невероятно чувствительна, и тут я прекрасно ее понимаю. Она, как и я, испытывает ответственность за многое, что ей неподвластно. Возможно, это связано с тем, что она старший ребенок в семье; а может быть, на нее так повлияло случившееся с нами в Париже четыре года назад, когда нас чуть не унесло ветром[11].
Я снова и снова внимательно вглядывалась в толпу, пытаясь отыскать знакомые лица. И на этот раз действительно узнала Гийома – он, разумеется, стал на восемь лет старше, но, в общем, остался таким же, и его собака – когда мы с Анук покидали Ланскне, собака была еще совсем щенком – послушно следовала за ним по пятам. А за Гийомом и его собакой, как всегда, тащились ребятишки, трещавшие наперебой и без конца совавшие псу лакомства.
– Гийом!
Но он меня не услышал – слишком громко звучали музыка и смех. Зато стоявший рядом со мной мужчина вдруг резко обернулся, и я увидела его лицо, такое знакомое, с мелкими, четкими, какими-тоочень аккуратными чертами; на меня с изумлением уставились его глаза, серые, холодные, но я все же успела мельком разглядеть цвета его ауры. Если честно, то, если бы не эти цвета, я вполне могла его и не узнать, ибо на нем не было привычной сутаны; но невозможно скрыть свою сущность всего лишь под кожей лица, точно под наспех напяленной маской…
– Мадемуазель Роше? – наконец вымолвил он.
Да, это был он, Франсис Рейно.
Ему уже стукнуло сорок пять, но он почти не изменился. Тот же подозрительный изгиб тонких губ. Так же тщательно зализывает волосы назад, пытаясь подавить их природную курчавость. Тот же упрямый разворот плеч, словно у человека, несущего невидимый крест.
Правда, несколько располнел с тех пор, как я в последний раз его видела. По-настоящему толстым он, видимо, никогда не будет, но все же теперь в районе талии у него просматривалась приличная складка, и я подумала: вряд ли он в последние годы так уж строго соблюдал посты. Ему, пожалуй, это даже шло: он достаточно высокого роста, и ему всегда стоило быть чуть потолще; но самым удивительным оказалось то, что в уголках его холодных серых глаз я заметила морщинки, которые вполне можно было принять за намек на улыбку.
А он взял и действительно улыбнулся – застенчиво, неуверенно, как те, кто не привык улыбаться. И я, увидев эту улыбку, поняла, кого имела в виду Арманда, написав, что кому-то в Ланскне, возможно, понадобится моя помощь.
Разумеется, его цвета и так многое сказали. Если судить по внешности, то Рейно по-прежнему относился к той категории людей, которые способны полностью и весьма жестко себя контролировать. И все же я-то знала его лучше многих, так что сумела разглядеть под латами внешнего спокойствия глубочайшее волнение. Начнем с того, что воротничок священника он надел криво. Этот воротничок застегивается сзади с помощью маленькой клипсы и должен сидеть безукоризненно. Но у Рейно он съехал набок, и застежка была хорошо видна. Для такого щепетильного человека, как он, подобная небрежность в высшей степени необычна.
Что там, кстати, писала о нем Арманда?
В Ланскне ты вновь понадобишься… Однако я никак не могу рассчитывать на то, что наш упрямый кюре сообщит тебе…
Да и цвета ауры говорили сами за себя: напыщенное сочетание зеленых и серых тонов словно насквозь простреливал алый цвет отчаяния. И потом, этот настороженный, смущенный взгляд; так смотрит человек, который не знает, как попросить о помощи. Короче говоря, у Рейно был такой вид, словно он находился на краю пропасти, и я поняла: я не смогу уехать, пока не выясню, что здесь происходит.
И помни: все возвращается.
Голос Арманды явственно звучал у меня в ушах. Она умерла восемь лет назад, но сейчас говорила со мной как живая и была такой же упрямой, мудрой и озорной. Нет смысла пытаться заглушить голоса мертвых – они неумолимы, их не заглушить ничем, и они по-прежнему будут звучать в ушах.
– Месье кюре! – с улыбкой воскликнула я.
А затем приготовилась скакать верхом на урагане.
Глава седьмая
Воскресенье, 15 августа
Боже мой, она совсем не изменилась. Длинные черные волосы; смеющиеся глаза; ярко-красная юбка и сандалии. В руке – наполовину съеденная лепешка; на запястье – звенящие браслеты; и дочка, как тогда, скачет следом за нею. На мгновение мне показалось, что время остановилось; даже ребенок почти не повзрослел.
Но ребенок-то, конечно, был другой. Это я понял почти сразу. Во-первых, эта девочка была рыженькая, а та, первая, – темноволосая. И потом, приглядевшись внимательней, я заметилкое-какие перемены и в облике самой Вианн: возле глаз пролегли тонкие морщинки, а на лице появилось какое-то настороженное выражение, словно прошедшие восемь лет научили ее не доверять людям – а может, она просто все время ждала беды.
Я попытался улыбнуться в ответ, зная прекрасно, что личного обаяния мне всегда недоставало. Я не обладаю тем чудесным легким даром общения, который есть у отца Анри Леметра, священника из Тулузы, обслуживающего теперь и соседние с нами приходы – Шанси, Флориан и Пон-ле-Саул. Моя манера читать проповеди, по мнению многих (и в первую очередь Каро Клермон), признанадовольно сухой. Я никогда не стремлюсь ни запугать паству, ни подчинить ее себе с помощью лести. Я всегда стараюсь быть честным, но в результате ни от кого не получаю благодарности – прежде всего, разумеется, мною недовольны Каро и ее приспешницы, всем им куда больше по душе священники, которые участвуют в общественной жизни, воркуют над каждым младенцем и позволяют себе ходить растрепанными и одетыми кое-как даже в дни церковных праздников.
Вианн Роше удивленно приподняла бровь, заметив мою улыбку; возможно, эта улыбка показалась ей несколько вынужденной. Что ж, в подобных обстоятельствах этого и следовало ожидать.
– Простите, я не…
Все дело, конечно, в сутане. Вряд ли она когда-либо видела меня без нее. Я всегда находил, что в традиционной черной сутане есть нечто успокоительное; что она символизирует определенный авторитет в обществе. Но теперь я довольствуюсь тем, что надеваю поверх простой черной рубашки воротничок священника, хотя, разумеется, не опускаюсь до того, чтобы носить потрепанные джинсы, как это часто делает отец Анри Леметр. Каро Клермон ясно дала мне понять: ношение сутаны (вне религиозных церемоний) не соответствуют уровню современного прогресса и просвещенности. Каро Клермон пользуется благосклонностью епископа, и мне в свете последних событий пришлось научиться более или менее следовать правилам игры.
Я чувствовал, что Вианн рассматривает меня – с любопытством, но вполне доброжелательно. Я ждал, что она скажет: как вы изменились! Но вместо этого она улыбнулась – на этот раз удивительно искренней улыбкой – и легонько чмокнула меня в щеку.
– Надеюсь, вы не сочтете это чересчур неуместным? – лукаво спросила она.
– Даже если и счел бы, вряд ли вас это остано-вило бы.
Она засмеялась; глаза ее так и сияли. Стоявшая рядом с ней девочка вдруг издала ликующий вопль и что было силы дунула в пластмассовую дудку.
– Это моя маленькая Розетт, – пояснила Вианн. – А мою Анук вы, конечно же, помните.
– Конечно.
Разве я мог ее пропустить, не заметить? Анук теперь стала хорошенькой темноволосой девушкой лет пятнадцати. Я видел, что она оживленно о чем-то беседует с сыном Жолин Дру, абсолютно не замечая, как сильно она выделяется на общем фоне в своих линялых джинсах и желтой, цвета нарциссов, рубашке; пыльные босые ноги обуты в простые сандалии, а роскошные волосы стянуты на затылке каким-то жалким шнурком; наши деревенские девицы в своих праздничных нарядах, проходя мимо, поглядывали на нее весьма презрительно…
– Она очень похожа на вас.
Вианн улыбнулась.
– О господи!
– Но я хотел сделать комплимент…
Она снова рассмеялась, словно я позволил себе некую вольность. Я никогда толком не мог понять, что именно вызывает ее смех. Вианн Роше из тех людей, которые, по-моему, смеются надо всем на свете, словно жизнь – это вечная шутка, а люди вокруг бесконечно очаровательны и добры, хотя на самом деле они по большей части глупы и тупы, а то и полны настоящего яда.
И я, постаравшись придать своему тону максимум сердечности, спросил:
– Что снова привело вас сюда?
Она пожала плечами:
– Да так, ничего особенного. Просто заехали, и все.
– Ясно.
Значит, она еще не слышала. А может, слышала и теперь просто со мной играет? Мы ведь расстались тогда при весьма неопределенных обстоятельствах; вполне возможно, она до сих пор имеет на меня зуб. И, между прочим, вполне заслуженно. Мало того, она имеет полное право даже презирать меня…
– Где же вы остановились?
Вианн снова пожала плечами.
– Я еще не уверена, что мы вообще где-нибудь остановимся. – Она снова посмотрела на меня; казалось, будто она взглядом ощупывает мое лицо. – А вы отлично выглядите, месье кюре.
– Вы тоже. Да вы совсем не изменились!
На этом обмен любезностями закончился. Я пришел к выводу, что о моих обстоятельствах ей ничего не известно, а ее приезд – именно сегодня! – это всего лишь совпадение. Ну и прекрасно! Возможно, так даже лучше. Да и что она может сделать? Одна-единственная, да еще женщина, да еще накануне войны?
– А что, моя шоколадная лавка на месте?
Этого вопроса я и боялся.
– Конечно, где же ей еще быть. – На нее я больше не смотрел.
– Правда? И кто же там теперь заправляет?
– Одна иностранка.
Вианн засмеялась.
– Ну да, «иностранка» из Пон-ле-Саул?
Близость наших приходов она всегда воспринимала как шутку. Хотя все наши ближайшие соседи свирепо блюдут собственную независимость. Некогда эти городки и деревни представляли собойbastides[12], крошечные города-крепости в тесном сплетении таких же крошечных доминионов, а потому даже теперь в них еще сохранилось несколько настороженное отношение к любым чужакам.
– Но вам же захочется где-нибудь остановиться, – сказал я, не ответив на ее шутливый вопрос. – В Ажене, например, есть несколько хороших гостиниц. А если доехать на автомобиле до Монтобана…
– У нас нет автомобиля. Мы брали такси.
– Ясно…
Карнавал близился к концу. Я видел, как по главной дороге проехала последняя повозка; она вся, от оглобель до задней стенки, была завалена цветами и покачивалась, точно пьяный епископ в полном облачении.
– Вообще-то я думала, что можно было бы остановиться у Жозефины, – сказала Вианн. – Если, конечно, у нее в кафе найдется комната.
Я натянуто улыбнулся.
– Полагаю, это возможно.
Я понимал, что веду себя нелюбезно. Но позволить ей остаться здесь в столь чувствительный для меня период значит испытывать совершенно ненужные дополнительные волнения. И как это она всегда ухитряется появиться в самый неподходящий момент…
– Извините, но у вас, похоже, что-то случилось?
– Что вы, отнюдь нет! – Я постарался изобразить лучезарную улыбку. – Просто сегодня праздник Святой Девы Марии, и через полчаса начинается месса…
– Ах, месса… Хорошо, тогда и я с вами пойду.