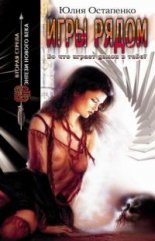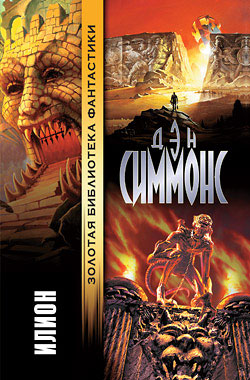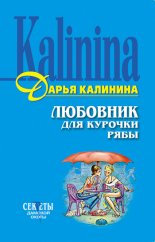Пир (сборник) Сорокин Владимир

– Это сумасшествие, – покачал головой отец Андрей.
– Это – здравый смысл! – Саблин хлопнул ладонью по столу.
Посуда зазвенела.
Саблина зябко повела плечами:
– Господи, как я устала от этих споров. Сережа, хотя бы сегодня можно обойтись без философии?
– Русские мужчины летят на философию, как мухи на мед! – произнесла Румянцева.
Все засмеялись.
– Александра Владимировна, спойте нам! – громко попросил Румянцев.
– Да, да, да! – вспомнил Мамут. – Спойте! Спойте обязательно!
– Сашенька, спойте!
Саблина сцепила замком тонкие пальцы, потерла ими:
– Я, право… сегодня такой… день.
– Спой, радость моя, – вытер губы Саблин. – Павлушка! Неси гитару!
Лакей выбежал.
– А я тоже выучилась на гитаре играть! – сказала Арина. – Покойная maman говорила, что есть романсы, которые хороши только под гитару. Потому как рояль – строгий инструмент.
– Святая правда! – улыбался Румянцев.
– Две гитары, зазвенев, жалобно заныли… – угрюмо осматривал стол Мамут. – Позвольте, а где горчица?
– Je vous en prie! – подала Румянцева.
Павлушка принес семиструнную гитару. Саблин поставил стул на ковер. Александра Владимировна села, положила ногу на ногу, взяла гитару и, не пробуя струн, сразу заиграла и запела несильным, проникновенным голосом:
- Ты помнишь ли тот взгляд красноречивый,
- Который мне любовь твою открыл?
- Он в будущем мне был залог счастливый,
- Он душу мне огнем воспламенил.
- В тот светлый миг одной улыбкой смела
- Надежду поселить в твоей груди…
- Какую власть я над тобой имела!
- Я помню все… Но ты – ты помнишь ли?
- Ты помнишь ли минуты ликованья,
- Когда для нас так быстро дни неслись?
- Когда ты ждал в любви моей признанья
- И верным быть уста твои клялись?
- Ты мне внимал, довольный, восхищенный,
- В очах твоих горел огонь любви.
- Каких мне жертв не нес ты, упоенный?
- Я помню все… Но ты – ты помнишь ли?
- Ты помнишь ли, когда в уединенье
- Я столько раз с заботою немой
- Тебя ждала, завидя в отдаленье;
- Как билась грудь от радости живой?
- Ты помнишь ли, как в робости невольной
- Тебе кольцо я отдала с руки?
- Как счастьем я твоим была довольна?
- Я помню все… Но ты – ты помнишь ли?
- Ты помнишь ли, вечерними часами
- Как в песнях мне страсть выразить умел?
- Ты помнишь ли ночь, яркую звездами?
- Ты помнишь ли, как ты в восторге млел?
- Я слезы лью, о прошлом грудь тоскует,
- Но хладен ты и сердцем уж вдали!
- Тебя тех дней блаженство не чарует,
- Я помню все… Но ты – ты помнишь ли?
– Браво! – вскрикнул Румянцев, и все зааплодировали.
– Одна радость у меня, один свет невечерний… – Саблин поцеловал жене руку.
– Господа, давайте же выпьем за здоровье Александры Владимировны! – встал Румянцев.
– Непременно! – заворочался, вставая, Мамут.
– За вас, дорогая Сашенька! – вытянула руку с бокалом Румянцева.
– Благодарю вас, господа, – подошла к столу Саблина.
Муж дал ей бокал.
Лев Ильич встал с бокалом в руке.
– Господа, позвольте мне сказать, – заговорил он. – Александра Владимировна – удивительный человек. Даже такой закоренелый женоненавистник, эгоист и безнадежный скептик, как я, и то не устоял перед очарованием хозяйки Саблино. Шесть… нет… почти уж семь лет тому назад оказался я здесь впервые и… – он опустил глаза, – влюбился сразу. И все эти семь лет я люблю Александру Владимировну. Люблю, как никого боле. И… я не стесняюсь говорить об этом сегодня. Я люблю вас, Александра Владимировна.
Втянув голову в костистые плечи, он стоял, вращая узкий бокал в своих больших худых ладонях.
Саблина подошла к нему, поднялась на мысках и поцеловала в щеку.
– Сашенька, поцелуй его как следует, – произнес Саблин.
– Ты разрешаешь? – Она в упор разглядывала смущенное лицо Льва Ильича.
– Конечно.
– Тогда подержи. – Она отдала мужу бокал, обняла Льва Ильича за шею и сильно поцеловала в губы, прижавшись к нему тонким пластичным телом.
Пальцы Льва Ильича разжались, его бокал выскользнул, упал на ковер, но не разбился. Лев Ильич сжал талию Саблиной своими непомерно длинными руками, ответно впился ей в губы. Они целовались долго, покачиваясь и шурша одеждой.
– Не сдерживай себя, радость моя, – смотрел Саблин наливающимися кровью глазами.
Саблина застонала. Ноги ее дрогнули. Жилистые пальцы Льва Ильича сжали ее ягодицы.
– Только здесь, прошу вас, – забормотал Саблин. – Здесь, здесь…
– Нет… – с трудом отняла губы Саблина. – Ни в коем случае…
– Здесь, здесь, умоляю, радость моя! – опустился на колени стремительно багровеющий Саблин.
– Нет, ни за что…
– Лев Ильич, умоляю! Прошу тебя, Христа ради!
Лев Ильич обнял Саблину.
– Здесь ребенок, вы с ума сошли!
– Мы все дети на этой земле, Александра Владимировна, – улыбнулся Мамут.
– Умоляю, умоляю! – всхлипывал Саблин.
– Ни за что…
– Сашенька, как вы очаровательны! Как я вам завидую! – восторженно приподнялась Румянцева.
– Умоляю, умоляю тебя… – Саблин пополз к ней на коленях.
– Ах, оставьте! – попыталась вырваться Саблина, но Лев Ильич держал ее.
– В искренней нежности нет греха, – теребил бороду отец Андрей.
Саблин схватил жену за ноги, стал задирать ей платье. Лев Ильич сжимал ее стан, припав губами к шее. Обнажились стройные ноги без чулок, сверкнули кружева нательной рубашки, Саблин вцепился в белые панталоны, потянул.
– Не-е-е-т!!! – закричала Саблина, запрокинув голову.
Саблин окаменел.
Оттолкнув лицо Льва Ильича, она выбежала из столовой.
Саблин остался сидеть на ковре.
– Ступай за ней, – хрипло сказал он Льву Ильичу.
Тот нелепо стоял – краснолицый, с разведенными клешнями рук.
– Ступай за ней!! – выкрикнул Саблин, так что дрогнули подвески хрустальной люстры.
Лев Ильич, как сомнамбула, побрел из столовой.
Саблин прижал ладони к лицу и тяжко, с дрожью выдохнул.
– Сергей Аркадьевич, пожалейте себя, – нарушил тишину Мамут.
Саблин достал платок и медленно вытер вспотевшее лицо.
– Как она хороша, – стояла, качая головой Румянцева. – Как она маниакально хороша!
– Шампанского, – вполголоса произнес Саблин, разглядывая узор на ковре.
Лев Ильич поднялся наверх по лестнице, тронул дверь спальни Саблиных. Дверь оказалась запертой.
– Саша, – глухо произнес он.
– Оставь меня, – послышалось за дверью.
– Саша.
– Уйди, ради Христа.
– Саша.
– Что тебе нужно от меня?
– Саша.
Она открыла дверь. Лев Ильич схватил ее за бедра, поднял и понес к кровати.
– Тебе нравится кривляться? Нравится потворствовать ему, нравится? – забормотала она. – Идти на поводу у этого… этого… Неужели тебе нравится все это? Вся эта… эта… низкая двусмысленность? Весь этот глупый, пошлый театр?
Бросив ее на абрикосовый шелк покрывала, Лев Ильич сдирал с нее узкое, кофейного тона платье.
– Он потакает своей мужицкой природе… он… он ведь мужик в третьем… нет… во втором поколении… он сморкается в землю до сих пор… но ты, ты! Ты умный, честный, сложно устроенный человек… ты… ты же прекрасно понимаешь всю двусмысленность моего… ах, не рви так!.. всю, всю нелепость… Боже… за что мне все это?!
Покончив с платьем, Лев Ильич задрал ее кружевную рубашку и, стоя на коленях, прыгающими руками стал расстегивать брюки.
– Если мы… если мы всё, всё уже знаем… если готовы на всё… знаем, что любим друг друга… и… что нет другого пути… что… наши звезды сияют друг другу, – бормотала она, глядя на лепной венец потолка, – если мы встретились… пусть ужасно и нелепо, пусть даже глупо… как и всё, что случается вдруг… то давай хотя бы дорожить этой тонкой нитью… этим слабым лучом… давай беречь всё это хрупкое и дорогое… давай постараемся… ааа!
Лев Ильич вошел в нее.
Павлушка неловко открыл шампанское. Пена хлынула из бутылки на поднос.
– Дай сюда, пентюх! – забрал бутылку Саблин. – А сам пшел вон!
Лакей согнулся, словно получив невидимый удар в живот, и вышел.
– Почему русские так не любят прислуживать? – спросил Мамут.
– Гордыня, – ответил отец Андрей.
– Хамство простое наше великорусское, – вздохнул Румянцев.
– Мы сами виноваты. – Румянцева нежно гладила скатерть. – Воспитывать прислугу надо уметь.
– То есть сечь? Это не выход. – Саблин хмуро разливал вино по бокалам. – Иногда приходится, конечно. Но я это не люблю.
– Я тоже против порки, – заговорил отец Андрей. – Розга не воспитывает, а озлобляет.
– Просто сечь надобно с толком, – заметила Румянцева.
– Конечно, конечно! – встрепенулась Арина. – У покойной Танечки Бокшеевой я раз такое видала! Мы к ней после гимназии зашли, она мне обещала новую Чарскую дать почитать, а там – кавардак! Гувернантка вазу разбила. И ее Танечкин папа наказывал публично. Он говорит: “Вот и хорошо, барышни, что вы пришли. Будете исполнять роль публики”. Я не поняла сначала ничего: гувернантка ревет, кухарка на стол клеенку стелет, мама Танина с нашатырем. А потом он гувернантке говорит: “Ну-ка, негодница, заголись!” Та юбку подняла, на клеенку грудью легла, а кухарка ей на спину навалилась. Он с нее панталоны-то стянул, я гляжу, а у нее вся задница в шрамах! И как пошел по ней ремнем, как пошел! Она – вопить! А кухарка ей в рот корпию запихала! А он – раз! раз! раз! А Танечка меня локтем в бок пихает, говорит, ты посмотри, как у нее…
– Довольно, – прервал ее Мамут.
– Просто сечь – варварство. – Румянцева поднесла шипящий бокал к носу, прикрыла глаза. – У нас Лизхен уже четвертый год служит. Теперь уж просто член семьи. Так вот, в самый первый день мы ее с Виктором в спальню завели, дверь заперли. А сами разделись, возлегли на кровать и совершили акт любви. А она смотрела. А потом я ей голову зажала между ног, платье подняла, а Виктор ее посек стеком. Да так, что она обмочилась, бедняжка. Смазала я ей popo гусиным жиром, взяла за руку и говорю: – Вот, Лизхен, ты все видела? – Да, мадам. – Ты все поняла? – Да, мадам. – Ничего ты, говорю, не поняла. – Одели мы ее в мое бальное платье, отвели в столовую, посадили за стол и накормили обедом. Виктор резал, а я ей кусочки золотой ложечкой – в ротик, в ротик, в ротик. Споили ей бутылочку мадеры. Сидит она, как кукла пьяная, хихикает: – Я все поняла, мадам. – Ой ли? – говорю. Запихнули мы ее в платяной шкаф. Просидела там три дня и три ночи. Первые две ночи выла, на третью смолкла. Выпустила я ее тогда, заглянула в глаза. – Вот теперь, голубушка, ты все поняла. – С тех пор у меня все вазы целы.
– Разумно, – задумчиво потер широкую переносицу Мамут.
– Господа, у меня есть тост, – встал, решительно зашуршав рясой, отец Андрей. – Я предлагаю выпить за моего друга Сергея Аркадьевича Саблина.
– Давно пора, – усмехнулась Румянцева.
Саблин хмуро глянул на батюшку.
– Россия наша – большинское болото, – заговорил отец Андрей. – Живем мы все как на сваях, гадаем, куда ногу поставить, на что опереться. Не то чтоб народ наш дрянной до такой степени, а метафизика места сего такова уж есть. Место необжитое, диковатое. Сквозняки гуляют. Да и люди тоже – не подарок. Трухлявых да гнилых – пруд пруди. Иной руку тянет, о чести говорит, святой дружбой клянется, а руку его сожмешь – гнилушки сыпятся! Поэтому и ценю я прежде всего в людях крепость духа. С Сергеем Аркадьичем мы не просто друзья детства, однокашники, собутыльники университетские. Мы с ним братья по духу. По крепости духовной. У нас есть принципы незыблемые, твердыня наша, – у него своя, у меня своя. Если бы я в свое время принципами поступился, теперь бы панагию носил да в Казанском соборе служил. Если бы он пошел против своей твердыни – давно бы ректорской мантией шуршал. Но мы не отступили. А следовательно, мы не гнилушки. Мы твердые дубовые сваи русской государственности, на коих вырастет новая здоровая Россия. За тебя, мой единственный друг!
Саблин подошел к нему. Они расцеловались.
– Прекрасно сказано! – потянулся чокнуться Румянцев.
– Я не знал, что вы вместе учились, – чокнулся с ними Мамут.
– Как интересно! – глотнула шампанского Арина. – А вы оба философы?
– Мы оба материалисты духа! – ответил отец Андрей, и мужчины засмеялись.
– И давно? – спросила Румянцева.
– С гимназейской поры, – ответил Саблин, сдвигая манжеты и решительно беря в руки берцовую кость.
– Так вы и в гимназии вместе учились? – спросила Арина. – Вот те на!
– А как же! – Отец Андрей сделал грозно-плаксивое лицо и заговорил фальцетом: – Саблин и Клёпин, опять на Камчатку завалились? Пересядьте немедленно на Сахалин!
– Ааа! Три Могильных Аршина! – захохотал Саблин. – Три Могильных Аршина!
– Кто это? – оживленно блестела глазами Арина.
– Математик наш, Козьма Трофимыч Ряжский, – ответил отец Андрей, разрезая мясо.
– Три Могильных Аршина! Три Могильных Аршина! – хохотал с костью в руке Саблин.
– А почему его так прозвали? – спросила Румянцева.
– У него была любимая максима в пользу изучения математики: каждый болван должен уметь… а-ха-ха-ха! Нет… а-ха-ха-ха! – вдруг захохотал отец Андрей.
– Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! – зашелся Саблин. – Три… ха-ха!.. Три… ха-ха!.. Могильных… а-га-га-гаааа!
– Он… а-ха-ха!.. он… транспортиром однажды, помнишь, измерял угол… а-ха!.. угол идиотизма у Бондаренко… а тот… а-ха-ха! Ааааа!
Саблин захохотал и затрясся так, словно его посадили в гальваническую ванну. Кость выпала из его рук, он со всего маха откинулся на спинку стула, стул пошатнулся, опрокинулся, и Саблин повалился на спину. Отец Андрей хохотал, вцепившись пальцами в свое побагровевшее лицо.
В столовую вошла Саблина в новом длинном платье темно-синего шелка. Следом вошел Лев Ильич.
Саблин корчился на ковре от смеха.
– Что случилось? – спросила Александра Владимировна, останавливаясь возле него.
– Гимназия. Воспоминания, – жевал Мамут.
– Стишок? – Она прошла и села на свое место.
– Что за стишок? – спросил Румянцев.
– Стишок! Ха-ха-ха! Стишок, господа! – Саблин сел на ковре. – Ой, умираю… стишок я сочинил про моего друга-камчадала Андрея Клёпина… ха-ха-ха… ой… сейчас успокоюсь… прочту…
– Отчего этот хохот? – спросила Саблина.
– Не напоминай, Христа ради, а то… хи-хи-хи… мы поумираем… всё! всё! всё! Стихотворение!
– При мне, пожалуйста, не читай эту гадость. – Саблина взяла бокал, Лев Ильич наполнил его шампанским.
– Ну, радость моя, здесь же все свои.
– Не читай при мне.
– Начало, только начало:
- У меня есть друг Андрей
- По прозванью Клёпа.
- Нет души его добрей, —
- Пьет шартрез, как жопа.
– Прекрати! – Саблина стукнула по столу. – Здесь ребенок!
– Кого вы имеете в виду? – лукаво улыбнулась Арина.
- Раз приходит он ко мне,
- Говорит: – Послушай!
- Искупался я в говне
- И запачкал душу!
- – Нет! Душа твоя чиста! —
- Я вскричал, ликуя. —
- Как у девочки…
– …пизда и как кончик хуя, – произнесла Арина, исподлобья глядя на Саблина.
– А ты откуда знаешь? – уставился на нее Саблин.
– Мне отец Андрей рассказывал.
– Когда это? – Саблин перевел взгляд на батюшку.
– Все вам, Сергей Аркадьевич, надо знать, – сердито пробормотал Мамут, намазывая мясо хреном.
Все засмеялись. Арина продолжала:
– Мне в вашем стихотворении больше всего конец нравится:
- Мораль сей басни такова:
- Одна у Клёпы голова.
- Другую оторвали
- Две девочки в подвале.
– Какая гадость… – Саблина выпила. – Мерзкая гадость и тошная пошлость.
– Да! – С добродушной улыбкой на пьяноватом лице Саблин поднял стул, уселся на него. – Гимназейский юмор! Как давно все было… Помнишь, как Шопенгауэра читали?
– У Рыжего? – с наслаждением пил шампанское отец Андрей.
– Три месяца вслух одну книгу! Зато тогда я понял, что такое философия!
– И что же это такое? – спросила Румянцева.
– Любовь к премудрости, – пояснил Мамут.
Неожиданно отец Андрей встал, подошел к Мамуту и замер, теребя пальцами крест.
– Дмитрий Андреевич, я… прошу у вас руки вашей дочери.
Все притихли. Мамут замер с непрожеванным куском во рту. Арина побледнела.
Мамут судорожно проглотил, кашлянул.
– А… как же… это…
– Я очень прошу. Очень.
Мамут перевел взгляд оплывших глаз на дочь.
– Ну…
– Нет, – мотнула она головой.
– А… что…
– Я умоляю вас, Дмитрий Андреевич. – Отец Андрей легко встал на колени.
– Нет, нет, нет! – мотала головой Арина.
– Но… если вы… а почему же? – щурился Мамут.
– Умоляю! Умоляю вас!
– Ну… откровенно… я… не против…
– Не-е-е-ет!!! – завопила Арина, вскакивая и опрокидывая стул.
Но Румянцевы, как две борзые, молниеносно вцепились в нее.
– Не-е-е-ет! – рванулась она к двери, треща рвущимся платьем.
Лев Ильич и отец Андрей обхватили ее, завалили на ковер.
– Веди… веди себя… ну… – засуетился толстый Мамут.
– Аринушка… – встала Саблина.
– Павлушка! Павлушка! – закричал Саблин.
– Не-е-е-ет! – вопила Арина.
– Полотенцем, полотенцем! – шипел Румянцев.
Вбежал Павлушка.
– Лети пулей в точилку, там на правой полке самая крайняя… – забормотал ему Саблин, держа ступни Арины. – Нет, погоди, дурак, я сам…
Саблин выбежал, лакей – следом.
– Арина, ты только… успокойся… и возьми себя в руки… – тяжело опустился на ковер Мамут. – В твоем возрасте…
– Папенька, помилосердствуй! Папенька, помилосердствуй! Папенька, помилосердствуй! – быстро-быстро забормотала прижатая к ковру Арина.
– От этого никто еще не умирал, – держала ее голову Румянцева.
– Арина, прошу тебя, – гладил ее щеку отец Андрей.
– Папенька, помилосердствуй! Папенька, помилосердствуй!
Вбежал Саблин с ручной пилой. За ним едва успевал лакей Павлушка с обрезком толстой доски. Заметив краем глаза пилу, Арина забилась и завопила так, что пришлось всем держать ее.
– Закройте ей рот чем-нибудь! – приказал Саблин, становясь на колени и закатывая себе правый рукав фрака.
Мамут запихнул в рот дочери носовой платок и придерживал его двумя пухлыми пальцами. Правую руку Арины обнажили до плеча, перетянули на предплечье двумя ремнями и мокрым полотенцем, Лев Ильич прижал ее за кисть к доске, Саблин примерился по своему желтоватому от табака ногтю:
– Господи, благослови…
Быстрые рывки пилы, нутряной девичий вой, глуховатый звук обреченной кости, рубиновые брызги крови на ковре, вздрагивание Аришиных ног, сдавленных четырьмя руками.
Саблин отпилил быстро. Жена подставила под обрубки глубокие тарелки.
– Павлушка, – протянул ему пилу Саблин, – ступай, скажи Митяю, пусть дрожки заложит и везет. Пулей!
Лакей выбежал.
– Поезжайте к фельдшеру нашему, он сделает перевязку.
– Далеко? – Мамут вытащил платок изо рта потерявшей сознание дочери.
– Полчаса езды. Сашенька! Икону!
Саблина вышла и вернулась с иконой Спасителя.
Отец Андрей перекрестился и опустился на колени. Мамут с астматическим поклоном протянул ему руку дочери. Тот принял, прижал к груди, приложился к иконе.
– Ступайте с Богом, – еще раз склонился Мамут.
Отец Андрей встал и вышел с рукой в руках.
– Поезжайте, поезжайте! – торопил Саблин.
Лев Ильич подхватил Арину, вынес. Мамут двинулся следом.
– На посошок, – придержал Саблин Мамута за фалду. – У нас быстро не закладывают.
Хлестко открыв бутылку шампанского, он наполнил бокалы.
– Мне даже на лоб брызнуло! – Румянцева с улыбкой показала крохотный кружевной платочек с пятном крови.
– У вас сильная дочь, Дмитрий Андреевич, – поднял бокал Румянцев. – Такие здоровые, такие… крепкие ноги…
– Жена-покойница тоже… это… была… – пробормотал Мамут, уставившись на забрызганный кровью ковер.
Саблин протянул ему бокал.
– За славный род Мамутов.