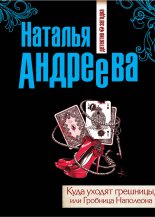500 Квирк Мэтью
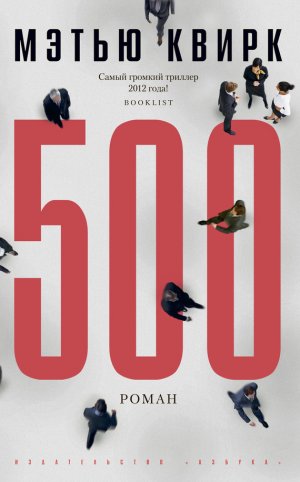
Пролог
Мирослав с Александером впихнулись на передние сиденья поджидавшего через дорогу «рейнджровера». Даже тесные английские костюмы, черные, как крепкий кофе, — обычная для дипкорпуса униформа — нынче не скрадывали вечно клокотавшую в обоих сербах злость. Напоследок Александер демонстративно приподнял правую руку, и я заметил блеснувший в ней «зиг-зауэр». Прямо гений хитроумия — этот Алекс! Надо сказать, два амбала спереди никакого мандража у меня не вызывали: самое скверное, что они могли со мной сделать, — это убить, и такой исход казался сейчас едва ли не лучшим вариантом.
Между тем стекло на задней дверце опустилось, и в окошке нарисовалась кровожадная физиономия Радо. Этот решил пригрозить мне обычной салфеткой: многозначительно поднеся ее ко рту, старательно промокнул уголки губ. Прозванный Сердцеедом, этот кадр и впрямь употреблял в пищу человеческие сердца. Я слышал, однажды он наткнулся в «Экономисте» на статью о некоем девятнадцатилетнем либерийском военачальнике с подобными вкусами и, сочтя, что это дьявольское пристрастие добавит к его криминальному имиджу новую грань и повысит его востребованность на перенасыщенном международном рынке, перенял сию привычку.
Меня, собственно, не очень-то пугала перспектива того, как этот тип вонзится зубами в мое сердце. Это было неизбежно и, как я уже сказал, сильно упростило бы стоявший передо мной выбор. Проблема в том, что он знал об Энни. И возможность того, что еще одного дорогого для меня человека грохнут из-за моих промахов, была куда страшнее вилки Сердцееда.
Я кивнул Радо и двинулся по улице. Над столицей стояло чудесное майское утро, небо сияло фарфоровой голубизной. Проступившая сквозь рубашку кровь потихоньку подсыхала на солнце, и заскорузлая ткань болезненно шваркала по коже. Колено распухло до размеров регбийного мяча. Приволакивая ногу по асфальту, я пытался сосредоточиться мыслями на коленке, дабы отвлечься от жуткой раны в груди, потому что стоило о ней подумать — и я мог вырубиться в любой момент, хотя боль, в принципе, была терпимой.
Наконец я добрался до конторы. Трехэтажный правительственный особняк, утопающий среди зелени Калорамы в компании с разными посольствами и канцеляриями, смотрелся, как всегда, изысканно. Там размещался офис «Группы Дэвиса», самой что ни на есть уважаемой вашингтонской фирмы в сфере стратегического консалтинга и государственных дел, в штате которой, надо полагать, я формально еще числился. Я выудил из кармана ключи и в нерешительности помахал ими над серым ковриком перед дверным замком. «Не заходи», — екнуло внутри.
Однако меня ждал Дэвис. Я поднял взгляд на камеру слежения. Замок, открываясь, зажужжал.
Оказавшись в фойе, я поздоровался с начальником охраны, отметив, как тот извлек из кобуры и прижал к бедру «беби-глок». Затем я повернулся к своему шефу Маркусу и кивнул ему, изобразив приветствие. Тот ожидал меня по другую сторону металлодетектора. Махнув мне ладошкой — проходи, мол, — он обшарил меня руками от шеи до колен, ища оружие и прослушку. Убивая этими самыми руками, Маркус сделал неплохую карьеру.
— Раздевайся, — велел он.
Я подчинился, стянул рубашку и штаны. Даже Маркуса, многое на своем веку повидавшего, передернуло при виде моей груди со сморщившейся вокруг степлерных скоб кожей. В поисках «жучков» он быстро заглянул мне под исподнее и лишь тогда удовлетворенно кивнул. Теперь я мог облачиться снова.
— Конверт, — протянул он руку к пакету из манильской бумаги, который я цепко держал при себе.
— Сперва сделка. — Этот конверт был единственным, благодаря чему я еще держался на белом свете, и мне, понятное дело, никак не хотелось его упустить. — Если я исчезну, содержимое получит огласку.
Маркус снова кивнул. Такая подстраховка была в порядке вещей. Он сам же меня этому и научил. Шеф препроводил меня вверх по лестнице к кабинету Дэвиса, запустил внутрь и стражником застыл у дверей.
Там, у окна, бесстрастно обозревая деловой центр округа Колумбия, стоял тот единственный человек, что внушал мне действительно серьезную тревогу, — этот вариант выбора представлялся мне куда страшнее, нежели угодить на вскрытие к Сердцееду Радо, — Генри Дэвис собственной персоной.
— Рад тебя видеть, Майк, — повернулся он ко мне с отеческой улыбкой. — Очень славно, что ты решил-таки к нам вернуться.
Он хотел заключить со мной сделку. Хотел снова подмять меня под башмак. И больше всего на свете я боялся, что отвечу «да».
— Как же это так скверно вышло с твоим отцом… — посетовал он. — Мне очень жаль.
Минувшей ночью отца не стало. Маркуса рук дело.
— Хочу, чтоб ты знал: мы не имеем к этому никакого отношения.
Я промолчал.
— Поинтересуйся-ка об этом у своих сербских друзей. — Он придвинулся ко мне ближе. — Ты ведь знаешь, мы можем защитить тебя, Майк. И защитить тех, кого ты любишь. Только скажи — и дело решено. Возвращайся к нам, Майк. Всего одно слово: «да».
Странное дело — при всех его грязных играх со мной, при всех мучениях, что он мне доставил, Дэвис, похоже, и впрямь полагал, что осыпает меня благами. Он искренне желал моего возвращения, он думал обо мне как о сыне, о юном воплощении самого себя. И сейчас ему надо было во что бы то ни стало меня подкупить, подчинить себе — иначе все его убеждения, вся его подлая, продажная империя катились к чертям.
Отец предпочел погибнуть, лишь бы не плясать под Дэвисову дудку. Решил, что лучше умереть гордым, нежели жить купленным. Его убрали. Чисто и аккуратно. Мне такая роскошь явно не светила. Моя смерть явилась бы только началом страданий. Передо мной не было достойного выбора. Потому-то я и оказался здесь и сейчас готов был пожать руку дьяволу.
Подняв конверт, я двинулся к окну. В этом пакете было то единственное, чего боялся Генри: доказательства уже позабытого всеми убийства. Его единственная в жизни оплошность. Единственный беспечный шаг за всю долгую карьеру. Частица его самого, утерянная сорок лет назад, — и эту частицу Дэвис теперь жаждал заполучить обратно.
— Вот это и есть настоящее доверие, Майк, — усмехнулся он. — Когда два человека, вызнав тайны друг друга, припирают друг друга к стенке. Взаимоуничтожение с обоюдной гарантией. Все остальное — лишь сентиментальная чушь. Я горжусь тобой, мальчик. Так и я играл в начале своего пути.
Генри частенько мне говорил, что каждый человек имеет свою цену, и вот он нащупал мою. Если я скажу «да», то получу взамен жизнь — дом, деньги, друзей, респектабельный фасад, о котором всегда мечтал. Скажу «нет» — и все кончено. И для меня, и для Энни.
— Назови свою цену, Майк. Ты должен ее знать. Всякий, продвигаясь вверх, когда-либо вступает в такую сделку. Это правила игры. Что скажешь?
Сделка старая как свет: продать свою душу за «все царства мира и славу их».[1] Придется, конечно, поторговаться об отдельных пунктах: я вовсе не собирался продать себя задешево. Ну да этот вопрос недолго уладить.
— Я отдаю вам улику и гарантирую, что больше никогда этот скелет в шкафу вас не потревожит, — сказал я, ткнув пальцем в конверт. — В обмен на это Радо убирают, полиция оставляет меня в покое. Я получаю назад свою жизнь и становлюсь полноценным партнером.
— И с этого момента ты мой, — сказал Генри. — Партнер во всех делах, в том числе и «мокрых». Когда мы найдем Радо, ты собственноручно перережешь ему горло.
Я кивнул.
— Что ж, договорились, — произнес Генри.
И дьявол протянул мне руку. Я пожал ее и передал вместе с конвертом свою душу…
Впрочем, чушь собачья — я затеял совсем другую авантюру. Умереть в бесславии, обнесенным почестями — или, продавшись, жить в полном довольстве, купаясь в славе? Я не выбрал ни то и ни другое. Я подсунул ему лишь конверт. На сделку с дьяволом я заявился с пустыми руками, так что выход у меня на самом деле оставался один — сразить подлеца его же оружием.
Глава первая
Годом ранее…
Я припозднился. Прежде чем зайти в аудиторию, оглядел себя в одном из огромных золоченых зеркал, что висели в корпусе повсюду. Под глазами от недосыпа темнели круги, на лбу краснела ссадина от приземления на жесткий ковролин. Во всем же прочем я ничем не отличался от других грезящих о карьерном росте индивидов, что, как и я, грызли гранит знаний в Лангделл-холле.[2]
Семинар назывался «Политика и стратегия». Допускали туда лишь самых прилежных студентов — всего шестнадцать светлых голов, — и имел он репутацию стартовой площадки для будущих «верховодителей» финансов, дипломатии, военного ведомства и правительственной сферы. Ежегодно в округе Колумбия и Нью-Йорке Гарвард избирал для ведения семинара солидных мужей, дошагавших до средней или высокой ступени карьерной лестницы. По сути, для студента с большими профессиональными амбициями — а недостатка в таких ребятах у нас в кампусе не было — оказаться в этой группе было неплохим шансом проявить свое умение широко и ясно мыслить в надежде на то, что кто-нибудь из сильных мира сего, какая-нибудь шишка ткнет в него пальцем и даст весомый толчок в блестящей карьере. Я огляделся за столом: несколько умников из законоведов, несколько — из экономистов и философов, даже парочка магистров с медицинского. Самомнение арией разливалось по аудитории.
Я третий год уже учился на юридическом — корпел над дипломом на стыке политики и юриспруденции — и при этом не имел ни малейшего представления, как удалось мне не просто пролезть в Гарвард, но еще и попасть на этот семинар. Впрочем, такое везение было вполне типично для последних десяти лет моей жизни, так что я перестал уже ему удивляться. Может, это была всего лишь долгая череда каких-то канцелярских ошибок? Я обычно считал, что чем меньше задаешь вопросов, тем лучше. В пиджаке консервативного покроя цвета хаки я выглядел как все, разве что чуть более потрепанным и обношенным.
Был самый разгар дискуссии на тему: «Первая мировая война», и профессор Дэвис выжидательно уставился на нас, вымучивая ответы, точно инквизитор.
— Итак, Таврило Принцип выходит вперед и бьет свидетеля рукояткой своего маленького браунинга образца тысяча девятьсот десятого года. Он стреляет эрцгерцогу в шею, попадая в яремную вену, затем — его супруге в живот, поскольку та заслоняет собой эрцгерцога. И так выходит, что тем самым он дает толчок к развязыванию мировой войны. Вопрос: зачем?
Профессор сердито оглядел сидевших у стола.
— Не повторяйте тупо то, что прочитали. Думайте.
Я наблюдал, как ерзают остальные. Дэвис, несомненно, относился к персонам значимым. Другие студенты с завидной одержимостью изучали подробности его карьеры. Я слышал о нем не так много, но вполне достаточно. Старый вашингтонский волк, он знал не только всякое весомое лицо в государстве за последние сорок лет, но и чиновников на два эшелона ниже и, что особенно важно, был в курсе всех закулисных тайн. Он работал на Линдона Джонсона, затем перекинулся к Никсону. Потом занялся «частной практикой», выступая посредником в неких сомнительных делах. Ныне он возглавлял высококлассную фирму, занимающуюся «стратегическим консалтингом» и именуемую «Группой Дэвиса» — что неизменно ассоциировалось у меня с «Кинкс»[3] (видите, насколько я был готов за столичную карьеру вгрызаться в глотки конкурентам!). Дэвис был влиятельным господином и, со слов одного из парней с семинара, мог позволить себе все и особняк в Чеви-Чейзе, и местечко в Тоскане, и ранчо в десять тысяч акров на калифорнийском побережье. Уже несколько недель, как его пригласили вести у нас семинар, и мои однокашники буквально вибрировали от волнения — никогда не наблюдал в них такого рвения охмурить препода. Так что я охотно верил, что где-то на высоких орбитах Вашингтона Дэвис сиял большой яркой звездой.
Обычно преподавательские методы Дэвиса сводились к тому, чтобы сидеть неподвижно, с тоскливой миной на лице, как будто перед ним сборище сопливых второклассников изливает чудовищную чушь. Не будучи человеком шибко крупным — где-то пять футов и десять-одиннадцать дюймов, он был каким-то, я бы сказал, видным. Он обладал особой притягательностью, которая ощутимо расходилась от него волной по комнате. Где бы он ни появлялся, все переставали разговаривать, все глаза обращались к нему, и довольно скоро люди собирались вокруг него, точно металлическая стружка у магнита.
А его голос — это вообще было нечто странное. При виде Дэвиса от него можно было ожидать рокочущего баса — однако говорил он всегда глухо, словно шелестя. На шее, как раз в том месте, где челюсть подходит к уху. У него имелся шрам, и кое-кто из студентов предполагал, что эта старая рана и есть причина такого тихого голоса, но о том, что с ним произошло, никто ничего не знал. Да и какое это имело значение, если все вокруг умолкали, стоило ему открыть рот.
В нашей же группе, напротив, все отчаянно хотели быть услышанными и замеченными Мастером, и тот выстраивал строгий порядок ответов на свои вопросы, каждому давая высказаться. В том-то и состоит искусство ведения семинара: когда дать волю болтовне, а когда в нее вмешаться. Это как бокс… ну, может, фехтование, или сквош, или другие излюбленные университетские забавы. Вот парень, который неизменно был среди нас первым и которому ничего бы не стоило начать распространяться о «Младе Босне»[4] под взглядом Дэвиса стушевался и начал что-то в страхе лепетать. Неистовое соперничество привело к тому, что студенты один за другим, почуяв слабину сидящих рядом, начали рьяно перекрикивать друг друга, прямо фонтанируя информацией о противостоянии Великой Сербии другим южнославянским странам, о гонениях против боснийских мусульман, о сербских ирредентистах, об Антанте и о политике двойных стандартов.
Я испытал благоговение. И не из-за того дикого числа выплеснутых фактов (некоторые ребята знали буквально всё, хотя вытянуть из них что-то на-гора не всякому было под силу), а из-за самой манеры дискуссии. Здесь каждый жест был наполнен смыслом! Казалось, будто, пока мои однокашники учились ходить и набирались ума-разума, их отцы вершили судьбы мира, потягивая дорогой виски, и что последние лет двадцать пять эти умники долбили историю дипломатии лишь в ожидании того часа, когда папаши, притомившись править миром, дадут им немного порулить. Они были такими… респектабельными, черт подери. С великим удовольствием я наблюдал за их подпрыгиванием. Я-то радовался всякой точке опоры в этом мире — и мне приятно было думать, что в конечном счете кого-то из этих везунчиков я смогу и обскакать.
Вот только не сегодня. Сегодня у меня возникла серьезная проблема, и я никак не мог сосредоточиться, чтобы вклиниться в словесную перепалку одногруппников с их острыми выпадами и парированиями, и лишь следил за ними со стороны. Бывали и у меня лучшие дни, но вот теперь, пытаясь направить мысли к малой политике на Балканах вековой давности, я видел лишь пылающее число, написанное крупными красными цифрами в моем блокноте, вдобавок подчеркнутое и обведенное кружком, — $83,359. А возле него номер — 43 23 65.
Минувшую ночь я совсем не спал. После работы (я прислуживал в баре «Барлей», в местечке, где любила собираться преуспевающая молодежь, вашингтонские яппи) я заскочил в заведение, где работала Кендра. Я решил, что снять в баре эту сексапильную малышку будет куда полезнее, нежели полтора часа поспать, прежде чем закопаться в тысячестраничную, мелким шрифтом, распечатку материалов по теории международных отношений. В черных волосах Кендры можно было утонуть, ее формы будоражили самые похотливые желания. Но главное в том, что девчонки вроде нее, работающие за чаевые и в постели не глядящие тебе в глаза, были полной противоположностью девушки моей мечты, как я ее себе представлял.
Проведя остаток ночи у Кендры, я к семи утра был уже у себя. Еще на подходе к дому я почуял недоброе, увидев несколько своих футболок на крыльце и отцовское старое, задрипанное кресло, лежавшее на боку на тротуаре. Парадная дверь была вскрыта, причем так, будто медведь вломился. В итоге я лишился: кровати, большинства предметов мебели, светильников и мелкой кухонной техники. Оставшееся мое барахло валялось в основном на улице.
Прохожие недоуменно пробирались через мой хлам по тротуару, точно это была распродажа ветхого скарба где-то на заднем дворе. Я отогнал людей подальше и побыстрее собрал то, что валялось. Отцовское кресло не пострадало. Весило оно едва ли не с легковушку, и, чтобы выпереть его наружу, требовалась смекалка и как минимум два дюжих молодца.
Поднявшись в дом, я заметил, что коллекторская служба Креншоу не прониклась ценностью «Истории Пелопоннесской войны» Фукидида или пятидюймовой стопки чтива, которое мне требовалось одолеть за два часа, оставшихся до семинара. На кухонном столе мне оставили маленькое любовное послание, гласившее: «Меблировка изъята в качестве частичной уплаты долга. Оставшаяся задолженность составляет 83 359 долларов».
Оставшаяся! Ишь ты! На сегодняшний день я уже достаточно знал законы, чтобы с одного взгляда выявить семнадцать грубейших ошибок в подходе этих деятелей к процедуре взимания долгов. Но эти коллекторы были безжалостны, как постельные клопы, к тому же я слишком поиздержался, платя за учебу, чтобы грамотными судебными исками раздавить их в тюрю. Ну да ничего, однажды придет и день расплаты!
Предполагается, что долги родителей умирают вместе с ними. Но только не у меня. Недостающие восемьдесят три штуки баксов ушли на лечение маминого рака желудка. Теперь ее не стало. Смею поделиться советом: когда ваша мать умирает, не вздумайте оплачивать ее счета по собственной чековой книжке. Потому что мерзкие кредиторы — типы вроде Креншоу — сочтут это хорошим предлогом, чтобы приходить к вам снова и снова уже после ее смерти, утверждая, будто вы автоматически унаследовали долги. Но это не совсем законно. Хотя как раз о букве закона и не задумываешься, когда тебе всего шестнадцать, когда один за другим приходят счета за лучевую терапию и ты хоть как-то пытаешься продлить маме жизнь, работая сверхурочно на фабрике мягкого мороженого в Милуоки, а отец при этом тянет двадцатичетырехлетний срок в федеральном исправительном заведении в Алленвуде.
Напряги вроде сегодняшнего случались у меня довольно часто, потому я даже не стал тратить время и беситься понапрасну. Чем больше все это дерьмо тянуло меня вниз, тем сильнее я лез из кожи, чтобы над ним подняться. А значит, мне надо было окружить свои заморочки непроницаемой стеной и всеми силами корпеть над учебой, чтобы не сидеть потом полным болваном на семинаре у Дэвиса. Я вышел со своим чтивом на тротуар, поправил кресло, уселся и, откинувшись на спинку, погрузился в статьи Черчилля, не обращая ни малейшего внимания на пешеходов вокруг.
К тому времени как я подготовился к семинару, мой запал изрядно выдохся. Всю ночь бившая ключом энергия, подпитанная сексом с Кендрой, успела иссякнуть, равно как и злобное рвение однажды мастерски прижать к ногтю поганца Креншоу.
Чтобы попасть на семинар, нужно было на входе в Лангделл-холл сунуть в считывающее устройство свою идентификационную карту. Я пристроился в длинную очередь студентов, проходящих турникеты и торопливо расходящихся по аудиториям. Однако на мою карту устройство отреагировало неожиданно: под надписью «Проходите» вместо зеленого вспыхнул красный. Металлический барьер заблокировался перед самыми моими коленями. Верхняя же часть тела по инерции продолжала двигаться, и я, не успев сообразить, что происходит, полетел башкой вперед, уткнувшись лбом в колючий ковролин на бетонном полу.
Симпатичная студенточка, сидевшая за столом с журналами, любезно объяснила, что мне следует справиться в Студенческой дебиторской службе, не числится ли за мной долгов за обучение. Затем с азартом обмазала мне ссадину антибактериальным гелем и выпроводила меня наружу. Креншоу, должно быть, подобрался к моему банковскому счету и перекрыл мои учебные платы, а Гарвард желает убедиться в платежеспособности своего питомца и, как и Креншоу, все получить сполна. Я обогнул Лангделл и прокрался с заднего, хозяйственного, входа вслед за студентом, выглянувшим покурить.
Похоже, в аудитории мое полуотсутствующее состояние бросалось в глаза. Дэвис будто буравил меня взглядом. И вот началось: я всеми силами пытался побороть зевоту, но ничего не мог с ней поделать. Я начал зевать — да так широко, по-кошачьи разевая рот, что и ладонью не прикроешь.
Дэвис буквально пригвоздил меня взглядом, заостренным бог знает сколькими меткими бросками, — таким зырком он сбил с ног, поди, немало профсоюзных боссов и агентов КГБ.
— Мы вам наскучили, мистер Форд? — прошелестел он.
— Нет, сэр. — Внутри у меня нарастало жуткое ощущение невесомости. — Я думаю.
— Так, может, вы поделитесь своими соображениями по поводу убийства?
Остальные так и расплылись от удовольствия: еще бы, одним зубрилой станет меньше!
Меня же отвлекали от темы мысли куда более приземленные: я не смогу избавиться от Креншоу, покуда не получу степень и не устроюсь на хорошо оплачиваемую работу, — и я не смогу получить ни то ни другое, покуда не стряхну Креншоу. При этом восемьдесят три штуки баксов я должен Креншоу и сто шестьдесят — Гарварду, и добыть их абсолютно неоткуда. И теперь все то, ради чего я десять лет драл задницу, вся вожделенная респектабельность, заливавшая сейчас аудиторию, навеки ускользали у меня из рук. А закрутил всю эту безнадежную круговерть мой сидящий в тюряге отец, который первым связался с Креншоу, который на меня, двенадцатилетнего, оставил дом, который всему миру готов был оказать покровительство и за это пострадать, но только не маме — от нее он, можно сказать, отпихнулся. Передо мной возник его образ, его обычная ухмылка, и все, о чем сейчас я мог думать, — это…
— Месть.
Дэвис поднес к губам дужку очков, выжидая, что я выдам дальше.
В смысле, Принцип — жалкий бедняк, верно? Шесть его братьев-сестер перемерли, а его самого родители вынуждены были отдать на сторону, будучи не в состоянии прокормить. И по его мнению, в том, что он не может никак пробиться в жизни, виноваты были единственно австрийцы, чьи притеснения он видел с самого рождения. Он был неимоверно костлявым, этаким доходягой, так что даже партизаны уржались и послали его подальше, когда он попытался к ним прибиться. Это было убогое ничтожество, замахнувшееся на сенсацию. Другие убийцы теряли самообладание, но этот… Его, как никого другого, все на свете достало. Он жаждал мести, реванша. Двадцать три года обид и унижений! Да он готов был пойти на все, лишь бы сделать себе имя. Даже на убийство. И особенно — на убийство. Ибо чем опасней цель, тем больше она стоит.
Одногруппники брезгливо отворотили носы. Обычно я мало говорил на семинаре, но если уж открывал рот, то старался, как и остальные, использовать безупречный, выхолощенный язык Гарварда, теперь же я пустил в ход привычные для меня словечки и интонации.
Я говорил как уличный пацан, а не подающий надежды кандидат в правительственные круги. И был готов, что Дэвис разорвет меня в клочки.
— Неплохо, — молвил он. Подумал мгновение, обвел глазами аудиторию. — Мировая война — это великая стратегия. Все вы так или иначе становитесь пленниками абстракций. Никогда не упускайте из виду, что в конечном счете все упирается в конкретных людей: кто-то ведь нажимает пальцем на курок. Желая вести за собой массы, вы должны начинать с каждого отдельного человека, с его страхов и желаний, с тех тайн, в которых он ни за что не признается, — и должны знать о нем едва ли не лучше его самого. Лишь пользуясь этими рычагами, можно управлять миром. Каждый человек имеет свою цену. И как только вы нащупаете ее — он ваш, душой и телом.
После семинара я собирался поскорее разделаться с делами и отправиться домой — разбираться со своим незадачливым тылом. Внезапно я почувствовал чью-то руку на плече. Я ожидал, что это Креншоу, готовый изничтожить меня при всем честном гарвардском народе…
Лучше бы это был Креншоу. За спиной у меня оказался Дэвис с его буравящим взглядом и тихим, шуршащим голосом.
— Я хотел бы с вами поговорить, — сказал он. — В десять сорок пять в моем кабинете. Сможете?
— Как штык, — кивнул я со всей невозмутимостью, на какую только был способен.
Может, этот монстр предпочел сожрать меня при частной беседе? Просто класс!
Организм требовал еды и сна, а кофе с успехом компенсировал бы и то и другое. Возвращаться домой времени не было, и я непроизвольно двинул к «Барлею» — бару, где я работал. В голове, вытеснив прочие мысли, засели долг в 83 359 баксов и безысходная уверенность, что я ни в жизнь не смогу его погасить.
Бар представлял собой претенциозного вида помещение с чрезмерным числом окон. Единственным человеком там на этот час оказался менеджер Оз, который по несколько смен в неделю прирабатывал тут барменом.
И лишь пригнувшись к дубовой стойке и сделав добрый глоток кофе, я поймал себя на мысли: явился я сюда вовсе не за порцией кофеина, в голове у меня крутились комбинации цифр — 46 79 35, 43 23 65 и так далее. Кодировка здешнего офисного сейфа.
Оз, пасынок хозяина бара, был сильно нечист на руку. Причем приворовывал он не от случая к случаю — усушка там, утруска, — а постоянно обносил заведение. Некоторое время я присматривался к его игре, к тому, как он «не продает» напитки, прикарманивая за них наличные: обслуживая своих клиентов, Оз по полсчета не проводил чеком через кассу. Ежевечернее выуживание такого количества бабок из ящика с выручкой неминуемо превращалось для него в некоторую проблему — ведь мы-то, официанты, в ожидании чаевых вечно топтались рядом. А потому я был чертовски уверен — зуб бы дал! — что этот кретин держит свои денежки в сейфе. Возможно, потому, что действия Оза были топорным вариантом того, что сам бы я делал на его месте, если б еще очень давно не дал зарок никогда не брать чужого. Говоря научным языком, во мне сидел некий «бдительный оппортунизм»: если глядеть на мир глазами преступника, то видится все совсем иначе — подумаешь, подтибрить оставленную без присмотра жестянку леденцов!
В последнее время я уже начал за себя опасаться, поскольку остро нуждался в деньгах. Хуже того — мне как назло постоянно бросались в глаза незакрытые машины, незапертые двери, забытые где-то сумочки, дешевенькие замки и темные лестничные площадки. Как ни старался, я не мог забыть годы ученичества, свой нечистый опыт и весьма сомнительное мастерство. Я не мог не замечать все эти назойливые приглашения свернуть на кривую дорожку.
Люди почему-то склонны думать, что воры-домушники вскрывают замки, карабкаются по водосточным трубам или морочат головы доверчивым вдовам. Обычно же им достаточно, что называется, разуть глаза. Денежку так или иначе оставляют в свободном доступе сами добропорядочные граждане, которым и в голову не приходит, что рядом могут случиться темные личности вроде меня. Спрятанный под коврик ключ, незапертый гараж или пин-код, знаменующий некую годовщину. Берите кто хочет! И вот ведь забавная штука: чем честнее я становился, тем проще мне было попасться: передо мной словно постоянно повышали уровень соблазна, все проверяя и проверяя меня после стольких лет безупречной жизни. Абсолютно безобидным с виду студентиком, застегнутым на все пуговицы, я мог бы, пожалуй, беспрепятственно выйти из Кембриджского банка сбережений и кредита с потасканной сумкой, набитой сотенными купюрами, и с револьвером на ремне — причем охранник услужливо придержал бы мне дверь и пожелал приятного уик-энда.
Со своим «бдительным оппортунизмом» я и вычислил, что Оз на день запирает деньги в сейф, — и, чтобы открыть его, только и требовалось, что подобрать последние цифры кода. А потом просек, что заканчивается комбинация на 65. Даже если Оз «сбросил» цифры, сейфы «Сентри», насколько я помнил, поступали от производителя с установленным в них небольшим числом кодов — их называют еще проверочными, — и если код Оза заканчивается на 65, то, скорее всего, кому-то было очень лениво менять оригинальную фабричную комбинацию 43 23 65. Еще я заметил, что Оз едва бывал в состоянии отсчитать чаевые, не говоря уж о его способности ровно ходить, и что его пьянство все больше усугублялось: в десять тридцать утра он в течение пяти секунд набулькивал себе в кружку виски «Джемесон», слегка полируя его кофейком. А если он и заметит, что у него что-то пропало, — кому он скажет? Воришки-то не в чести.
Оз выложил ящики с наличными на барную стойку. Потом вместе с ними удалился в кабинет. Послышалось, как открылся и закрылся сейф. Вернувшись, Оз бросил:
— Сгоняю за сигаретами. Приглядишь за местом?
Случай постучался.
Я кивнул, и Оз ушел.
Прямо с кружкой кофе в руке я зашел в кабинет, подступил к сейфу. Он оказался открыт. Господи, он прямо просил, чтобы его обчистили! Оценивая содержимое, я насчитал сорок восемь тысяч долларов в банковских пачках и еще где-то штук десять наличности, сложенной стопкой. Похоже, банки Оз обходил стороной.
Сценариев теперь было два: я мог свистнуть эти деньги вполне в духе Оза, прибиравшего к рукам все, что плохо лежит, а потом, надолго очистив свой тыл от Креншоу, закончить Гарвард. Или мог справиться сейчас с искушением, явиться сюда перед рассветом и обчистить сейф. Задняя дверь бара была надежна, как Форт-Нокс,[5] а вот парадную дверь можно просто забавы ради вскрыть за полторы минуты — что вполне типично. Страховка выплачивается лишь при наличии следов взлома. К тому же никто при этом не пострадает.
Я проверил ящики стола, затем пошарил взглядом по пробковой обшивке стен. Тут как тут! Вот он, пришлепанный к стене листок, на котором Оз своими каракулями вывел 43 23 65. Нате вам комбинацию — милости просим!
Мне, хоть тресни, требовалось внести деньги за учебу — хотя бы за последнюю неделю. Иначе не видать мне никакой степени. Все старанья псу под хвост! Кровь бешено застучала в висках. Дрожь прошла по телу…
Потом стало легче. Меня отпустило. Момент ушел. Десять лет я был безупречно чист, десять лет уверенно поднимался на ноги. И ведь ни разу не сбился с пути, не стащил и карамельки в магазине.
А все ж приятно было, черт возьми, стоять перед чужим открытым сейфом! Даже чересчур приятно. Воровское начало все же прочно сидело у меня в крови. И я знал, что это дерьмо уничтожит меня, как уничтожило отца, как разрушило нашу семью, — если я дам ему хоть мало-мальский шанс. Я глянул на свою старательно отглаженную рубашку, на кожаные ботинки, на глядевшего на меня с обложки Фукидида.
— Вот бли-ин! — с досадой выдохнул я.
Кого я пытаюсь одурачить? Я был уже достаточно приличным человеком, чтобы попасться на искус воровства, — и все ж таки слишком искусным вором для человека приличного.
Я глотнул остатки кофе, поглядел в пустую кружку. Давным-давно ради того, чтобы выжить, я выбрал честность и намерен был держаться ее, даже если эта честность однажды мне выйдет боком.
И я с чувством захлопнул дверцу сейфа.
Прежде кабинет Дэвиса рисовался мне как кадр из фильма о Второй мировой: сплошь завешанная картами комната с глобусами в человеческий рост — и он сам, водящий армейские соединения лопаточкой крупье. Вместо этого администрация Гарварда засадила его в тесный, забитый разной офисной канцелярией кабинетик в Литтауэр-холле,[6] весь обшитый вишневым шпоном и без единого окна.
Сидя напротив Генри Дэвиса, я испытал состояние дежавю. Изучающе взиравший на меня, он словно разросся в размерах, и из глубин памяти у меня всплыло, как когда-то я замер в зале заседаний под тяжелым взглядом судьи.
— У меня есть несколько минут — надо успеть на самолет в округ Колумбия, — сказал Дэвис. Но мне хотелось с вами переговорить. Летом вы были на стажировке в компании «Дэмрош и Кокс»?
— Да, сэр.
— И после университета планируете работать у них?
— Нет, — ответил я.
Это было нечто из ряда вон. Реальная работа в школе права предоставляется студентам в первые полтора года, когда их распределяют по фирмам на летнюю стажировку. В фирме стажера кормят и поят и переплачивают за ничегонеделание, рассчитывая, что затраченное окупится через семь чертовых лет, когда, сделавшись зрелым специалистом, он воздаст сторицей уже как полноценный сотрудник. И если уж ты попал куда на лето, то более или менее получил гарантию в трудоустройстве после окончания универа — если ты, конечно, не полный дебил. В «Дэмрош и Кокс» меня назад не ждали.
— Почему нет? — спросил Дэвис.
— Жесткая экономия, — усмехнулся я. — Я ж знаю, что я не типичный кандидат.
Дэвис извлек из стола несколько листков бумаги и быстро проглядел их. Я узнал свое резюме. Раздобыл, видать, в службе по трудоустройству.
Управляющий из «Дэмрош и Кокс» сказал, вы проявили блестящие знания и волевую натуру.
— Очень любезно с его стороны.
Дэвис подровнял листки и положил на стол.
— Дэмрош и Кокс — парочка чертовых снобов-белоботиночников,[7] — процедил он.
Я и сам придерживался того же мнения, видя в этом главную причину того, что они от меня отказались, однако не сразу переварил услышанное от Дэвиса. Его-то фирма имела репутацию самой что ни на есть крутой из всех «чертовых снобов-белоботиночников».
— В девятнадцать вы поступили на флот, в то время как большинство ваших нынешних товарищей по семинару проводили свободный от учебы год в Европе, гуляя и пьянствуя. Служили старшим сержантом. Затем год проучились в колледже в Пенсаколе, перевелись в штат Флорида и, закончив двухгодичный курс, выпустились в числе первых. И, черт возьми, поступили в Гарвардскую школу права с почти превосходными результатами тестирования! Теперь вы претендуете на двойную степень магистра — Института Кеннеди и школы права. И… — Он сверился с другой бумагой. — Вы заканчиваете четырехлетнюю программу за три года. Как, позвольте узнать, вам удается за все это платить?
— Взял ссуду.
— В полтораста тысяч долларов?
— Ну, где-то так. Еще подрабатываю в баре.
Дэвис, похоже, отметил круги у меня под глазами.
— Сколько часов в неделю?
— Сорок. А когда и пятьдесят.
— И притом лучший на курсе. — Он покачал головой. — Я спрашиваю об этом потому, что вы великолепно разгадали мотивы, двигавшие Гаврилой Принципом: под вами то, что раздувает пламя?
Судя по всему, я попал на собеседование по найму. Я попытался припомнить избитые фразы о воспитательной колонии, призвать к ответу сидящего во мне отличника-зубрилу — но не представлял, как это получше изложить. Дэвис упростил мне задачу:
— Я бы предпочел, чтоб вы не несли тут чушь собачью. Я позвал вас сюда потому, что, судя по сказанному вами на семинаре, вы, похоже, знаете о реальном мире что-то такое, что способно двигать людьми. Что движет вами?
Рано или поздно он все равно бы выяснил мою подноготную, так что я решил разделаться с этим вопросом раз и навсегда. Сей факт моей биографии в досье был обойден, но вовсе не изжит из памяти. А люди вроде партнеров из «Дэмрош и Кокс» всегда все разнюхают. Они на дух чуют таких, как я.
— Будучи совсем юным, я вляпался в переделку. И судья поставил передо мной простой выбор: поступить на военную службу или закончить жизнь в тюрьме, если раньше не подохну. Флот меня исправил, научил дисциплине. Мне нравились там и жесткий распорядок, и всеобщая напористость, и я привнес все это в учебу.
Дэвис поднял со стола папки, закинул в свой портфель, затем поднялся:
— Вот и хорошо. Я люблю знать, с кем работаю.
Я поглядел на него, слегка озадаченный этим «с кем работаю». Обычно работодатели, уловив намек о моем прошлом, указывали мне на дверь — «жесткая экономия», мол, или «человек не нашего типа». Дэвис повел себя иначе.
— Поступите ко мне на работу, — сказал он. — Для начала положу две сотни в год. И тридцать процентов премии по исполнении работы.
«Да», услышал я свой голос, даже не успев толком ничего обдумать.
Этой ночью я спал в своей пустой квартире на подтравливающем надувном матрасе и каждые два часа вставал, чтобы его подкачать. Рассвет все не наступал, я крутился с боку на бок, и в какой-то момент, помнится, до меня дошло, что, когда Дэвис сказал насчет моей работы в округе Колумбия, он выдал это в утвердительной форме, а вовсе не как вопрос.
Глава вторая
Шкафчик из красного дерева гробом, конечно, не являлся, но, проторчав в нем битых четыре часа, я чувствовал себя точно в могиле. Зато я понял, как тяжело, оказывается, столько времени оставаться неподвижным. А ведь многие люди в подобном вместилище подолгу лежат на спине, причем мертвые. Скоро я, впрочем, обнаружил, что, если чуть наклонить вперед голову и уткнуться в угол шкафчика, то можно даже малость вздремнуть.
История того, как я оказался в этом шкафчике, несколько запутанна. Если вкратце, то я упорно преследовал одного мужика по имени Рэй Гулд, потому что был влюблен — в чудесную девушку Энни Кларк в частности и в мою новую работу вообще.
Уже почти четыре месяца я работал в «Группе Дэвиса». Странная это была фирма, совершенно непонятно чем занимающаяся. Кого спросить — так государственными делами и стратегическим консалтингом. Обычно эти слова используют как эвфемистическое обозначение лоббизма.
При слове «лоббист» у вас перед глазами, пожалуй, нарисуется этакий мерзавец в мокасинах с кисточками, уверенный, что все на свете можно купить и продать, который подкупает политиков, пробивая корпоративные или какие-то личные интересы, и в конечном счете превращает мир в рассадник рака легких или отравленных рек. В сущности, таковы они и есть. Вот только те времена — семидесятые—восьмидесятые годы минувшего века, — когда процветали откаты и откровенный порок, давно ушли. Нынешние лоббисты целыми днями сидят в программе «Пауэр-пойнт», кликая «мышкой» по слайдам сомнительных презентаций, в то время как унылые парнишки из младшего персонала конгресса втихаря проверяют свои смартфоны.
Так вот, те деятели — просто сброд. Ставить их рядом с людьми из «Группы Дэвиса» все равно что сравнивать брюлики «Зейлс» с алмазами от «Тиффани» или «Картье». Фирма Дэвиса на самом деле была одной из множества контор, официальным лоббизмом как раз не занимавшихся. Такого рода фирмы создаются вашингтонскими тяжеловесами от политики — бывшими хаус-спикерами, бывшими статс-секретарями, экс-советниками по делам безопасности — и оказывают куда большее давление на вашингтонские политические круги, нежели обычные лоббисты, получая от этого немалую выгоду. Они нигде не значатся как лоббистские, не создают вокруг себя шумихи. Им вовсе не нужна реклама — у них имеются связи. Существуют эти фирмы весьма обособленно. И еще они очень и очень дорогие. Если вы действительно хотите чего-то добиться в Вашингтоне, и у вас есть деньги, и вы в курсе, что даже очень честные и достойные люди добывают рекомендации в ведущие фирмы каким-то левым путем, — вот сюда-то вам и дорога.
«Группа Дэвиса» существовала как раз на пике этого непростого мирка. Она занимала красивый особняк в Калораме, в окружении разросшихся деревьев и старых европейских посольств, подальше от деловой части города и Кей-стрит,[8] где и растопыривали пальцы большинство лоббистов.
Еще в первые дни моего пребывания в Ди-Си[9] я начал понимать, что «Группа Дэвиса» меньше всего озабочена собственно бизнесом, а позиционирует себя скорее как тайное общество или даже теневое правительство. Известнейшие личности, которых я привык видеть на первой полосе «Пост» и даже в книгах по истории, расхаживали себе по фирме или, как любой из нас, материли зажевавший бумагу принтер.
Дэвис, как и прочие начальники, изо дня в день занимался, по сути, тем же, чем и в бытность свою в правительстве, — десятки лет он верховодил бюрократической верхушкой, точно зная, где какую струну подтянуть, на какого функционера поднажать. Я, словно чудо, наблюдал, как он заставляет всесильный, но вялый, неуклюжий, с трудом работающий аппарат — федеральное правительство — пробуждаться к жизни и претворять его, Дэвиса, прихоти в реальность.
Когда-то ему приходилось отчитываться перед избирателями, жертвователями и политическими партиями. Теперь же он отчитывался только перед самим собой. Дэвису предлагали намного больше дел, нежели он в состоянии был осуществить, и он пользовался преимуществом отбирать лишь тех клиентов, которые вписывались в его потаенные планы.
Естественно, никто обо всем этом открыто не говорил. Чтобы уловить распорядок работы и внутренние правила фирмы, нужно было просто внимательно за всем наблюдать и задавать верные вопросы. «Группа Дэвиса» была старой закваски. Многие фирмы еще пытаются удержать некий налет аристократизма — костюмы там, библиотеки, отделка из дорогой древесины. Но все их претенциозные замашки давно уже выдавились «цифродробилкой»: теперь каждый измеряет свою жизнь ячейками электронной таблицы — количеством оплаченных часов. Задача каждого сотрудника — набрать этих часов побольше, и с первого же дня работы он как белка в колесе.
У Дэвиса все было совсем иначе. Не было никакого координирования, никаких руководств и нормативов. Только с полдюжины новопринятых кадров — а в отдельные годы не было и таковых. Каждого из нас вводили в курс дела, назначали помощника и еженедельно вручали авансом чек на сорок шесть сотен долларов. Все, что выше этой суммы, зависело от нас — причем работу себе требовалось найти. Начальники и партнеры обитали на третьем этаже — который был для меня точно крыло Версаля, — старшие сотрудники занимали второй. Мы были младшими, салагами, и нас держали на первом этаже рядом с администратором, отделом кадров, бухгалтерией и аналитиками. Младший сотрудник брался лишь на испытательный срок. Ему давали полгода — а кому-то и год, — и либо он доказывал свою значимость для компании, либо его увольняли. И никто не наставлял его, что и как делать. Чтобы узнать правила игры, приходилось сунуть нос к каждому сотруднику — но притом без малейшего нахальства и бесцеремонности. Такт и осмотрительность были главными добродетелями в «Группе Дэвиса».
Поначалу ты побирался каким-нибудь маленьким дельцем и тебя использовали для изучения жертвы (прошу прощения за мой давний лексикон!) — то есть «лица, принимающего решения», на которого фирма рассчитывала надавить. Это означало, что тебе следовало разнюхать о своей жертве все, что только можно, включая подробности частной жизни, и отобрать из найденного самое существенное в каждом конкретном случае — ни больше ни меньше. Результат излагался в докладной записке — максимум страница.
Это называлось «море кипятить». Так что из того? Мы, салаги, и понятия об этом не имели, но чертовски были уверены, что сделать все надо на «отлично».
Это было самое сложное. И партнеры, и старшие сотрудники знали, что чем больше тебе дадут покорячиться в работе, тем больше станешь лезть из кожи вон, лишь бы потом погладили по головке. А потому никто и никогда не говорил конкретно, что правильно, а что нет. Только сложат у рта пальцы домиком и со словами: «Давай-ка еще разок попробуй» — переправят к тебе по столу плод твоих нескончаемых ночей и выходных в офисе, всякий раз требуя большего. Если повезет, то получишь редчайший подарок в виде куцего «неплохо» — в «Группе Дэвиса» это означало высшую точку удовлетворения. А если добываешь из моря не ту соль — тебя уволят. В общем, или плыви, или потонешь.
Я настраивался плыть. Новичком на флоте я отработал бессчетно суровых нарядов, и если здесь сидеть пялиться в компьютер считалось тяжким трудом, я готов был стать умницей. Так что едва я просыпался, как садился за работу.
Денег хватало и на оплату Гарварда, и на то, чтоб держать на расстоянии вымогателя Креншоу. И даже при том, что я откладывал пятую часть на черный день (а я по-прежнему был уверен, что однажды коврик у меня из-под ног таки выдернут), у меня оставалось больше, нежели я мог потратить. Я мог теперь позволить себе обедать не по талонам и снимать более или менее приличную квартиру, куда не стыдно приводить людей.
И деньги были не единственным моим выигрышем. За то короткое время, что поработал у Дэвиса, я начал получать льготы, о которых прежде и представления не имел, которые мне даже и не снились.
На прежнее мое жилье в Кембридже послали перевозчиков, чтобы я мог оттуда съехать. Эти молодые ребята оказались достаточно воспитанны, чтобы не умереть со смеху при виде моих обчищенных коллекторами апартаментов. Полчаса они вежливо убеждали меня, что им не стоит помогать. Все, что мне нужно было сделать, — это собрать в сумку личные вещи и отогнать мой пятнадцатилетний «джип-чероки» в округ Колумбия. Всякий раз, как я втапливал больше пятидесяти пяти миль в час, из моих спутников выбивался липкий страх, точно из тугих почек листья по весне.
Дэвис поселил меня в принадлежащем фирме доме со швейцаром и консьержкой на Коннектикут-авеню, в квартире аж на девятьсот квадратных футов со спальней и балконом.
— Живите там, пока не присмотрите для себя жилье, — сказал он мне в первый же день. — Мы сведем вас с риелтором, но, если вы настроены работать, вместо того чтобы ездить осматривать квартиры, мы оценим ваши старания.
Даже если бы я не экономил деньги, мне все равно нечего было покупать. У фирмы имелся парк машин для обслуживания сотрудников, и завтракали, обедали и ужинали мы ежедневно в офисе.
В первую же рабочую неделю я познакомился со своей помощницей Кристиной, миниатюрной венгеркой. Она была такая аккуратная, пунктуальная и рациональная, что я едва не заподозрил в ней робота. Она шефствовала надо мной во всем: у нее я мог узнать, где находится почта, а где химчистка. Она не давала мне ни малейшей возможности самостоятельно выполнить какое-либо задание, делая за меня самую нудную и кропотливую работу.
— Извините за столь назойливую привязанность, мистер Форд. И не сочтите за чрезмерную роскошь. Считайте, для Дэвиса это гарантия того, что вы будете думать лишь о своем задании и принесете ему финансовую отдачу.
Это немного упростило мне жизнь. Будучи в разъездах по поручениям, мне все время приходилось разрешать какие-то досадные проблемы — то стоять в очереди в отдел транспортных средств, то дожидаться кабельщика. И сам собой напрашивался вывод, что вся жизнь — это череда тех или иных мелких препятствий. Тогда-то я и начал кое-что понимать. Прежде деньги мне нужны были, чтобы выживать, чтобы из месяца в месяц удовлетворять жизненно необходимые потребности. Я никогда, в сущности, не думал, что именно они привносят в нашу жизнь те неисчислимые преимущества, что люди вкладывают в слово «достаток».
Все это поначалу внушало некоторую неловкость, даже как-то начало меня изнеживать. Мне привычнее было видеть себя голодным и измотанным. Но когда у тебя в день двенадцать интервью и надо осилить тысячу четыреста страниц документов, когда еженедельно требуется делать по два отчета, которые могут тебя или вознести, или уничтожить, и когда партнеры могут в любой момент свалиться на голову с «проверочкой», которая может оказаться для тебя последней, у тебя совсем нет времени на то, чтобы изнежиться. И постепенно начинаешь понимать, что Кристина права: заказанная в конференц-зал тайская лапша и машина до дома далеко не разорительная для Дэвиса цена, чтобы поддерживать работников в деятельном состоянии за две-три сотни баксов в час при семидесяти часах в неделю.
Разумеется, мне нужны были деньги, и мне очень нравились предоставляемые сотрудникам «Группы Дэвиса» льготы, но вовсе не это каждое утро в пять сорок пять вытягивало меня из постели. На ноги меня поднимал любимый ритуал надевания сияющих начищенных ботинок и хрустящей накрахмаленной рубашки. Мне нравилось уже до девяти утра вычеркнуть из списка дел восемь заданий. Мне нравилось, как подошвы моих ботинок от «Джонстон и Мерфи» стучат по мраморному полу вестибюля Дэвисовой фирмы, эхом отражаясь от дубовых панелей. Мне нравилось, проходя по коридорам, наблюдать мудрых мужей, занятых чрезвычайно важной работой, видеть Генри Дэвиса и экс-директора ЦРУ, смеющихся во внутреннем дворике, точно давние соседи по общаге, и осознавать, что если я и дальше буду пахать так, что дым из ушей, то в один прекрасный день вольюсь-таки в их круг. Что-то вроде этого двигало мной еще с той поры, когда судья поставил передо мной выбор. Мне требовалось обрести нечто большее, нежели я собой представлял, стать частью чего-то значительного, раствориться в честном труде — чтобы все это «большое и значительное» сдержало преступные начатки в моей крови.
Я готов был делать что угодно в фирме Дэвиса, лишь бы удержаться в этом респектабельном мире. Так вот я и оказался закрытым в шкафчике красного дерева.
Те первые несколько месяцев были для меня своего рода вступлением в общину. Никто не говорил, как именно, но каждый твой шаг был под контролем. Периодически тот или иной испытуемый сотрудник исчезал как будто накануне вечером где-то в узком кругу «Группы Дэвиса» прошло тайное голосование и против неугодного лица каждый поставил черную метку. Так, по крайней мере, поговаривали среди салаг. Конечно, тут было некоторое преувеличение, однако я все же усвоил этот намек и сделал вывод, что первое свое реальное задание надо выполнить, хоть умри.
В бизнесе, касающемся «правительственных дел», когда какого-то бюрократа или политика понуждают сделать то, чего желает клиент, рано или поздно приходит момент под названием «запрос». И сколь бы запутанным ни было дело в целом, оно так или иначе сводится к единственному вопросу: выдаст ли этот человек то, чего от него требуют? Да или нет?
Запрос делает один из партнеров — величественное лицо компании. Реальная же работа ложится на сотрудника. И когда берешь первое свое дело, то всецело зависишь от результата «запроса». Если «жертва» говорит «да» — ты в золоте. «Нет» — и ты ушел.
Первое дело мне поручил Уильям Маркус. Его кабинет был рядом с кабинетом Дэвиса, на третьем этаже. Это был «президентский коридор»: по одну его сторону располагался дубовый зал заседаний, по другую шли шесть или семь апартаментов, каждый размером с мою квартиру, из окон которых открывался живописный вид на округ Колумбия с вершины холма в Калораме. Когда я шел по этому коридору, у меня точно шерсть вставала на загривке — максимально концентрируясь, я как будто возвращался к давней военной муштре и строевому тридцатидюймовому шагу.
Люди, бывавшие в этом коридоре, буквально правили миром. Они ежедневно, без малейших колебаний, делали или губили карьеру шустряков-яппи вроде меня. Большинство начальников фирмы имели длинный и насыщенный послужной список — за что клиенты, собственно, и платили. Прошлое же Маркуса было загадкой. Насколько мне известно, я был единственным из молодых сотрудников, за кем он приглядывал. Это было и очень хорошо, и очень плохо, и, как оказалось впоследствии, столкнулся я с недюжинным талантом.
Маркусу было уже за сорок пять, может, и больше — по нему трудно было сказать. На первый взгляд я бы принял его за троеборца или за видного «белого воротничка», который всякий раз после работы молотит по кожаной груше в боксерском зале. У него были коротко стриженные рыжевато-каштановые волосы, могучая бульдожья челюсть и отвислые щеки. Он всегда как будто пребывал в хорошем расположении духа, что делало его чуть менее страшным — но лишь до того момента, пока не окажешься с ним один на один в его кабинете. Там все его улыбки и простецкие манеры точно испарялись.
Маркус дал мне в разработку и первый «запрос». Мультинациональный гигант со штаб-квартирой в Германии (которого мне, пожалуй, не стоит называть открыто, а потому обозначу его так, как мы именовали его в офисе: Кайзер) исхитрился найти лазейку в налоговом законодательстве и использовал это, чтобы резко занизить цены и выдавить американские компании из бизнеса. Это было типичное межнациональное налоговое разбирательство, но в конечном счете все свелось к тому, что заокеанские компании, продающие американцам услуги, платят заметно меньше налогов и пошлин, нежели компании, которые действительно отгружают товары. Кайзер, естественно, делал вид, что это те продают Штатам товары. А те утверждали, что они всего лишь выступают посредниками между американским потребителем и заокеанскими поставщиками и производителями и потому должны платить малый налог лишь за свои посреднические услуги. «Как раз мы всего лишь посредники, — оспаривал это Кайзер, — мы даже и не касаемся товаров». Если посмотреть на эту цепочку поставок со стороны, становилось ясно, что они продавали товары в точности как и все прочие, просто уклонялись при этом от высоких налогов.
Ну что, включаетесь в тему? Браво! В общем, те ребята, которых выдавили из бизнеса, наняли «Группу Дэвиса». От нас хотели, чтобы мы заткнули ту налоговую лазейку и выровняли их с Кайзером игровое поле. Это означало отыскать в недрах Вашингтона нужного чиновника, который подписал бы бумажку, гласящую, что Кайзер продает именно товары, а не услуги.
Всего одно словечко — но за это «Группе Дэвиса» отстегивалось ни много ни мало пятнадцать миллионов долларов, что, как болтали среди моих коллег, было минимальной суммой контракта, способной привлечь внимание нашей фирмы.
Маркус изложил мне ситуацию, сообщив несколько деталей, но совсем не много: все ж таки первое задание. Он даже не сказал мне, что конкретно хочет получить на выходе — каков, так сказать, ожидаемый «продукт». Теперь моя задница официально была поставлена на карту — а я даже и понятия не имел, что надо делать.
Хотя за последние десять лет я, пожалуй, впервые почувствовал, что могу не справиться с работой. И на удивление, это неплохо сработало: я решил, что буду делать то же, что и всегда, — брать свое напором. Сто пятьдесят часов работы — и десять дней спустя, поговорив с каждым экспертом, что отозвался на мой призыв о помощи, перечитав все соответствующие своды законов и газетные статьи, которые хоть каким-то боком касались моего дела, я «дистиллировал» дело Кайзера сперва до десяти страниц, потом до пяти, наконец до одной. Так я выпаривал свое море. Осталось лишь восемь наиважнейших пунктов, и каждый из них был достаточно мощным, чтобы уничтожить Кайзера. Это был бумажный эквивалент чистого героина, и я весь дрожал от гордости и недосыпа, передавая доклад Маркусу и ожидая, что мой результат его проймет.
С полминуты он глядел в мою писанину, потом тихо рыкнул и сказал:
— Все это хрень собачья. Ты не можешь знать ответ на вопрос «зачем?», пока не знаешь «кто». Все это замыкается на одном конкретном человеке. И не трать мое время, пока не нащупаешь точку воздействия.
Для меня это был как сигнал о новом выступлении. Вооружившись мудростью Конфуция,[10] я с удвоенным рвением вгрызся в дело. Среди таких же, как я, молодых сотрудников, толкающихся за место под солнцем в фирме Дэвиса, был сын министра обороны, который в свои тридцать лет уже побывал замом руководителя предвыборной президентской кампании, прошедшей с успехом; еще были два родсовских стипендиата,[11] один из которых являлся внуком бывшего директора ЦРУ. Наша работа сводилась фактически к изучению Вашингтона и, разумеется, местной прессы. Но куда важнее было исследовать антропологию этого места: изучить верхние эшелоны власти, узнать объекты их любви и ненависти, выявить те потайные узлы, куда стекались сила и могущество, выяснить, кто на кого влиял, кто кого снабжал деньгами. Целая жизнь требовалась, чтобы изучить досконально элиту округа Колумбия, погрузившись с головой во все ее связи и взаимоотношения. У остальных наших ребят таковой багаж имелся — у меня же его не было. Но это не могло меня остановить. Моим высшим козырем была воля.
Я вышел из офиса — подальше от «Лексис-Нексиса» и бескрайнего «Гугла», — чтобы пообщаться с реальными человеческими существами. Надо сказать, для многих моих конкурентов это было столь же немыслимо и загадочно, как искусство левитации или заклинание змей. Для начала я допустил, что официальный Вашингтон во всем своем своеобразии в конечном счете, как ничто другое, является некой единой общностью.
Около шести различных правительственных ведомств, в принципе, имели право окончательного вердикта по вопросу, может ли Кайзер и дальше пользоваться своей лазейкой. Однако все застопорилось обычной вашингтонской бюрократией: решение было спущено в этакую «поддевку», именуемую Временной межведомственной рабочей группой Министерства торговли по производству.
Эту рабочую группу я окучивал битую неделю. Причем главное было не переборщить: Маркус объяснил — никто пока не должен засечь, что над этим делом работаем мы. Я переговорил с четырьмя-пятью штатными сотрудниками из тех, что помоложе, потом набрел на какого-то напыщенного пустомелю, который на самом деле не знал ровным счетом ничего для меня интересного. Он, впрочем, навел меня на помощника юриста — молодую особу, которая по ночам забавы ради прирабатывала барменшей в баре «Стетсонс» на Ю-стрит, в который частенько хаживали многие сотрудники Белого дома в пору Клинтона и который теперь пришел в запустение. Рыжая, с обаятельным задором девчонки-сорванца, она оказывала свое расположение настолько, насколько тебе того хотелось, хотя и храпела как бензопила и имела привычку вечно что-то «забывать» в моей квартире.
Эта девица мне все и объяснила. Там были два номинальных главы, которые лишь ставили, где надо, свои подписи. На деле же окончательное решение принимали трое из рабочей группы. Двое были типичные ведомственные мужи — этакие человеческие пресс-папье, которые ничего не значили. Третий — некий господин по имени Рэй Гулд — являлся действительно ЛПР,[12] и он-то как раз и держал лазейку для Кайзера открытой. Был он секретарем помощника заместителя министра (иначе говоря, сидел в подчинении у помощника секретаря, подчиненного помощнику министра, который в подчинении у заместителя министра, который подчинялся непосредственно министру торговли, — ну, просто обхохочешься!). Я поймал себя на том, что на полном серьезе произношу эту бюрократическую белиберду. Чтобы не воспринимать все это лишь как забавный казус из мира политики, я напомнил себе, что расковыривание этого нароста означало для моего босса как минимум пятнадцать миллионов долларов и — что куда более важно — могло избавить меня от того, чтобы всю оставшуюся жизнь прибираться в баре и бегать от Креншоу.
Кроме того, все это начало меня изрядно забавлять — и не столько действующие лица, сколько денежная сторона вопроса. Во всем остальном я ничем не выделялся из своих ловких коллег, которые, как я знал, быстро идут в рост. Это в равной степени и подогревало меня, и тревожило.
Итак, у меня имелась точка воздействия. Маркус ничуть не умилился, когда я принес ему в клювике имя Гулда, но, по крайней мере, казался уже не таким сердитым. Он велел мне начать подкапываться под этого субъекта, с тем чтобы закрыть для Кайзера налоговую лазейку. Мне следовало свести все свои старания к единственной цели: изменить решение Гулда.
Я ознакомился с выпускными работами Гулда в колледже и магистратуре. Я выяснил, какие газеты и журналы он выписывал, куда и сколько жертвовал, какие и когда принимал официальные решения. Вернувшись к нулевой отметке, я начал настраивать каждый аргумент против лазейки Кайзера так, чтобы он задел индивидуальные склонности и убеждения Гулда. Я сокращал и сжимал эти аргументы до тех пор, пока они не вписались в одну-единственную страницу. И если предыдущая докладная записка была чистым героином, то здесь был уже наркотик с измененной химической формулой.
С ним-то Гулд должен был выдать нам именно ту резолюцию, что нам требовалась.
— Что ж, это уже вселяет надежду, — сказал Маркус.
Даже при всем изучении материалов и многочисленных интервью я слабо представлял этого мужика и то, что им двигало, пока не увидел его воочию. Я мог бы долго распространяться о Гулде. Я знал, в какую школу ходят его дети, на какой машине он разъезжает, где он устраивает банкет по случаю своего юбилея и куда катается обедать. Разумеется, откушивал он в самых престижных заведениях: в «Централе» у Мишеля Ришара, в «Прайм-Рибе» и «Пальме». Хотя регулярно, через вторник, Гулд посещал «Файв гайз» — заведение, специализирующееся на гамбургерах.
Когда спустя неделю я положил перед Маркусом новую записку, он сказал, что я определенно расту, после чего проводил меня в апартаменты Дэвиса. Тот велел Маркусу подождать снаружи. Примерно такой кабинет университетского препода я и ожидал увидеть у него в Гарварде, хотя, конечно, вкус у Дэвиса оказался куда утонченнее, нежели могло предложить мое воображение. Три стены от пола до потолка были заполнены книгами — причем не кожаными муляжами корешков, а явно прочитанными томами. Вся мебель была красного дерева. На «стене почета» красовались вашингтонские мандаты, а также фотографии с улыбками и рукопожатиями всех влиятельных персон, каких я когда-либо видел. Там были снимки с главами государств, сделанные десятилетия назад, — причем не фотки типа «два парня в дорогих костюмах занимаются благотворительностью». На одном Дэвис — моложе меня нынешнего — катает в боулинге шары на пару с Никсоном, на другом рыбачит с маленькой лодочки с Джимми Картером, на третьем катается на лыжах с…
— Это римский папа? — непроизвольно брякнул я, не успев сдержать удивление.
Дэвис стоял за своим столом. И выглядел отнюдь не радостно.
— Гулд не реагирует, — сказал он мрачно.
Мою докладную записку с «заточенными» на Гулда доводами они передали торговой группе, воюющей против Кайзера, и те изложили свое дело рабочей группе Гулда. У Дэвиса имелись свои люди в Министерстве торговли, которые тут же сообщили бы ему, если б лед тронулся. Гулд не отступился ни на йоту.
— Я поработаю еще, — сказал я.
Он поднял со стола мою записку:
— Работа твоя безупречна, — произнес он таким тоном, каким обычно комплименты не говорят, и выдержал минутную паузу. — Но у меня этажом ниже уже есть сто двадцать человек, способных выдать безупречный результат, и больше таких мне не требуется. Тебе известна стоимость данного контракта?
— Нет.
— Мы подписали соглашения с каждым производством в отдельности и связанной с ними торговой группой. Сорок семь миллионов.
У меня кровь отлила от лица. Несколько мгновений Дэвис изучающе глядел на меня.
— Мы тут не за часы деньги получаем, Майк. Выиграем — получим сорок семь миллионов. Нет — не получим ничего. И мы не должны проиграть.
Он подступил ближе, вперил в меня взгляд:
— Я изрядно рискую с тобой, Майк. Я нанял тебя вовсе не из тех соображений, по которым беру остальных. Ты весьма необычный кандидат. И я опасаюсь, что дал с тобой маху. Докажи мне, что я не ошибся. Что ты можешь мне предложить, чего не могут другие? Покажи мне нечто большее, чем безупречную работу. Удиви меня.
Лучше вообще не иметь ничего, нежели что-то обрести и внезапно упустить из рук. Работая у Дэвиса, я постоянно думал, что все получаемые мною деньги и привилегии — всего лишь ошибка, которую вот-вот исправят.
Я не смел и помыслить, что все это — мое, что теперь это — часть моей жизни. Порой человеку случается набрести на что-то, чего ему хотелось всей душой, в чем он действительно нуждался. И если все вдруг полетит в тартарары, второй раз такое ему уже не светит.
Я в этом смысле не явился исключением. Такой момент наступил для меня где-то в августе, спустя три месяца после переезда в Ди-Си. Я шагал по Маунт-Плезанту в десяти минутах ходьбы от офиса компании. В этом районе была одна главная улица с восьмидесятилетней пекарней и скобяной лавкой, которой тоже стукнул уже не один десяток лет. Там обретались итальянцы, греки, потом латиносы нашли там для себя первое пристанище в округе Колумбия — так что это местечко казалось маленькой деревней. Чуть в стороне от главной улицы уже высились леса, и я ощущал себя как за городом. Проходя мимо маленьких жилых домишек, я увидел один, сдающийся внаем, на две комнаты, с террасой и задним двором, откуда открывалась чудесная перспектива парка Рок-Крик — пояса лесов и речушек, разрезающего округ Колумбия с севера на юг. Как-то вечером, прогуливаясь мимо того самого дома, я увидел за ним, во дворике, целое семейство оленей — ничего не боясь, они спокойно провожали меня взглядом.