Корабли на суше не живут Перес-Реверте Артуро
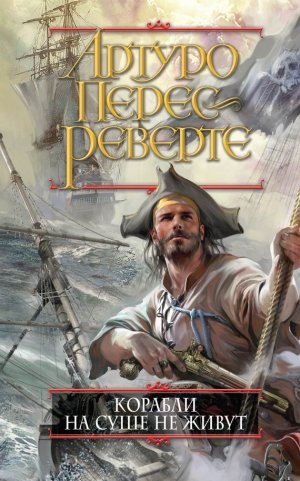
И так вот сидел я, говорю, за столиком, когда вдруг грянула музыка столь же оглушительная, сколь и отвратительная — нечто вроде «пумба-пумба» слышалось мне, — и из подлетевшего к причалу катера спрыгнули на землю шесть или семь персонажей. Катер тащил за собой на буксире один из тех гадостных водных мотоциклов, что прославились благодаря бесстрашному бандюгану с большой буквы «Б» Маричалару[33], а, рея на ноке рея, имелся пиратский флаг с черепом и скрещенными берцовыми косточками. Однако внимание мое привлек не этот дерзкий штандарт, но облик новоприбывших со всей их сбруей и амуницией. Музыка и флаг дополнялись изысканной коллекцией отдыхающих, к которым я питаю особо нежные чувства, — все лет под сорок, в цветастых купальных, а вернее многоцелевых трусах, в куцых футболочках, туго обтягивающих пивные животы, в шлепанцах, в солнечных очках не нашего дизайна, с серьгами в ушах и с пиратскими косынками на головах la блаженной памяти Эспартако Сантони[34]. И я сказал себе: ни фига себе! Какие они буйные и какой страх наводят. И откуда только свалилась эта банда?
Потом, когда они уселись неподалеку от меня в баре, я подумал так: любопытно, что сказали бы при виде этого плачевного зрелища капитан Блад, Питер Крюк, Черный Корсар или Щенок, или, если вспомнить персонажей всамделишных, а не книжных, — капитан Кидд, Эдвард Тэтч, Рыжий Морган, Чистюля Нэтти, дамы-флибустьерши Энн Бонни и Мэри Рид, застенчивый Рэкхем, или брат Караччоло и капитан Миссон, славные пираты Индийского океана? Стоило ли три-четыре века назад быть первостатейным негодяем, стоило ли брать на абордаж испанские галеоны, пускать Маракайбо на поток и разграбление, вешать на реях капитанов захваченных судов, пропускать пленников по доске или под килем, насиловать племянницу губернатора Ямайки, высаживать бунтовщиков на необитаемый остров, топить свой корабль, чтоб не попасть в руки королевских судей, стоило ли оканчивать свои дни в петле, как подобает порядочному пирату, и осенять такую славную и поучительную биографию черным флагом с черепом и костями — стоило ли, я спрашиваю, свершать все это, чтобы тот самый флаг, от которого раньше кровь стыла в жилах, ныне стал чистой бутафорией и развевался над кучкой пляжных придурков?
В какие времена мы живем, говорю я себе, если такое убожество смеет рядиться в пиратов! И хватает же наглости стать под славнейшее в Истории знамя, выбранное по доброй воле лучшими представителями человечества — грабителями, убийцами, отъявленными мерзавцами, которые во имя свободы, алчности и жажды приключений послали по биссектрисе все прочие хоругви и стяги вместе со штандартами, изобретенные королями, попами, банкирами? А теперь оно реет над какими-то прощелыгами, пугающими чаек громом своей дискотеки. По какому праву они примазываются к святыням? Нет у этих умственно отсталых никакого права профанировать мечты детей, которые еще смотрят на море, воскрешая в памяти старые книги Эксмерлина[35] и Дефо с леденящими кровь картинками — абордажи, казни, грабежи, оргии. И, клянусь, я взаправду, от души пожалел, что у причала пришвартована яхта, а не бриг давних времен — настоящий, с вышколенной командой, с названием, вписанным в подлинный корсарский патент, который некогда подарил мне приятель. Будь так, сказал я себе, ннче же вечером отправил бы на берег боцмана с командой самых крутых марсовых, чтоб когда эти пижоны насосутся в баре, скрутили бы их и, как бывало, тепленькими и нечувствительно зачисленными в экипаж доставили на борт. Чтоб проснулись они посреди океана, да хлебнули пятнадцатимесячного плавания у Антильских островов, да потянули шкоты под плетью, да полазили по вантам, беря рифы, когда ветер доходит до пятидесяти узлов, — и все это перед тем, как вырыть себе могилу неподалеку от того места, где лежит сундук с сокровищами, а попугай по кличке Капитан Флинт глумливо кричал бы им в ухо: «Пиастры! Пиастры!»
Мавры на берегу
Нет, речь пойдет не о лодках с беженцами, даром что при желании можно усмотреть некоторую связь. Позвольте мне нынче совершенно бесплатно рассказать вам об одной книге. Вернее, о двух, поскольку это двухтомник. Хотя его можно счесть историческими заметками, это еще и туристический путеводитель, и путевые записки. Называется «Дорогами корсаров», и — кое-кто, я знаю, со мною согласится, — ее следовало бы прочесть уже за одно только название. Добавлю, что имя автора — Рамиро Фейхоо — я слышу впервые, равно как и название издательства, хотя вот сию секунду, напечатав эти слова, обнаружил, что мое любимое издание «Теневой черты» Джозефа Конрада вышло в 1977 году в том же издательстве «Лаэртес». Согласитесь, все это придает теме сегодняшнего разговора некоторой основательности. А с «Дорогами корсаров» дело обстояло вот как: я увидел название в каталоге моего друга Матиаса, хозяина магазина морской книги «Кал Матиас» в Таррагоне, — и, конечно, не устоял. Заказал книги по телефону, отнес их в каюту и как-то незаметно, страничка за страничкой (и так шестьсот с чем-то раз) прочитал их, покуда плыл себе по Средиземному морю. Море — хоть оно, несмотря на все заверения турагентств, бывает жуткой сволочью, — на этот раз смилостивилось и дало мне спокойно по-человечески почитать. Очень удачно вышло — покуда я сидел с книгой, за бортом проплывал описанный в ней берег. Можете себе представить, как я был доволен — практически как порося на кукурузном поле. Эти два тома — «Каталония и Валенсия» и «Мурсия и Андалузия» — представляют собою очень подробное, с картами, фотографиями и всякой полезной информацией, типа гостиниц, ресторанов, достопримечательностей и возможных экскурсионных маршрутов, описание испанского побережья, где в XVI–XVII веках, когда корсарские республики Алжир и Тунис наводили ужас на все Средиземноморье, разворачивались трагические и захватывающие события, стычки с варварами, героические подвиги, высадки, грабежи, сражения и побоища. В книге есть изумительно описанные эпизоды из истории берберских корсаров, которые не пропустили ни одного квадратного метра испанского берега, и очень скрупулезное перечисление мест, где по сей день можно увидеть следы их пребывания — и вообразить себе все остальное.
Взять, скажем, отпускников, валяющихся на песочке у развалин старинных сторожевых башен, — им же (отпускникам) и в голову не приходит, что они (башни) были когда-то частью разветвленной системы наблюдения и предупреждения и что именно из-за пиратских набегов прибрежные жители в прежние времена старались построить себе дома повыше и подальше от берега. Редкий населенный пункт сумел воспользоваться этим наследием. Мало открыто музеев, отреставрировано башен, крайне редко экскурсантов обеспечивают достойными упоминания историческими объяснениями, и по-прежнему пляжи остаются смесью из зонтиков, киосков, ресторанов с сангрией и дискотек, откуда несется нескончаемая пумба-пумба, но ни искры культуры или исторической памяти. И именно этот недостаток информации и глупость местных властей, богатых туристическими инициативами и нищих духом, заинтересованный читатель может компенсировать чтением книги, о которой я тут рассказываю: в ней и поселения, страдавшие от набегов мавританских фуст и галиотов[36], и пляжи, где завязывались стычки и разворачивались настоящие сражения, в ней сводят счеты с изгнанниками-морисками, в ней есть маленькие бухты, откуда выслеживали жертву корсары. От Кадакеса до Кадиса — читатель, безнадежно пойманный в расставленные автором силки, уже требует третьего тома о побережье Балеарских островов — мы следим, как разворачивается захватывающий исторический спектакль. Ах, если б это все происходило не здесь, а где-нибудь у америкосов — с кино и телеэкрана не сходили бы фильмы и сериалы о грабежах, ренегатах, прекрасных пленницах, отваге, спасении, героях, злодеях, убийствах и мести.
Но вернемся к нам. Позагорать на пляже, скушать вечером паэлью, прокатиться на водных лыжах — это прекрасно. Но если заодно мы узнаем, что на этом же пляже высадились когда-то на берег Морато Арраес или Барбаросса, что благодаря этой разрушенной башне спаслись от плена и рабства женщины и дети ближнего поселения, что в бухте неподалеку пополнял запасы пресной воды Драгут[37], а наводивший ужас на окрестности Хардин-Черт[38], спрятавшись вон за тем мысом, выслеживал неосторожные местные суда, — разве это место не станет для нас осмысленнее, удивительнее и еще прекраснее? И тогда мы будем чуть-чуть менее глупыми и чуть-чуть просвещеннее и лучше поймем, что мы таковы, каковы есть в радости и в печали, потому что были такими, какими были. Так что, если вам хочется чего-то большего, нежели киснуть целыми днями на солнце, вымазавшись с головы до ног маслом для загара, если хочется ощутить, как по спине пробегает холодок всякий раз, когда в море мелькнет белый парус, полистайте «Дорогами корсаров» и узнайте, почем несколько веков назад был фунт лиха — когда ты засыпал на пляже, а просыпался в Алжире.
Без короля и хозяина
Несколько недель назад я упомянул в своей колонке брата Караччоло и капитана Миссона — славных пиратов индийских морей. И кое-кто из моих приятелей, заинтересовавшись этими персонажами, стал расспрашивать меня о том, что это были за птицы и каким ветром надуло мне эпитет «славные», хотя каждому известно, что пират по определению — самая что ни на есть сволочь, которая грабит, насилует и убивает; общеизвестно также, что начинают с этого, а кончают вообще черт знает чем. То за Пепе[39] проголосует, то к девятнадцати прикупит.
Так что я вам все же расскажу историю про эту парочку, жившую как раз на рубеже веков — XVII и XVIII. Караччоло, неаполитанский монах-доминиканец, был малость трехнутый: прочитав однажды «Утопию» Томаса Мора, он возмечтал об идеальной республике, где бы такое было либерте-эгалите-фратерните, что комар носу не подточит. В одну прекрасную ночь, в таверне, где было много вина и потаскух, судьба свела его с офицером французского военно-морского флота по имени Миссон — человеком молодым и довольно образованным: как и многие моряки того времени, разбирался в философии, логике, риторике и прочих гуманитарных дисциплинах, которые сейчас нафиг никому не сдались, а в те времена обладали и ценностью, и прелестью. Они вместе прошли курс интоксикации этиловым спиртом, а потом совершили взаимовыгодный обмен: монах убедил моряка, что утопия осуществима, а моряк устроил монаха на свой корабль, носивший имя «Виктория». Некоторое время они поплавали под командой капитана Фурбена, пока не оказались у Антильских островов, где после боя с неизбежно-вездесущими англичанами капитан умер от ран, а Караччоло, обладавший могучим даром убеждения и пророчества, уговорил экипаж взять себе в новые начальники Миссона да и податься во флибустьеры, а французского короля и весь его флот послать подальше.
Сказано «идем в пираты» — сделано, но с примечательной разницей по сравнению со всеми прочими: вместо черного пиратского «Веселого Роджера» Караччоло и Миссон подняли на рее белое шелковое полотнище с надписью «За Бога и Свободу». И пустились по Индийскому океану с намерением воплощать в жизнь мечту о республике свободных и независимых людей, то есть — материализовывать утопию. По пути сочинили кодекс поведения, который больно ранил бы душу любого соленого морячины с Ямайки или Тортуги, поскольку свод этих правил предписывал гуманное обращение с пленными и уважение к женщинам, а также запрещал пить и сквернословить. И у этих удивительных пиратов слово не расходилось с делом — они брали на абордаж встречные корабли для того лишь, чтобы запастись самым необходимым (другое дело, что в те времена самым необходимым было золото) или набрать в свою республику новых граждан, как произошло с чернокожими из трюма невольничьего голландского корабля, капитан которого за недостойное поведение отделался суровым порицанием и несколькими оплеухами, после чего был отпущен с миром.
Я-то в глубине души полагаю, что они были люди невеликого, мягко говоря, ума. Но поразительно везучие. Потому что плыли себе да плыли, а Караччоло по пути внушал своим пиратам, что надо быть добрыми и богобоязненными, а освобожденных дикарей еще и обучал грамоте и азам прочих наук — вероятно, на это стоило посмотреть. Довольно долго «Виктория» курсировала то здесь, то там, захватывая заодно с английскими кораблями и португальские, и арабские, наращивая, как сказали бы мы сейчас, таким манером количество боевых единиц в своей флотилии и численность экипажей. И вот наконец они обосновались сперва на Коморских островах, а потом на Мадагаскаре, где и создали Либертацию — одну из первых, насколько я знаю, коммунистических республик в истории человечества: уничтожили частную собственность, ввели обязательные трудовую и воинскую повинность. Либертация превратилась в настоящее пиратское гнездо, куда со временем съехались виднейшие представители этого почтенного ремесла — такие, как английский капитан Томас Тью и многие другие члены гильдии головорезов. Тут надо признать, что они хоть и разоряли прибрежные города и бесчинствовали на морских путях, сколотив этим немалое состояние, однако под филантропическим приглядом своего идеолога Караччоло вели себя все же — для людей этой профессии — относительно пристойно.
Казалось бы, невероятно, но авантюра длилась двадцать лет. А потом произошло то, что всегда происходит: Караччоло, Миссон и Тью состарились, между ними начался разлад, и местные туземцы-мальгаши, которым эта странная республика давно уж была поперек горла, напали на нее. Караччоло погиб, Миссон и Тью бежали, преследуемые флотами всего мира. Теперь они были уже не могущественные и славные пираты, но объявленные вне закона изгои, едва поспевавшие увертываться от тех, кто за ними гнался, и единственной их родиной была теперь палуба корабля. Когда утопия разодралась в клочья, ее зиждители стали кровожадны. Миссон потерял под пытками все, включая и собственную шкуру, а капитан Тью, последний гражданин Либертации, получил пистолетную пулю в живот во время отчаянного абордажа в Красном море.
Таков был печальный — впрочем, как и у всех утопий, — конец славных пиратов Индийского океана.
Отставший
Кончается век, кончается тысячелетие. Да, теперь вот и вправду кончаются, в чем может убедиться каждый, кто способен открыть книжку и умеет считать, и вы не представляете, как рад вышеподписавшийся, что все крупные торговые центры, и все турагентства, и все отели и рестораны, поднявшие цены вдвое, и вообще все те, кто уже год назад, имея впереди полные двенадцать месяцев, установил это праздничное число, сделали это тогда, а не сейчас. Они таким манером выполнили программу, истощили воображение и теперь до конца года будут сидеть смирно и тихо, а нам не придется сносить новые глупости, за исключением, конечно, совершенно неизбежных. Что же касается глупостей моих собственных, то я задумывал было поделиться с вами чем-то вроде размышлений о том, как же начинался век, который сейчас кончается, а начинался он с надежд на лучшее мироустройство, с отважных мечтателей, желавших изменить Историю. Кончается же банкирами, политиками, наемниками и прочими людьми без чести и совести, играющими в гольф на могилах, где похоронено столько неудавшихся революций и несбывшихся ожиданий. Да, я собирался поговорить об этом, но не стану, потому что все эти дни перед глазами у меня неотступно стоит некий образ, неизменно и отнюдь не случайно совпадающий с датами. Образ этот — коротенькая и реальная история, даже почти анекдот, который я давно уже держу при себе. И, может быть, настал наконец день занести его на бумагу.
В пальмовой средиземноморской роще несколько дней сбивались в большую стаю птицы, готовясь к перелету на юг — в жаркую африканскую зиму. И вот сейчас они летят над морем, следуя за вожаками-головными, оставляют позади тучи, дождь, пасмурные серые дни, стремятся туда, где за линией горизонта — чистое небо и кобальтово-синее море с бурой полоской дальнего берега. Там обретут они тепло и корм, найдут себе пару, совьют гнезда, выведут птенцов, которые весной с ними вместе полетят на север, пересекая то же самое море и свершая ритуал вечный и неизменный с тех пор, как стоит мир. Многие из тех, что летят сейчас на юг, назад не вернутся, точно так же, как многие навсегда остались в холодных северных краях. Это не плохо и не хорошо — это просто жизнь со своими законами, и нравственный кодекс каждой из этих птиц безмолвием их инстинкта гласит, что мир таков, каков он есть, и никому не под силу переменить его. Птицы живут в своем времени, исполняют предначертания бесстрастного божества по имени Жизнь и Смерть или Природа. Важно лишь, чтобы из года в год, год за годом стая летела на юг. Всегда одна и та же — и всегда разная.
Стая — огромная, черная, вытянутая в воздухе — летит вперед. Самцы и юные самки машут крыльями, стремясь угнаться за вожаком вожаков, самым сильным и проворным членом стаи. Они чуют близость земли обетованной и спешат к ней. Одна из птиц отстает. Быть может, она уже слишком стара для таких продолжительных усилий, быть может, больна или утомилась. Так или иначе, как бы ни махала крыльями, догнать своих ей не удается. Поднялись в воздух все одновременно, но остальные вырвались вперед, а эта отстает безнадежно. Вот уже оторвались от нее замыкающие — самые юные или самые слабые. И с каждым мигом, по мере того как уходят вперед остальные, растет зазор, расширяется образовавшаяся в пространстве брешь. И никто не оглядывается. Все слишком поглощены собственными стараниями не потерять контакт с ядром стаи. В такие минуты каждый летит сам по себе, хотя и со всеми вместе. Таковы правила.
Отстающий отчаянно бьет крыльями, чувствуя, что силы на исходе, борется с искушением присесть на голубую поверхность воды, потому что постепенно теряет высоту. Однако инстинкт гонит его вперед, твердит, что его долг, записанный в генетической памяти, — выложиться до предела, но достичь буроватой линии горизонта. Спустя какое-то время его утешает общество еще одного отставшего. Они летят вместе, и он видит, какие усилия прикладывает спутник — сначала чтобы не отстать от стаи, потом — чтобы держаться вровень, но тот постепенно теряет высоту и остается один. Стая уже слишком далеко, не догонишь, и он это знает. Из последних сил взмахивая крыльями уже над самой поверхностью воды, птица понимает, что весной над этим самым местом, только в противоположную сторону, к северу, снова огромной черной тучей пролетит стая, и история эта будет повторяться из года в год, до скончания века. Будут другие весны, другие прекрасные лета — такие же, какие довелось повидать и этой птице. Таков закон, говорит она. Вожаки и самонадеянные надменные юнцы когда-нибудь, в свой черед будут отчаянно биться за жизнь — вот как она сейчас. И на последних метрах, измученная, смирившаяся со своей участью птица улыбается и вспоминает.
(Я увидел, как она снизилась, присела на баке рядом с якорем. Я замер надолго, боясь спугнуть ее. Не бойся, говорил я ей мысленно. Я не причиню тебе вреда. Но в какой-то момент мне пришлось сдвинуться с места, чтобы изменить положение паруса, и мое движение спугнуло ее. Я смотрел, как она вновь пустилась в полет, к югу, держась над самой водой. Подняться выше ей не удавалось, но она пробовала снова и снова. И тут я потерял ее из виду.)
2001
Об англичанах и прочих собаках
Один английский читатель прислал мне письмо, где с благодушием и дружеской расположенностью, с таким изяществом, что поневоле усомнишься, англичанин ли он, оттаскал меня за уши, осведомляясь насчет моего пристрастия называть сынов Альбиона английскими собаками. Почему, интересуется он, я поношу последними словами его соотечественников? Что ж, постараюсь объясниться: к английским собакам я отношусь с глубочайшим уважением. Имею в виду тех, кто делает «гав-гав». Они, независимо от происхождения, вполне заслуживают самых добрых чувств, и, как я неоднократно отмечал на этой самой полосе, несравненно больше, нежели люди. О, если бы те обладали хоть малой толикой собачьей верности, собачьего достоинства, собачьего ума. Что же касается собак собственно английских пород, моя приязнь к ним распространяется так далеко, что нынешняя моя собака, как и ее предшественница, — лабрадор, то есть английской породы. Именно такие сопровождают Принца У… э-э-э… шастого, когда он в шотландской юбочке фотографируется в Балморале.
А вот с двуногими британцами выходит совсем иная песня. Однако страшно не хотелось бы, чтобы мой английский друг-корреспондент узрел в моем отношении резоны патриотические или какие бы то ни было иные, но тоже относящиеся к сфере чувств. До отчизны мне дела нет, а уж до такой, какова она сейчас, — и подавно. По крайней мере, в понимании разнообразных прохвостов, жуликов и убийц. Ибо у меня имеются собственный круг чтения и свои критерии. И даже собственное чувство юмора. Вот оттуда все и проистекает. Как ни крути, я родился в доме, где была библиотека, в городе, тесно связанном с морем и с Историей, и вынес оттуда, что «англичанин» неизменно и однозначно переводилось как «враг» и как «угроза». По книгам, по рассказам деда и отца я научился уважать этих высокомерных козлов как политиков, дипломатов, солдат и — прежде всего — моряков и ненавидеть их лицемерие и жестокость. С подозрением относиться к их попыткам переписывать Историю по своему вкусу и усмотрению, негодовать на их чувство превосходства над другими нациями. Любая книга о Войне за независимость, о битвах на море, о пиратстве в Америке, любое упоминание о моих земляках неизменно зиждилось на оскорбительном уничижении. Мемуары какого британского генерала ни возьми — везде будет заявлено, что Англия победила Бонапарта в Испании вопреки самим испанцам — грязным, ленивым, подлым, трусливым, словом, таким союзничкам, которые мерзопакостностью своей во сто крат превосходят французов-противников. Дело, конечно, вполне возможное, потому что мне ль не знать собственных моих земляков? Но от этого до утверждения, что Испанию от Наполеона освободил Веллингтон, — как от Земли до Луны.
За этим следуют случаи исторического вероломства, подлинного и подтвержденного документально. Вот наскоки на испанские владения, причем в одежды человеколюбия неизменно рядились колониальное соперничество и заурядное пиратство. Вот подлая проделка с четырьмя фрегатами, атакованными в 1804 году без объявления войны. Вот нападения на Гибралтар, Гавану, Манилу, Картахену (не здешнюю, а тамошнюю). Замалчивание неудач и фанфары по поводу побед. Помню, как наш учитель-англичанин вещал с кафедры о том, что Нельсон не ведал поражений. Но я-то с детства знал, что он был дважды побежден испанцами — в 1796-м, когда с «Минервой» и «Бланш» принужден был бросить призовое судно и бежать от двух фрегатов и линейного корабля, и годом позже, когда высадил у берегов Тенерифе десант, желая захватить остров нахрапом, с налету, но потерял руку и триста человек убитыми.
Я говорю не о шовинизме, и, надеюсь, мой английский друг меня поймет, и не о грушах в красном вине, а об элементарной памяти. Я знаю историю своей страны не хуже, чем другие — историю своей, а потому знаю, что если Испания забрала Трафальгар, то другие взяли, например, Сингапур. Точно так же я могу с полным правом заявить, что британские испанисты Паркер, Томас или Эллиотт помогли мне лучше понять историю Испании. И благодаря этому у меня, когда я оглядываюсь назад, не возникает ни стыда, ни каких-то комплексов. И это позволяет мне с шутками-прибаутками поставить точки над «i», когда эти «i» содержатся в написанных курсивом письмах разных козлов. Да нет, поймите меня правильно — я не испытываю ни малейшей враждебности к англичанам, а особенно — к тем из них, кто читает мои романы. Я живу в своем времени, дышу своим воздухом и знаю: память — это одно, а набранные на клавиатуре шпильки — другое. Что касается самого определения, то за него в полной мере ответственен мой сосед с Редонды — кстати, выражаю ему признательность за поистине рыцарскую учтивость, с которой он несколько колонок назад отнесся к моей забиячливо-кровожадной вспышке, — подаривший мне уже довольно давно старинную гравюру с подписью «Проклятые английские псы». А поскольку он — первостатейный густопсовый англофил, большая часть наших распрей происходит именно на этой почве. Отмечу еще, что пресловутое уподобление не с ветру взято: в XVI–XIX веках это было расхожее выражение, обычная практика «ты меня в лоб, я тебя — по лбу» для тех, кто щедро рассыпал уничижительные определения для всякого неприятеля или соседа, причем для нас, для испанцев, приберегал «вонючих мавров» — Тёрнер уверяет, что при Трафальгаре мы были в чалмах, — «остервенелых папистов», «полуденных бесов» и прочее. Так было раньше, так — с необходимой актуализацией — и ныне поступает желтая пресса ее величества.
Миллион сто тысяч чертей
Жизнь порой богата на такие штуки. Я — в Париже, где происходят всякие пресс-конференции, интервью и тому подобные дела по случаю выхода на лягушатниковском наречии моего последнего романа, с важным видом сижу в отеле и отвечаю на вопросы журналистов насчет креативного импульса и прочей фигни, призванной декларировать, что, мол, книгу вашу не читал, не собираюсь и ни малейшего желания не испытываю (а когда брякнешь, что, мол, послушайте, я просто рассказываю истории, на тебя смотрят как-то странно)… да, так вот, насчет креативного томления, жажды самовыражения и прочих recherches de l’inspiration perdue[40] — это не ко мне, с этим сходите к тем, кто живет литературными приложениями и рассказами о главной книге, которую они, такие зайчики, не пишут, потому что не хотят. У меня все не так и все просто — сюжет, сказуемое, подлежащее, завязка, развязка. Вопиющая банальность. Простой пехотный литератор, не ведущий колонку в разделе «Культура» газеты «Эль Паис». Ну, ладно, действо тянется и тянется, а потом появляется дамочка-фотограф — французская версия Элизабет Шу, — и ты проливаешь себе кофе на брюки, заглядевшись угадайте на что, и на снимке выходишь полным кретином. Самое же скверное, что весь день поглядываешь на часы, мечтая о зазоре, о щелочке, чтобы выскочить, схватить такси и спастись на площадь Трокадеро, совсем неподалеку от Эйфелевой башни. Там, в Морском музее, устроена временная экспозиция Mille sabords! — «Тысяча орудийных люков» или в вольном переводе — «Тысяча громов и молний». А это, безотносительно к презентации моего романа, я пропустить не согласен ни за что на свете.
Кое-кто из вас понимает, что я хочу сказать. Те, кто, подобно вышеподписавшемуся, играл в шахматы с генералом Алькасаром, разгадывал загадку трех «Единорогов» — Трое братьев поплыли навстречу полдневному солнцу — или встречался с пиратской субмариной капитана Курта в глубинах Красного моря, покуда Хэддок разносит на куски машинный телеграф, — те поймут, о чем я. И разделят мои чувства в ту минуту, когда, сбросив наконец и ненадолго бремя обязательств перед издательствами, я переступил порог музея и оказался в толпе шумной школьной мелюзги, шедшей парами и за ручку. А пройдя в глубину, в последние залы этого лягушатниковского музея — заметно, замечу, проигрывающего по богатству экспозиций великолепию Мадридского морского музея, — медленно, как в храме, проследовал мимо экспонатов, столь памятных мне, что не было никакой нужды вглядываться в пояснительные подписи. Передо мной представала история легендарной дружбы, которая связывала юного репортера со светло-русым хохолком и запьянцовского капитана торгового флота, — дружбы, пронесенной ими через моря и пустыни, по ледяным склонам Тибета и безмолвным кратерам Луны. И этот долгий путь свершал с ними вместе и я — страницу за страницей, мечту за мечтой, — и их история стала моей историей. Тинтин, Хэддок, Снежок, я сам. И потому, шагая по этим залам, я чувствовал, что прохожу по собственному моему прошлому. А началось все, естественно, с жестянки крабов. Потом был «Карабуджан» на причале. Каюта «Авроры» в шторм. Загадочная звезда. Воспоминания шевалье Франсуа де Адока, капитана королевского корабля «Единорог». «Сириус», зафрахтованный капитаном Честером. Зал в замке Муленсар, посвященный военному флоту… Детство мое проходит перед глазами, и я снова чувствую, как бегут мурашки по коже, когда я открываю один из альбомов, которые храню до сих пор и временами перелистываю бережней и внимательней, чем «Дон-Кихота» Ибарры. И снова оказываюсь рядом с захватывающим приключением, с наблюдением, с размышлением, с головоломкой, после разгадки которой уже никогда не будешь прежним, потому что жизнь твоя пошла по одному из бесчисленных направлений, прочерченных судьбой и случаем. И все — вместе с верным псом, с суровым, грубоватым другом — чего же еще просить? — бородатым, крепко пьющим моряком, так любящим нанизывать цепочки брани и божбы: Башибузук, зуав, изверг, технократ, обезьяна-капуцин, пироман, анаколуф, эктоплазма, параноик, имбецил. О, это незабываемое и всеобъемлющее миллион сто тыщ чертей!
Так что если среди вас есть те, кому известен виски «Лох-Ломонд» и значение загадочного словосочетания «пулеметчик со слюнявчиком» и кому доведется прибыть в Париж на презентацию романа или еще зачем, оставьте Лувр на этот раз на растерзание японцам: никуда Джоконда не денется, дождется вас, как и панельные барышни с улицы Сен-Дени. Вместо этого… ну, вы уже поняли — отправляйтесь на площадь Трокадеро (там и станция метро рядом), в Морской музей, на выставку «Тысяча орудийных люков», открытую до 21 ноября. Не каждый день можно своими руками потрогать субмарину профессора Турнесоля.
Хорхе Хуан и память
Есть на белом свете такое, что примиряет меня со многими явлениями. И людьми. Я держу в руках «Завещание Хорхе Хуана», великолепно изданный каталог, который выпущен в свет попечением муниципалитета Новельды и Сберегательным банком «Медитерранео» — последний, я полагаю, всю затею субсидировал — по случаю открытия в этом городе постоянной экспозиции, посвященной памяти одного из самых достойных его сынов, видного ученого и мореплавателя XVIII века Хорхе Хуана-и-Сантасилья, человека, необыкновенно важного для понимания того времени, предтечи просветителей, которые время от времени поднимали и сейчас еще поднимают голову, давая нашей злосчастной стране шанс измениться к лучшему. До тех пор, разумеется, пока другие — всегдашние — не врежут дубинкой по башке этим самым просветителям (а то и вовсе отправят на тот свет), а дальше все пойдет своим чередом, с попами-мракобесами и политиками-неучами, столь же безграмотными, сколь и бессовестными.
Но я малость отвлекся. Итак, я говорил о Хорхе Хуане и о том, что муниципалитет Новельды отслюнил сколько-то (что само по себе диво дивное) на увековечивание его памяти, на восстановление исторической памяти, объясняющей настоящее и — леденящее кровь, нет? — будущее нации, у которой за спиной три тысячи лет истории. И потому заслуживает всяческого одобрения, что банк, вместо того чтобы по обыкновению кредитовать друзей-приятелей или финансировать строительство очередной гольф-площадки, как это повелось от века, вдруг раскошелился на нечто достойное, полезное и знаменательное. Ибо увековечить память человека, который вместе с Антонио де Ульоа оттеснил лягушатников на вторые роли, чтобы определить форму Земли, который дал толчок европейскому судостроению и заложил основы научной навигации, которому отдавали дань уважения даже враги — английский адмирал Хоу задержался в Кадисе, чтобы нанести ему визит и побеседовать, — это событие выходит далеко за рамки муниципального начинания. Для этой нашей Испании, родства не помнящей и не собирающейся помнить, это прямо поступок. Так что если вам случится проезжать через Новельду, окажите мне любезность, посетите городской дом-музей модернизма. Это хороший способ сказать спасибо.
Некая грустная ирония заключается в том, что добрые вести из Аликанте совпадают по времени с уничтожением в Картахене морских шлюзов, построенных тем же самым Хорхе Хуаном, кавалером и моряком. Потому что после того, как наша городская, с позволения сказать, голова Пилар Баррейро и ее как бы советники по как бы культуре — эти выдающиеся умы от Пепе, чьи действия наблюдая, неизбежно задаешься вопросом, окончил ли кто из них хотя бы среднюю школу, — в бесконечном своем невежестве и криворукости ради дизайна едва не разрушили город, порт и часть городской стены времен Карла III, на муниципальное добро наложил лапу наш военный флот и ничтоже сумняшеся обратил в щепы сокровище восемнадцатого века, самое передовое гидротехническое сооружение своего времени. Я говорю о первых морских шлюзах, не зависящих от приливов и отливов, — похожие были в Тулоне, но те мелели с отливом, — в которых уровень воды регулировался насосами, что избавило сотни приговоренных к галерам каторжников от вычерпывания воды вручную. Конструкция, чудесным образом сохранившаяся в течение двух с половиной веков, была размолота в труху испанской Армадой XXI века — удалось спасти только несколько обломков да часть креплений, — дабы освободить место под несколько новых причалов для подлодок. Нет, конечно. Надо же понимать, что сохранение уникального культурного наследия — ничто по сравнению с нуждами смелых — нет-нет, о чем это я, не смелых — бравых! героических! — защитников нашего морского господства, наших берегов, наших рыбаков и наших интересов. И что благодаря этим причалам, которые следует построить именно там и более нигде, мы будем наводить ужас на все моря, как это было до сих пор, и, если потребуется, смело — и рука у нас не дрогнет, и самая передовая, в лизинг приобретенная технология не подведет — торпедируем хоть марокканцев, хоть мерзавцев-англичан, хоть зарвавшихся наркоторговцев. В общем, всех, кто криво на нас посмотрит или посягнет на наше владычество. И снова повсюду взовьется наш глубокоуважаемый флаг.
Праздник святой
На днях я зашел в один из этих испанских средиземноморских прибрежных городков, типичный такой: белые домики, синий прибой. До сумерек было еще часа два, так что я пришвартовался, закрепил концы, грот скатал тщательно, чтобы он эдак фасонисто облегал гик, и устроился на корме почитать, наслаждаясь воздухом и пейзажем. И все было хорошо, и книжка обещала — это было старое издание «Матросской песни» Пьера Мак-Орлана, — как вдруг на всю гавань начинает громыхать развеселая летняя музыка, внимание, мол, почтеннейшая публика, наша коррида начинается. Ты спекся, бретланкастер, сказал я себе, захлопывая книгу. Поднялся на ноги, огляделся и убедился, что деваться мне и впрямь некуда. Был день Пресвятой Девы Хрензнаеткакой, местной святой покровительницы, и на одном из причалов уже разложили эдакую переносную арену, с воды на нее смотрели с лодочек и корабликов, а на суше возвели трибуну, и там уже сидели горстка туземцев и стадо возбужденных туристов в шортиках, и все выглядело так миленько, так празднично, как оно отродясь происходит в этих селениях. А по импровизированной арене под гогот и восторженные вопли почтеннейшей публики, в туче зудящего и язвящего двуногого гнуса метался неуклюжий и растерянный годовалый бычок.
Я уже говорил как-то и еще раз повторю — я люблю корриду. Правда, смотрю я ее больше по телевизору, но зато всякий раз, как мне предоставляется такая возможность. Кроме этого, каждое лето я неукоснительно езжу в Бургос к своему другу Карлосу Оливаресу, который водит меня на лучшие бои сезона. Ему я обязан одним незабываемым переживанием — года два назад я видел быка, переигравшего Энрике Понсе и оставшегося в живых благодаря своей доблести и отваге. Мне, повторяю, нравится бой быков, и тут, конечно, есть известное противоречие, потому что — клянусь моими свежепочившими близкими — животные мне куда милей подавляющего большинства людей. Даже не знаю, отчего мне так мила коррида. Может быть, это как-то связано с мыслями о цене жизни и смерти — поди разбери. Все мы умрем раньше или позже, но в настоящей корриде, на всамделишной арене у быка есть шанс дорого продать свою жизнь и забрать с собою тореадора. Со всеми потрохами. И, признаюсь, мне кажется справедливым, что тореро тоже рискует своей шкурой, — в любой момент он может оказаться на рогах, а на ноги иной уже и не встанет. Это логично и правильно — если, как говорят, бык рогат — тореро богат, за это следует платить. Тот, кто выходит к быку, вступает в игру и знает это. Таковы правила. И точно так же меня мало тронет, если во время забега пятисоткилограммовый бык выпустит кишки бегущему перед ним любителю острых ощущений, особенно если это будет какой-нибудь американец[41], которого никто сюда не приглашал, и потом где-нибудь в Бостоне на его могиле напишут по-английски «Здесь почиет м-м-м… чудак». В общем, если кто хочет пободаться с настоящим быком, пусть пеняет на себя.
Поэтому я так ненавижу, когда к корриде безнаказанно примазывается всякая сволочь, и меня буквально выворачивает от деревенских гульбищ, где у бычка нет ни малейшего шанса испортить музыку мучающему его сброду. Раньше у нас, по крайней мере, было оправдание — мы были бескультурными варварами, тупым порожденьем чумазой придурковатой Испании. Но теперь, когда мы такие же чурбаны, какими были, разве чуть-чуть информированнее и чуть-чуть изобретательнее, это оправдание уже не работает, и остается единственное объяснение — наша трижды клятая человеческая суть. Редко увидишь зрелище омерзительнее, чем садист-мясник, мытарящий теленка с обточенными рожками, или свора пьяных вахлаков, окружившая несчастное перепуганное животное, которое — как дань чудным местным традициям — с минуты на минуту растерзают на глазах у почтеннейшей публики, забьют пиками, кольями, камнями, ножами, совершенно безнаказанно, абсолютно ничем не рискуя. В этом нет ни красоты, ни достоинства — ровным счетом ничего, кроме самой подлой, трусливой гнусности.
Всякий раз, сталкиваясь с омерзительными расправами — отчего-то их обычно устраивают под эгидой Девы Кротости или какого-нибудь местного святого, — я думаю: ах, вы ж мое отребье, смелые деревенские парни, налившиеся пивом залетные охотники до острых ощущений и красочных фоточек, как бы мне хотелось, чтобы здесь сейчас появился старший братик этого несчастного бычка, чьи мучения так вас веселят, и засадил бы вам рог прямо в… скажем, в паховую артерию — и тогда бы мы посмотрели, продолжили бы вы кривляться и гоготать. Мачо недоделанные.
Я отплыл на рассвете без малейших сожалений. Мне понравилось это место, сказал я себе, и я вернусь. Но не в эту пору. Не во время светлого праздника святой его покровительницы.
Дублон капитана Ахава
Да, я ношу его в кармане — золотой дублон капитана Ахава. Как часто я с ножом в зубах греб вдогонку за китом и слышал за собой прерывистое дыхание моих товарищей, а стоявший на носу Квикег собирался послать гарпун в спину Моби Дику. Как часто я, чтобы облегчить воздушный шар, плывущий в небе над Африкой, выскакивал из корзины, спасал жизнь спутникам, закрывал лицо маской Скарамуша или поджидал индейцев-гуронов, растянувшись в траве на лугу, прильнув щекой к прикладу мушкета и поглядывая краем глаза на спокойное рябое лицо Льюиса Ветцеля, неумолимого охотника на людей. И чаще, чем могу припомнить, видел, как погружается солнечный диск в море за бортом «Испаньолы», прыгал с борта «Патны» вместо этого паренька по имени Джим, стрелял из судового орудия фрегата «Сюрприз», пронзал клинком грудь пирата Левассёра на карибском побережье. Вы бы ахнули, господа, ознакомившись со всем моим жизнеописанием. Другим может только присниться то, что вышеподписавшийся видел наяву, — корабли, горящие за Орионом, и прочую небывальщину. Однако боюсь, что понадобится бесчисленное множество таких вечеров, как сегодняшний, чтобы рассказать обо всем. Так или иначе, здесь, на террасе отеля «Раффлз», уютно и удобно, воздух прогрелся в меру, а официант-малаец подает голубой «бомбей», который так же напоен ароматами, как и вечер, окружающий нас светлячками и звуками близких джунглей. Чу! Мне слышится в отдалении рык Шер-Хана. Слышите, да? В таком случае позвольте, я раскурю трубку, а вы устраивайтесь поудобней с сигарами и внимайте мне, если есть охота. И помните прежде всего, что нельзя воспринимать мой рассказ с безразличием стороннего наблюдателя. Иными словами, в подобных делах необходим предварительный договор. К примеру, читатель приключенческих романов просто обязан включаться в интригу, участвовать в действии и проживать жизнь персонажей. Скептическое безразличие, как и холодное любопытство, здесь неуместно. Грош цена читателю, который не способен пришпорить свое воображение, установить с персонажами связь, пусть хоть едва уловимую или прихотливо-своеобразную, — такому нечего и браться за книгу. Читать роман, а особенно — роман приключенческий, следует так же, как католикам — идти к причастию или как карточному игроку — садиться за партию в покер, то есть правильно настроившись и приготовившись следовать правилам. Посему читателей, пренебрегая сложностями иной классификации — всеми ее родами, видами и подвидами, — можно разделить на две основные группы: на тех, кто внутри, и на тех, кто снаружи.
Извините, что немного, как говорится, растекаюсь мыслию по древу. Да, благодарю вас, еще немного, не откажусь, джин превосходный. Я уже говорил, что предполагал рассказать о мужчинах и женщинах, встретившихся мне в моих бесчисленных странствиях, где я свершал открытия и испытывал опасности, венцом коих для героев и, следовательно, для читателей становятся счастье или разочарование, слава или катастрофа, но кроме того и в любом случае — познание себя самих и мира, где мы живем, боремся и умираем. Должен сказать, попадались мне разные и всякие, такие и этакие, всех мастей, сортов и типов: встречал я героев невольных и добровольных, общительных, замкнутых, шарлатанов, умников, дурней, тех, кто пресытился жизнью, и тех, кто будет цепляться за нее до последнего. Впрочем, и в реальности, на этой террасе сингапурского отеля, где мы сейчас ведем беседы, происходит то же самое. Беседы об искателях приключений malgre eux, как сказали бы французы, то есть поневоле — какими были, например, Робинзон Крузо, не отличавшийся даже отвагой (я, к слову сказать, терпеть не могу этого жалкого англосакса, который превратил в слугу товарища, посланного ему судьбой), или, скажем, более симпатичный Лемюэль Гулливер. Или о потерпевших кораблекрушение детях из «Кораллового острова»[42] или «Повелителя мух». Или о Паспарту, лакее флегматичного Филеаса Фогга. Или о докторе Питере Бладе, оказавшемся в рабстве на Антильских островах, или о другом англичанине, Рудольфе Рассендиле, так опрометчиво отправившемся в Зенду, или о братьях Майкле, Джоне и Дигби Жестах[43], или о самом юном изо всех невольных героев, о младенце Джоне Клейтоне III, больше известном как Тарзан, Человек-обезьяна и по очевидным причинам прославившемся под этим именем на весь мир. Не забудем и про животных, которые постоянно становятся героями против воли, о животных, занятых выживанием, — о собаках Джерри и Баке, о кролике Землянике (и плюньте в глаза тому, кто скажет, что «Обитатели холмов» — не приключенческий роман) или — в контексте экологическом и постмодернистском — о том самом-рассамом Белом Ките, который в конце концов хочет лишь, чтобы его оставили в покое, и убивает защищаясь. И вы согласитесь со мной, господа, что герой этого типа как никакой другой позволяет читателю спроецировать на него себя, ибо когда нормальне, обычные существа, как вы и я, — включая животных — вдруг попадают в невообразимый замес, читатель думает: «Ох и ничего себе! Ведь такое могло бы произойти и со мной».
Что же касается лично меня, то уже в силу моего капитанского статуса я все же предпочитаю других героев. Тех, из темных углов, тех, с пасмурными ноябрьскими сердцами — вы, разумеется, знаете, кого я имею в виду, — тех, кто пришел в приключенческий роман из литературы романтизма со всем багажом желаний, включающих в себя свободу, бегство от общества, революцию и индивидуализм, кто воспринял приключение как призвание, как убежище, как решение проблем и даже как средство к существованию. Я думаю о моем старинном друге Томе Лингарде (чтобы далеко не ходить за примером) или о Джоне Блэкбурне, капитане корсарской шхуны «Бесстрашный». И о юном польском контрабандисте, начинающем свой рассказ признанием в том, что он и его друзья были молоды, пили водку ведрами, а красотки любили их. Думаю о голландском пирате, который стал Сёгуном. О Гарри Фавершеме, который вернул своим друзьям и возлюбленной четыре пера. Об Аллане Куотермене и его таинственных африканских рудниках… Это, кстати, эталон профессионального искателя приключений — и он, и Льюис Ветцель, и Соколиный Глаз, иначе именуемый Кожаным Чулком: эти двое так круто сварены, что каждый читатель желал бы держать их в друзьях, особенно если придется отбиваться от индейцев или от кого там надо будет. Еще имеются профессионалы, герои по призванию и влечению души вроде Горацио Хорнблауэра или Джека Обри, офицеров флота ее величества; есть и самоотверженные альтруисты как сэр Кеннет, рыцарь Спящего Леопарда, или Айвенго — к слову сказать, мне всегда больше нравилась прекрасная еврейка Ревекка, — или другой сэр, лжеденди Перси Блейкни, скрывавшийся под прозвищем Алый Первоцвет. Имелись, само собой, и обаятельные головорезы типа Дика Тёрпина, Робин Гуда или Рокамболя, и плутоватые хитроумные мерзавцы вроде Дэнни Дрэвита и Пичи Карнехана — два эти унтер-офицера едва-едва не воцарились в Гималаях, — и гнусный весельчак Викторианской эпохи, антигерой Гарри Флэшмен. Не забудем и представителей другого крыла — идеалистов наподобие Роберта Джордана, взрывавшего мосты по заданию республиканцев в Испании, или Сидни Картона, предложившего руку и сердце девушке, над которой нависла тень гильотины, или Габриэля, эпизод за эпизодом разворачивающего перед нами эпические приключения, пережитые им самим и его отчизной. И как не упомянуть здесь и темную сторону луны, реверс той же медали — тех, кто волею судьбы оказался в другом лагере и кто, не будучи самыми честными или самыми милосердными людьми на свете[44], воюют все же на стороне света и влекут к себе читателей куда сильнее, нежели воплощенное добро, — вспомним Руперта Хенцау, Буагильбера, Конрада Монферратского, капитана Левассёра, Латур д’Азира, Крюка, Рошфора, Эрика из Оперы, Фантомаса и двух дам — позвольте мне здесь отдать дань личным чувствам, — так сильно воздействовавших на воспитание этих самых чувств: я говорю о прекрасной и таинственной Миледи из «Трех мушкетеров» и Ирен Адлер из «Скандала в Богемии». О той, про которую «дорогой Ватсон» неизменно слышал: «Эта женщина».
Позвольте, я набью и раскурю еще одну трубку, и мы продолжим. Благодарю вас. Сказать же я намереваюсь вот что: всё на свете когда-нибудь случается впервые. Первое ошеломление. С книгой происходит то же, что и в жизни, когда ты вдруг осознаешь: этот человек мне нравится, я беру его себе в друзья. В случае с книгой есть преимущество в том, что контролируешь — пусть и до известной степени — риски. И выбирать можешь гораздо осмотрительнее и рассудочнее, чем в жизни. Может быть, поэтому иные выбирают лучших друзей, равно как и ненависть с любовью, отталкиваясь от прочитанного. Чуть раньше я говорил о воспитании чувств — и вы удивитесь, узнав, как же сильно повлияли на мою жизнь две эти дамы, не говоря уж о третьей, с которой познакомился в юности, когда навещал моего кузена Хоакина в горном санатории, однако несопоставимо более могущественное воздействие получил, деля с героями книг их странствия и приключения. Как и первая любовь, первые дружбы не забываются никогда, и достоинство, каким в первую очередь обладает благотворный ход времени, заключено в том, что он позволяет взглянуть на прошлое иначе, под другим углом, и понять то, что раньше лишь интуитивно чувствовал или вообще не знал. Возьмем, к примеру, юного гасконца, мечтающего стать мушкетером. Вначале была шпага, и она определяла характер. Но вокруг нее или какого-либо приключения неизбежно возникали друзья, приобретавшие первостепенное значение: ни один другой литературный жанр не создал такой культ верной дружбы, как этот, таких преданных друзей, готовых следовать за героем хоть в преисподнюю: Яньес, Портос и Петеркин, обитатели квартиры на Бейкер-стрит, могикане Чингачгук и Ункас, благородные рыцари Круглого стола, византийские наемники, братство стрелков Дика Шелтона, волки, сражающиеся вместе с Маугли против красных собак, Маленький Джон и монах Тук, учителя фехтования Кокардасс и Пасспуаль, гребцы с корабля «Арго», отправившиеся за золотым руном и за исполнением мечты человека в одной сандалии. А среди самых любимых — гарпунеры Нед Ленд и Квикег, одноногий пират с попугаем на плече, который выкрикивает «Пиастры! Пиастры!»: они прочертили смутные, не всегда вполне очевидные границы между добром и злом, а кроме того, открыли мне важность одного из основополагающих элементов в литературе, в беллетристике, в воображении и в жизни — важность обстановки, среды, антуража. Я имею в виду путешествие, море, пространство или неведомую землю — от всего этого веет опасностью и приключением. Терра Инкогнита. Речь идет о вожделенном странствии, подобном тому, которое свершали Эрнан Кортес под ливнями Тлалока, Лопе де Агирре в поисках Эльдорадо, Клодиус Бомбарнак в русских степях, — или о путешествиях вынужденных либо случайных, тех, что предпринимали Джеймс Дьюри, владетель Баллантрэ, Бен-Гур, Дэвид Бальфур, охотник за кораблями Питер Хардин, Джон Тренчард, египтянин Синухе, дети, из-за которых окончили свои дни в петле пираты из «Урагана на Ямайке», юный Синглтон, Хамфри Ван Вейден, которого на борту «Призрака» сделали моряком насильно, или совсем молоденький, изнеженный миллионер Харви Чейни, случайно открывший для себя, как суровы бывают море, работа, жизнь. Представьте себе, я стал плавать по вине кого-нибудь из них, пустившись в долгий путь, приведший меня сегодня на террасу этого малайского отеля, где я непреложно убедился — если вам не трудно, позовите, пожалуйста, официанта, — что джин на исходе. Так или иначе я никак не могу продолжать свой рассказ о людях этого сорта, о спутниках в странствиях и скитаниях, не упомянув об их общем прадедушке. О том, кто открыл мне глаза и научил, что жизнь — это завораживающая ловушка, авантюра с неопределенными очертаниями, где всё взаимодействует со всем, где потеря гвоздя в подкове может обернуться потерей царства и где истинный герой — тот, кто, сознавая свой удел, странствует, плавает, сражается и не теряет при этом трезвомыслия — оно становится неотъемлемым свойством настоящего усталого героя — под небом, на котором нет покровительствующих ему богов. Я говорю об Улиссе, царе Итаки, повелителе многих и многих путей. Я странствую с ним с тех пор, как еще за школьной партой перевел строчку за строчкой историю его приключений. Я узнал его и благодаря этому — самого себя. Одиссей, добровольный герой войны под стенами Трои, на возвратном пути домой, на родной остров, становится героем невольным. Ибо хочет он только одного — вернуться к своей Пенелопе и мирно стариться с нею вместе и рассказывать своему сыну Телемаку и внукам — вот как я сейчас рассказываю вам, джентльмены, — про ту ночь, когда вышел из утробы деревянного коня и вместе с отважными и жестокими друзьями допьяна упился кровью троянцев. В приключениях Одиссея я впервые сознательно постиг все элементы, составляющие и питающие приключенческую литературу и более того — самое жизнь, оттого, быть может, что они царствуют в сердце и памяти человеческой, точно так же, как все ингредиенты тридцати веков литературы — надеюсь, вы простите мне ученую ссылку — уже содержались в «Поэтике» Аристотеля. Я имею в виду путешествие, море, шторм, кораблекрушение, чудовище, опасность, искушение, женщину коварную и обольстительную, женщину благородную и отвергнутую, доблесть, алчность, тщеславие, дружбу, справедливость, лук, который никто не в силах натянуть, кормилицу и старого верного пса, который тебя узнает. И, главным образом, тот практический и жестокий вывод, неизбежно приходящий в голову читателю 13–14 лет: как в приключенческом романе, так и в самой жизни герой рождается в ту минуту, когда, призвав к себе на помощь богов и не получив никакого отклика, волей-неволей должен справляться со своими делами сам. Случается порою и так, что на последних страницах мы с изумлением обнаруживаем, что Черный Корсар — плачет, что свод пещеры Локмарии чересчур тяжел, что «Баунти» горит у острова Питкэрн, и осознаем угрюмое одиночество капитана Немо.
Уже поздно, джин выпит, и табак на исходе. Свет фонаря меркнет и тускнеет, москиты едят меня поедом. Но я не хочу идти спать, джентльмены, не назвав, не упомянув то основное вещество, из которого для меня состоят приключения и мечты, — море. Я не напрасно и не случайно — прошу учесть — ношу четыре золотых галуна на обшлагах. Гораздо сильнее, чем воздух, — меня никогда особенно не интересовала эта стихия, кроме «Пяти недель на воздушном шаре» и «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут», потому что мои герои никогда не витали в облаках, но обеими ногами стояли на земле или, по крайней мере, на кренящейся палубе, — вода была для меня и вызовом, и стезей, а люди с самого своего детства, проходившего на берегах и в портах, нечувствительно научались безотчетно мечтать о чем-то недостижимо далеком, о том, что обитает в душе. Я говорю здесь о себе самом — простите за очередную ссылку на опыт собственный и личный. Как ни крути, не случайно же лучший, вероятно, приключенческий роман начинается с появления юного моряка по имени Эдмон Дантес на палубе «Фараона». И не случайно роман, признанный одной из вершин мировой литературы, в мельчайших подробностях описывает охоту на кита. А прекраснейшая история для юношества рассказывает о плавании на остров сокровищ. Ибо во всех романах, связанных с морем, как нельзя четче исполняется незыблемый ритуал литературы, канон приключения, таинство жизни — тот, кто решится на опасное путешествие, через него и благодаря ему сильно продвинется в познании самого себя и мира, в котором пребывает. Подобно игроку в «гуська», достигшему тридцать шестой клетки, подобно средневековому пилигриму, прибывшему в Сантьяго, подобно удачливому алхимику, завершившему Великое Делание, герой, если выжил при встрече с кораблем-призраком, познал многое. И возвращается он совсем другим — к добру или к худу, но мир для него уже никогда не будет прежним. Теперь он знает то, что неведомо его землякам, соседям, родственникам. И вот вам мое слово, джентльмены, — я был с каждым из них: я сходил на берег вместе с Джимом Хокинсом по возвращении с острова сокровищ, делал последние шаги в Патусане вместе с Туаном Джимом, вместе с Измаилом конопатил гроб Квикега, слышал, как упрекают друг друга Ясон и Медея, видел, как д’Артаньян, допустивший казнь Миледи, закрывается своим щегольским мушкетерским плащом, разделял с Гулливером его горькую уверенность в том, что единственные разумные существа на свете — это лошади.
Возвращаюсь на палубу «Пекода» — и простите меня за то, что в действительности я только сошел с нее, — потому что на ее грот-мачте, вбитый молотком старого злодея Ахава, блещет золотой дублон — награда тому, кто первым заметит белого кита. По моему разумению, это — наилучший символ всего того, что завораживает иных людей, что заставляет их отрешиться от спокойствия и безопасности и, как было сказано в самом начале нашего разговора, грести с ножом в зубах, причем от Вечности их будет отделять лишь тонкая деревянная обшивка китобойного вельбота, а гарпунные тросы иной раз привяжут их самих к погребальной колеснице — и все это для того, чтобы пережить приключение, не дающее человеку превратиться в моллюска, затворившегося в своей раковине на дне морском. Каждый раз, как я задерживаюсь в библиотеке и ласково провожу пальцем по корешкам старых книг, привезенных издалека, мне чудится рокот прибоя и стук молотка, которым старый капитан вколачивает монету в мачту. Поглядите на нее хорошенько, говорил Ахав. И вот теперь она у меня. Если потереть рукавом, она засверкает, как золото из снов. И вот что напоследок я вам скажу, джентльмены. Я жалею людей рассудительных, людей покорных и уютных, тех, кто никогда не читал книги, заставляющие вздрагивать сердца. Жалею тех, кто не обольщался и не позволял себе увлечься красотой женщины или блеском золота, верной дружбой или приключением, обнаруженным в книге. Жалею тех, кто не уснет вечным сном со всеми пиратами, не упокоится рядом с могилой, где гниют они сами и их мечты.
2002
Суши и сашими
Вот ей-богу, сейчас мне совершенно без разницы, что то, что это. Ну, может быть, не совершенно, но близко к этому, потому что я уже довольно давно понял всю бессмыслицу. Потому что зло неизменно побеждает, а единственный способ не начать презирать себя как соучастника — метко плюнуть ему, злу то есть, меж бровей и таким способом хоть немного испортить мирное переваривание сожранного. Это вступление — или преамбула, как сказал бы мой латинист дон Антонио Хиль — к рассказу о тунце обыкновенном, длиннопером, большеглазом, о рыбах вообще и о море в частности. В данном случае — о Средиземном. И, как я уже объявил, мне совершенно все равно — ну, или я делаю вид, будто все равно, — что рыбаки, среди которых не у всех семь пядей во лбу и совести хотя бы на грош, рыбаки, живущие одним днем и на завтра не загадывающие, усердно и успешно истребляют все, что живет и плавает под водой, и доходят в этом увлекательном занятии до того, что плакать хочется при взгляде на их улов — четыре дохлых морских карасика, дефективное головоногое существо и сбившийся с пути малек тунца.
Мне совершенно безразлично — или я делаю вид, будто это так, — что рыбаки теперь работают на этих плавучих лагерях уничтожения, организованных для тунца, который, как уверяют нас, разводится в этих клетках — ага, как же, веселися, моя Василиса! — словно иным из нас не известно доподлинно, что тунец в неволе не рождается, даже если его папа с мамой упьются в дым, а все, что сейчас творится с этой рыбкой в Средиземном море, не просто вопиющее экологическое паскудство, но и бизнес, причем небезвыгодный кое для кого, и в первую очередь — для японцев, ибо у них там тунец высоко ценится во всех смыслах слова. Я бы мог, если бы мне пришла такая охота — но она где-то задержалась, — рассказать в подробностях, как шустрят мои двоюродные братья по разуму, как выслеживают с самолетов косяки тунца, как преследуют их, как окружают, как загоняют в садки, как откармливают, а потом убивают и поставляют этим… ну, с «никонами» и «тойотами»… на суши и сашими. Я бы мог рассказать, как мы, несмотря на то что в Испании теоретически оберегают исчезающий вид тунца — у нас не выдают лицензии на отлов, мы ведь члены ЕС и всякое такое, — с замечательной ловкостью мухлюем с французскими лицензиями, как химичим и темним, как пользуемся иносказаниями, говоря о разводителях и убивателях и о соответствующей их мамаше, а министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия, о котором мы в свое время тоже поговорим задушевно, безмятежно взирает на все это, руководствуясь, вероятно, чистой любовью к искусству (сдержанный смех в зале), меж тем как Главное управление торгового флота предпочитает не совать нос в это дело, экологи же, которые так любят позировать на фотографиях для простодушных олухов, в данной ситуации предпочитают не высовываться, хотя где же и высунуться-то, как не здесь, а убогие рыбаки, вместо того чтобы бойкотировать ловлю или блокировать тот или иной порт, а еще лучше — поджечь офис соответствующего учреждения, работают как проклятые за жалкие гроши на тех, кто набивает себе мошну и по-свойски снимается под ручку с разными тузами и шишками — с советниками, президентами и министрами в зеленых и розовых переливчатых галстуках, и все очень довольны, что познакомились ближе некуда.
Да, повторяю: я мог бы пуститься во вкуснейшие и документально подтвержденные подробности всего этого. Но сейчас это уже ни к чему, а мне, как я уже заявлял, совершенно безразлично — содеянное зло не исправить, а впрочем, если когда-нибудь доведется встретиться кое с кем из ответственных за него на узкой дорожке, обязуюсь лично высказать ему все, что думаю о нем и мамаше его. А вот что мне не безразлично — это возможность поднять паруса, дабы вытрясти из головы, вытравить из памяти, что я живу в печальной стране под названием Испания с повышенным количеством наглецов на квадратный метр, поднять, говорю, и грот, и стаксель и поплыть куда глаза глядят, и наткнуться на один из двухсот тысяч лабиринтов из садков, клеток-ловушек, сетей и неводов, кое-как опущенных в воду и множащихся прямо на глазах — порой их даже не отмечают на картах, и тогда ты спрашиваешь, какой идиот (это еще самое мягкое) разрешил натыкать их повсюду на морских путях, да так, что они в штормовые ночи перекрывают доступ в привычные убежища бухт и гаваней, да еще снабдил фонарями, которые обязательно гаснут: вот недавно, чтоб далеко не ходить за примером, я всласть поскрежетал зубами, выбираясь из смертельной ловушки, в которую превратились прибрежные воды Ла-Асоии у порта Масаррон. Какой идиот, спрашиваю, мог позабыть, что кроме права немногих обогащаться за счет истребления ресурсов есть еще право свободного мореплавания?! И это все — не считая горькой печали, охватывающей тебя, когда проплываешь мимо зловещих подводных тюрем, откуда несет опустошением, шальными деньгами и смертью.
Да пусть хоть разбомбят
Сочувствую, конечно, но — если только это не создаст прецедент — я на стороне Брюсселя. Испанский рыболовный флот должен быть не только беспощадно и безжалостно подогнан под правила и нормы Европейского Союза, но и — по моему сугубо личному мнению, с которым я всецело согласен, — внезапной атакой торпедирован и разбомблен под припев «Тора, Тора, Тора», как американская эскадра в Пёрл-Харборе. Застигнут врасплох. На рассвете. Потоплен. Уничтожен. Одним словом… нет, в двух словах: ему следует устроить полный капут. Это вовсе не значит, само собой, что рыбаки и арматоры с женами и детьми должны будут пойти ко дну. Финансовой пропасти, я имею в виду. Вовсе нет, скорее наоборот. На те деньжищи, которые тратят Испания и ЕС, субсидируя грандиозную брехню и бессовестный грабеж ресурсов под девизом «Однова живем!», деньжищи, которые (считаные, хоть и отрадные исключения не в счет) идут на пользу только отдельным ловкачам, и с помощью коммунистических методов, лишь гальванизирующих труп, ставший таковым из-за алчности, полнейшей бессовестности и меднолобости чиновников и частных лиц, — так вот, благодаря этим средствам можно было бы превосходно устроить их всех на суше, создать для них рабочие места, раз, черт возьми, и навсегда и перестать, извините, пускать сопли. А заодно и считать нас всех безмозглыми олухами. Так что министр Каньете со всем своим струнным ансамблем просто обязан был бы овладеть ситуацией и перекантовать рыбаков во что-нибудь другое — в официантов, агрономов, наркоторговцев или еще во что-нибудь. Во что-нибудь пристойное, хочу я сказать, а не в то, что они являют собой сегодня. Потому что рыболовство в Испании — не рыболовство, а слезы горькие. И никто ведь не скажет: «О-о, вот же странность! А почему так, хотелось бы спросить?»
Потому что все это обман. Колоссальная туфта, не имеющая никакого отношения к реальному положению дел. Каждый, кому доводилось бороздить испанские воды, поймет, о чем я. Как там обходится наш флот в иностранных местах промысла — не знаю, я туда не суюсь. Но здесь, в наших территориальных водах, видишь, как рыбачьи баркасы барахтаются на мелководье, у самого бережка, чуть не царапая днищем дно, чтобы выловить парочку анчоусов и тем самым оправдать громкое слово «рыбопромысел» и соответствующие финансовые, как принято говорить, вливания, посылая все законы и нормы куда подальше. Видишь садки и питомники тунца — я о них уже говорил как-то, — которые подозрительно часто становятся лагерями уничтожения, где попираются все нормы при благосклонном участии правительства, а оно еще преподносит нам такие действия, как идеал и образец. Видишь вход в бухту, где под присмотром катерка Гражданской Гвардии плавают вверх брюхом тысячи рыбин, погибших потому, что попади они в этот день на рынок, обвалили бы цены, или потому, что еще не достигли кондиционных размеров, — вот их и выбросили за борт. Видишь соревнования по спортивному рыболовству, где какие-то бестии хвалятся тем, что выловили за один день «триста тридцатисантиметровых тунцов». Видишь все это, а потом узнаешь ненароком, что какой-то представитель или даже целый министр заявил, что европейское сообщество в грош нас не ставит, и не понимает, и всячески третирует. Вот те на. Да нет, дело-то все в том, что тамошние люди не такие идиоты, как отсюда кажется, и не всем заслоняет обзор «рождественская корзина» и пачка сами понимаете чего. И гнобят нас как раз потому, что превосходно понимают. Так что — не надо.
В тот день, когда до меня донеслись заявления брюссельских индюков, я возвращался из плавания при полном штиле, превратившем Средиземное море в озеро оливкового масла, и рассекал огромные стада медуз, которые расплодились неимоверно после того, как мы извели тех, кто ими питался. Жара, солнцепек, безветрие, и вода как зеркало. Казалось, я двигаюсь по маслянистой поверхности мертвого моря. Ни души. Только белые и бурые медузы да время от времени — жестянка из-под прохладительного и много-много пластикового мусора. И вот наконец в полукабельтове заметил очень юную и потому еще маленькую рыбу-саблю, которая прыгала и кувыркалась в воде, и встреча эта, вместо того чтобы обрадовать, огорчила меня безмерно — дело в том, что совсем недавно на горизонте медленно проплыл траулер с несколькими глубоководными тралами. Дай тебе бог дожить до темноты, пожелал я блаженно резвящейся рыбке, которую уже терял из виду. Спустя еще несколько часов — море по-прежнему было гладким как блюдо — я различил на поверхности маленькую черепаху в одиночном плавании, направился к ней и обошел вокруг, разглядывая — да, юная, одинокая, панцирь длиной сантиметров сорок. Когда я приблизился, она замерла, словно бы для того, чтобы остаться незамеченной. Беззащитная и трогательная. Одна-одинешенька. Ни отца, ни матери, ни собачки, чтоб полаяла ей, подумалось мне. Последняя черепаха с Филиппин, единственная уцелевшая из всего семейства, которое сгинуло в рыбачьих сетях или в пакетах торговой сети «Перекресток», уйдя потом по пищеводу. Мне захотелось сделать для нее что-нибудь хорошее, но я не мог придумать что. И потому я просто пожелал ей удачи, как и юной рыбе-сабле, и пошел своей дорогой. На следующий день пришвартовался, услышал ответ рыбаков и министра на предложение Брюсселя и долго смеялся. Смех мой был исполнен злорадства и горечи. Уверяю вас, мне он самому не понравился.
Мальчик с сачком
Я снова увидел его. Недели три назад, в тот предвечерний час, что оправдывает или подтверждает право на существование дня, лета или самой жизни: солнце очень медленно и плавно вплывает в зазор между туч, и красноватый свет миллионами крохотных отблесков дрожит на воде. Я стал на якорь в маленькой бухте. Ближе к суше стояли еще два парусника, на пляже имелись дощатый павильончик да несколько припозднившихся купальщиков. Солнце будто обводило светящимся контуром скалистый мыс и уходившую далеко в море пологую отмель — ловушку для беспечных мореплавателей. А против света с севера на юг, подняв все паруса, надутые мягким вечерним бризом, неторопливо шел двухмачтовый кеч.
Тут вот я его и увидел. Смуглый, щупленький, босой, в одних купальных трусиках, лет восьми-десяти на вид, он шел по берегу между скал и нес в руке сачок — такой сетчатый мешок на длинной палке, которым ловят рыбешек и прочую мелкую морскую живность. Шел один, осторожно ступая, чтобы не поскользнуться на влажных, выщербленных камешках или не ушибить о них ногу. Время от времени останавливался и концом палки ворошил гальку. В движениях этой фигурки почудилось мне что-то до того знакомое, что я отложил книгу — старое издание «Мятежа на "Кейне"»[45] — и взял бинокль. Ребенок двигался с привычной сноровкой — может быть, искал крабов на мелководье, которое то открывал, то закрывал накатывающий прибой. И, разглядывая мальчишку, я, казалось, ощущал запах мертвых водорослей, жар горячих камней, поросших скользкой зеленью. Все разом вернулось ко мне — запахи, чувства, образы. Распахнулась дверь во времени, и я сам вновь оказался там — обгоревший на солнце, с просолившимися короткими волосами, с сачком в руке ищу под камнями крабов.
Это было удивительно. Я снова услышал, как плещет вода в скалах, я наклонялся к накатывающему прибою. Снова вокруг меня было безмолвие, нарушаемое только морем и ветром, игрой без слов и движений. Безупречное одиночество иной территории, ныне недоступной. Телевидение было пока неведомо, и ребенок мог спокойно, ничего не опасаясь, бродить по полям или берегу моря, и мир не был еще так беспорядочен, как сейчас. Иные времена. Иные люди. Нескончаемое лето заполняли книги, комиксы, синие горизонты, рокот прибоя и треск сверчков где-то между фиговыми деревьями и пересохшими руслами. Полная луна очерчивала твой силуэт на тропинке или на песке пляжа, а задирая голову к небу, ты видел медленный хоровод бесчисленных звезд вокруг Полярной звезды. Над морем текла неспешная череда дней и ночей, и ты был занят лишь тем, что читал о приключениях и путешествиях да бродил по крутому обрывистому берегу, воображая себя героем, который заблудился во враждебных краях среди циклопов, пиратов, злых волшебниц, сводящих людей с ума, и девушек, влюбившихся до такой степени, что позабыли и отчизну, и веру предков. Так легко было грезить наяву. Очень легко. Достаточно было присесть на пляже — и ничто уж не могло помешать тебе выслеживать белого кита, а потом плыть, вцепясь в гроб Квикега. Или вернуться измученным из пылающего города, после того как с мечом в руке, в бронзе доспехов ждал своего часа в брюхе деревянного коня. Или оказаться на берегу, куда шторм выбросил тебя, разбив сначала в щепки твой 74-пушечный корабль. Или искать на острове место, отмеченное скелетом, где ждет сундук с блестящими испанскими дублонами. Или лечь навзничь и умирать на пустынном острове, и пусть чайки кружат над тобой, как стервятники-грифы, чтобы принять твой последний вздох, а потом оставить на берегу дочиста обклеванные кости — в виде предостережения тем, кто потерпит тут кораблекрушение. И каждый раз, как на горизонте покажется парус, застывать, вглядываясь в него из-под руки, и спрашивать себя, что это — «Арабелла», «Испаньола» или «Пекод». Мечтать, как поднимешься на борт, будешь слушать посвист ветра в снастях, путешествовать в те края, о которых вычитал в книгах с пожелтевшими от солнца страницами, — туда, где границы мира становятся проницаемы и сливаются с грезами. Туда, где в холодном свете зари красивая женщина с пистолетами за поясом и саблей на боку, со шрамом в углу рта разбудит тебя поцелуем перед битвой.
Все это припомнилось мне, пока я разглядывал мальчугана с сачком на фоне красноватого закатного солнца. И улыбался с печальным умилением — полагаю, что ему, а впрочем, может быть, и самому себе. Или нам обоим. И мне казалось, что после долгого, сорокалетнего пути я снова вижу себя у тех же самых скал у моря. Пальцы мои сжимают бинокль, но под ногтями запеклась кровь кита. Никому еще не удавалось безнаказанно проплыть ни по библиотекам, ни по жизни. Солнце уже готово было скрыться, когда мальчуган остановился на краю мыса над отмелью. Потом козырьком приставил ладонь ко лбу и замер так, четко вырисовываясь в последнем свете заката. Он глядел на корабль, что медленно плыл вдалеке, держа курс в Нетландию.
Трое в воде
Недели две тому назад трое моих друзей, преследовавшие злодейский катер, чудом остались в живых. Со скоростью пятьдесят узлов они летели ночью над морем на вертолете береговой охраны «Аргус IV», гонясь за резиновым ботом с тремя марокканцами на борту и грузом богатым — да-да, именно — шоколада. Было сильное волнение, ветер семь баллов, и от изрядного слеминга катер приплясывал на воде, освещенной вертолетным прожектором. Все это было обычно и привычно и повторялось в тысячный раз. Но внезапно вертолет резко пошел вниз. И — хлоп об воду. Да, такое бывает: иногда пронесет, иногда нет. На этот раз мои друзья едва не накрылись деревянным бушлатом. Командир, второй пилот и штурман, раненные и травмированные, успели выбраться из вертолета, прежде чем он погрузился в воду. Потом, с профессиональной сноровкой поддерживая друг друга, забарахтались в своих спасательных жилетах в ночи, во тьме, в высоких волнах. Радиобуи оказались полнейшим дерьмом. То ли не включались, то ли не посылали сигнал. Вдалеке проплыли огни «купца». Летчики пустили ракеты, но с борта теплохода их не заметили или были уже слишком далеко. По счастью, у одного из потерпевших крушение оказался в водонепроницаемом кармане мобильный телефон, и прежде чем и он дал дуба, успели сообщить, что приводнились. Потом больше двух часов боролись с переохлаждением и берегли силы, по-прежнему цепляясь друг за друга. И наконец вылетевшие на поиски товарищи обнаружили их и подобрали.
Я не предполагал писать об этом. Как уже было сказано, это мои друзья. Я и так уже много рассказывал о них в последнее время и знаю, что им это не понравилось. А падение в воду — это, как они говорят, служебная неприятность. Сильнее всего их огорчает потеря вертолета — они с нежностью относились к старине «Аргусу». Кроме того, когда эта колонка выйдет в свет, они уже снова будут в воздухе, преследуя злоумышленников, ибо такова их обязанность и такая у них работа. Но дело все в том, что после летного, как это называется, происшествия, в промежутке между сообщениями в прессе и объяснениями я прочел нечто такое, что совсем не пришлось мне по вкусу, — речь о высокопоставленном сотруднике государственной безопасности, который, по всему судя, считает ребят из береговой охраны не коллегами, а соперниками. И этот господин, официальный представитель или кто он там еще — да кто бы ни был, — вместо того чтобы выразить профессиональную солидарность и восхищение их работой, заявил, что не слишком удивлен, потому что они «вообще склонны к риску и порой ведут себя как камикадзе».
Не проходите, как говорится, мимо. Я и не прошел. Во-первых, потому, что речь о моих друзьях. Во-вторых, потому, что за их опасную и замечательную работу им платят сущие гроши. В-третьих, потому, что если есть на свете абсолютные антиподы камикадзе, это именно те, с кем я летал на вертолетах «Аргус» и плавал на турбокатерах XJ. Потерпевший крушение пилот за пятнадцать лет налетал три тысячи часов — причем по большей части ночных часов, а тактика наблюдения и преследования, выработанная долгой практикой, — за столько лет службы это было его первое летное происшествие, и все члены экипажа остались живы — школа для аналогичных служб в других странах, где летчики не раз выражали свое восхищение профессионализмом и мастерством нашей СБО. Хочется также напомнить, что если вертолеты других структур нашего государства (обладающих, само собой, неоспоримыми достоинствами) не падают в море во время ночных полетов, то это потому, что они не летают по ночам, не садятся на крошечных пятачках, не подходят вплотную к торговым судам в Атлантике, не преследуют в открытом море груженные гашишем глиссеры на воздушной подушке, не перехватывают их с риском для жизни, не прыгают к ним на палубу с борта турбокатера или геликоптера, покуда суденышко злодеев пляшет на волне со скоростью пятьдесят узлов. Я сужу об этом не по рассказам и не с чужих слов — я видел все это собственными глазами, и турбина иной раз заглатывала камень с берега, и порой волны били в кабину или захлестывали полозья «Аргуса», из которого я наблюдал то, о чем сейчас повествую. Не разбив яиц, яичницу не сготовишь. А ради чего идут они на этот профессионально выверенный риск — идут, несмотря на то что их мало, что личный состав не обновляют и не пополняют молодежью, а их пресс-бюро и служба связей с общественностью демонстрируют вопиющую некомпетентность, и на то, что над СБО постоянно висит угроза ликвидации по причине сокращения штатов либо того, что штаты эти якобы вышли в тираж и не ловят мышей, — да-с, так вот об этом следует спросить министерство финансов: оно может обнародовать кое-какие потрясающие цифры, касающиеся результатов борьбы с наркоторговлей в Испании.
Короче говоря — убедительно вас прошу: не лезьте к ним. Никакие они не камикадзе, не добытчики адреналина любой ценой и не хвост собачий. Совсем наоборот — высокоэффективные профессионалы, рискующие жизнью, потому что этим риском снискивают себе хлеб насущный. Спокойные, отважные, надежные парни, которых я имею честь и удовольствие считать своими друзьями.
Морской сброд
Вот, значит, как. Я смотрю на фотографии — «Престиж» погружается в воды Атлантики, а осрамившийся капитан Апостолос Магоурас[46] стоит на суше между двумя жандармами, — и думаю, что, несмотря на всю модернизацию, на спутники и всякий прочий прогресс, море остается таким же, как было всегда, — стихией враждебной и злобно-безжалостной, и недаром боги покинули этот мир десять тысяч лет назад. У моря — свои неукоснительные законы, один из которых гласит, что нет никаких законов, а все движется исключительно случаем. Океаны кормят, обогащают, но они же — разоряют и губят мореплавателей. Разумеется, времена меняются, меняются и нравы. Сейчас все информатизировано, оцифровано, превращено в биржевые котировки, идет первым номером в выпусках новостей по ТВ, и даже «гламурная пресса» мелет свою обычную чушь, делая вид, что разбирается в вопросе. Сейчас и экологические бедствия на нашей серой планете, неуклонно катящейся к известной матери, стали еще опустошительнее и непоправимее. Но за пределами экологии некомпетентность властей, демагогия, невежество, благие намерения, морское право и всякое такое прочее остались точно такими же, какими были. Море по-прежнему бороздят и эксплуатируют те, кто ищет себе пропитания, кто нарушает нормы и предает принципы, потому что у них есть счета, которые надо оплачивать, и дети, которых надо кормить. Тщеславие, которое надо тешить «БМВ», дорогие (во всех смыслах) дамы, которых надо обувать и одевать, и перед лицом всего этого понятие «завтра» для них просто не существует. На суше это еще кое-как прокатывает, но когда поднимаешься на палубу, дело меняется. И то, что так славно выглядит в приключенческих романах, ужасает в заголовках газет — контрабандисты, наемники, пираты… Почти никто еще не сказал почему-то, что капитан Мангоурас выбросился на берег, делая то же, что делает всякий моряк со своим поврежденным, но все еще управляемым кораблем, — он искал убежище. Гавань. Укрытие.
Так вышло, что я их знаю. Не так чтоб очень уж хорошо, но достаточно. Узнал, во-первых, в ранней юности, благодаря, скажем, роману Травена «Корабль мертвых» или конрадовскому «Лорду Джиму»: оба очень хорошо объясняют, о чем идет речь, — плавание на борту «Йорика» или «Патны» многому учит читателя. И позже, когда, как всякий, кто часто бывает в море и заходит в порты, я видел их то там, то здесь — видел их старые ржавые корпуса и название, переписанное раза четыре или пять, видел, как сверкают бортовые номера и вьются флаги — совершенно немыслимых стран. Я видел, как они опорожняют льяло или танки в нефтяном пятне, как блуждают наподобие Летучих Голландцев у берегов Африки и Америки, как стоят у причалов — с командой или без, — арестованные за перевозку наркотиков. Я слышал их перебранку по радио, когда на полном ходу стоял вахту и вглядывался — не покажутся ли их треклятые красные и зеленые огни. Есть у меня и более конкретный опыт — как, например, произошедший тридцать четыре года назад мой первый контакт с кораблем-призраком: я и о нем расскажу как-нибудь, когда накушаюсь должным образом. Или то, о чем вспомнит Пако-Мореход, — как в безлунные ночи подходит к острову Эскомбрерас корабль с грузом «Джонни Уокера» и «Уинстона Черчилля», а карабинеры смотрят в другую сторону. Или то, о чем поведают в баре «Сандерленд» в Росарио, — как однажды вечером корабль сказал «буль-буль-буль» и пошел ко дну, а дело, как на грех, было накануне истечения срока страховки. Или про одного малого, который разбогател, доставляя куда надо нигерийский сырец. Или про плавучие склады металлолома, груженные оружием и провиантом, и в конце 70-х — начале 80-х я отслюнивал немалые суммы в долларах (из кассы газеты «Пуэбло») их капитанам и арматорам, чтобы брали меня на борт в греческих, турецких и кипрских портах и доставляли в Сидон, Бейрут или Джунию: в тех краях тогда как раз шла война. Один из этих капитанов даже стал моим другом — в «Тайном меридиане» он носит имя Сигурда Рауфоса, — а 2 июля 1982 года в десяти милях западнее маяка острова Рамкин он, наплевав на израильскую блокаду, удрал от израильского же патрульного катера, и я, сказать по правде, ни жив ни мертв, сидел на палубе, подложив под задницу собственный рюкзак.
Резюмирую: да, попадаются среди них первостатейные сволочи. Но все же добычу себе добывают они в море и в море останутся до тех пор, пока есть на чем бултыхаться и из чего извлекать доход. И как веревочке ни виться, все равно рано или поздно появятся они в выпуске новостей за решеткой. И будут выкручиваться, изворачиваться, отбрехиваться. Но должен вам сказать, что из всех видов сволочей такие субъекты, как капитан Апостолос Магоурас и его филиппинцы — между прочим, хорошие моряки, — мне нравятся больше всех. Потому прежде всего, что на бережку не отсиживаются, хлебают все, что пошлет им судьба, а порою и захлебываются, меж тем как все эти кабаны, засевшие на суше (и там, где посуше) в офисах пароходных компаний, в конторах фрахтовщиков, в налоговых райских кущах, вкупе с бесчисленными морскими чиновниками, которые на самом-то деле и преступают закон разнообразно и регулярно, как раз не рискуют ничем.
Черное Рождество
Все, конечно, засуетились. Задергались. Забегали, как крысы. Хуже — как политики. Когда на рассвете «Престиж» вдруг возник неподалеку от берега, всё как-то зашевелилось, занервничало. А местные власти, власти автономных сообществ и центральное правительство и вовсе обделались со страху. Шлеп-шлеп. Зная наших классиков, мы запросто представим себе, как завывает и бьется в истерике министр. «Прочь! Гнать! Уберите его отсюда ко всем чертям, чтоб глаза мои его не видели!» И как его прихвостни и лизоблюды привычно предлагают именно то, что шеф втайне надеется услышать, свято блюдя правило, что в политике и в церкви удалить проблему означает ее решить. Вы совершенно правы, господин министр. Убежища «Престижу» не давать, нефть у него не откачивать, а гнать его отсюда в три шеи. Чтоб никаких утечек в наших водах. А не у нас — пусть хоть потопнет. Только, ради бога, подальше. Потому что на носу у нас выборы. И всем, естественно, было наплевать на моряков. И на капитана «Престижа», который пытался спасти свой корабль и свой груз. И на тех, кто говорил, что лучше небольшая контролируемая утечка в ближайшей бухте или в порту, чем потом по водам будет гулять семьдесят тысяч тонн нефти. Куда там! Главное для нас — не чтобы катастрофы не случилось, а чтобы произошла она подальше. В Португалии, в Гренландии, где угодно, лишь бы галисийские раколовы не натрепали ушей членам соответствующих муниципалитетов от Пепе. Нет-нет, только этого не хватало! В открытый океан, за тридевять земель, лучше всего — куда-нибудь к неграм, у этих если и выльется в море тридцать тысяч тонн нефти, им легко заткнуть рот несколькими тысячами долларов, а прочих их несчастья не… ну, допустим, не волнуют.
И поскольку Испанию и другие страны куда больше заботили результаты ближайших выборов, чем судьба «Престижа», судну, несмотря на обращения команды и судовладельцев, было отказано в убежище. Из этих же соображений капитана Мангоураса заставили запустить двигатели и валить подальше от берега, хотя вибрация моторов могла увеличить утечку. По тем же самым причинам, после того как Испания, поторговавшись с голландской спасательной компанией, так и не позволила ей никого спасти, судно было отбуксировано в открытый океан, и кому какое дело, что северная Атлантика в это время года славится своим скверным нравом. «Престиж» выставили прочь из наших вод, только что пинка под зад не дали, запретили уклоняться от заданного курса — и ничего, что волны бьют в борт с пробоиной. И пошел танкер к островам Зеленого Мыса или куда там еще, унося с собою будущее нефтяное пятно прямиком к Гольфстриму. Но кого это трогало? Был приказ — гнать в шею и подальше. А там — гори все синим пламенем. Лишь бы не созывать кризисного кабинета. Лишь бы не пришлось ничего менять в Испании или, боже упаси, отменять охоту дона Мануэля Фраги[47].
И тут же подоспел второй фронт — информационный. Гнусные пираты! Плавучий мусор! Паскудные однокорпусные калоши! И дальше в том же роде, кто во что горазд. Наскребли по сусекам экспертов — этих прихлебателей, не вылезающих из теле- и радиоэфира, забили ими все программы, вплоть до гламурных ток-шоу, перекрыли всякий доступ информации, вступающей в противоречие с официальной версией. И ни слова о давно вроде бы принятых пакетах документов «Эрика 1» и «Эрика 2»[48] и о том, где же наше специально на этот случай приобретенное очистное оборудование, и о том, куда делись разработанные планы действий на случай загрязнения нефтепродуктами, или почему в Галисии, в зоне риска, ничего не было предусмотрено и заготовлено, кроме разве боновых заграждений, и те пришлось спешно подвозить из других мест. И, разумеется, поскольку это противоречило демагогической тактике текущего момента, ни слова не было сказано о том, что танкеры с двойной обшивкой — это прекрасно, превосходно. В будущем. На сегодняшний день это совершеннейшая утопия, большинству судов, перевозящих сырую нефть и продукты переработки, не меньше двадцати лет, и все они — однокорпусные, и в Испании, и во всем остальном мире. И почему никто не объяснил, что в Испанию морем доставляют триста миллионов тонн самой разной продукции, без которой не было бы ни света, ни воды, ни автомобилей, ни много чего еще? Вместо этого продолжают кричать о старых корытах и пиратах-перевозчиках. Естественно. В этой стране трусливых подонков, где всяк боится, как бы чего не вышло, идиоты добились только того, что теперь на любое судно, «Престиж» или нет, смотрят как на зачумленное. Как на нелегального иммигранта.
Да, кстати. Было бы хорошо и душеподъемно, если бы кто-нибудь из министерства развития, или кто там еще примкнул, объяснил бы, что испанские торговые суда, как и суда этих «русских пиратов» и этих «чертовых греков», которых так полощут в наших газетах, тоже по большей части ходят под «удобными флагами». И сюда можно было бы добавить, что «Престиж» — этот морской сброд, как мы его называем, ходил под флагом Багамских островов — под белым флагом. Что по международной шкале означает высокий уровень безопасности. И вот какая штука… у Испании-то флаг серый. Но это, конечно, другое дело. Это Испания.
2003
Пако-Мореход отдал концы
Умер Пако-Мореход, а меня не было при этом. Не смог приехать. Не смог проститься. И не знал, что он заболел. Я был далеко, в Италии, когда какое-то время назад позвонили и сообщили, что он плох. «Плохи его дела», — сказала тогда дочка. Рак. Дело это как вскрылось, так сейчас же и закрылось, и врачам оставалось лишь развести руками. Ничего не попишешь, Пако. И его положили в больницу в Картахене дожидаться. Лишь тогда я об этом узнал. Пако умирал, а я был в Милане и раньше чем через неделю вернуться бы не поспел. «Он не звонит и даже не вспомнил обо мне» — были его слова. И с этой уверенностью он и умер. Когда же я позвонил и смог поговорить с его женой, он лежал с кислородной маской и уже ничего не сознавал. И отчаливал в небытие, думая, что я забыл его. А я, узнав, позвонил его тезке — Пако Эскудеро с местного телевидения, уважаемому журналисту и брату моему с тех еще пор, когда мы вместе зубрили «Arma virumque cano»[49]. Мореход при смерти, сказал я ему. Безнадежен и не протянет до моего возвращения, однако я хочу, чтобы люди знали: он умер, как Господь велел. Как подобает хорошему человеку, моряку и живой легенде. Еще хочу, чтобы он знал, что его не забыли, не закопали как собаку. Что я помню о нем, что мы его вспоминаем. «Спокойно! — сказал мне всемогущий Пако с телевидения. — Спокойно! Я все устрою».
Канал «ТелеКартахена» не так давно прислал мне запись материала, прошедшего в выпуске новостей: там бронзоволицый, голубоглазый, седокудрый Пако-Мореход, слегка пополневший со времен моего отрочества, гуляет со мной в порту, пьет пиво в барах «Соль», «Обрера», «Валенсия» или стоит перед витриной «Гран-Бар» на Калье-Майор. Дело происходит сразу после выхода романа «Тайный меридиан», где повествуется о море и о моряках, а Пако, который там действует под именем Педро, всякий может узнать по речам, по молчаниям, по движениям. Ну, насчет молчаний я слегка загнул, потому что в последние годы Пако сделался словоохотливей, чем прежде и всегда. Оно и понятно, годы берут свое — сознаешь, что скоро предстоит укладываться в дальнюю дорогу, а ведь не хочется уносить с собой все, что держал в себе. Старик был одним из последних осколков минувшей эпохи, когда люди зарабатывали себе на жизнь в порту чем и как приходилось — ловчили и химичили, не брезговали и контрабандой, постоянно — за исключением дней и ночей, проводимых на качающейся палубе, — балансируя на внешней и весьма зыбкой грани нарушения закона. Он был не учен, но обладал глубокой мудростью этого средиземноморского мира: это его солнце и соль навсегда впечатались в бесчисленные морщинки вокруг глаз. Он знал, что такое море и что такое жизнь, которые, по его убеждению, друг друга стоят. Может быть, еще и потому стал он в последние годы разговорчивей, что хотел как-то избыть демонов, которых засадили ему в душу портовая администрация, городские власти, правовые нормы и общая их не скажу какая мать, совокупными усилиями заставившие его за бесценок продать баркас и, осев на суше, превратиться поневоле в пенсионера — двадцать четыре тысячи долбаных песет[50] в не менее гребаный месяц. Тут мне пришлось узнать моих соотечественников. Года два я лично предлагал дельным и разумным людям: давайте я сам куплю этот баркас, приведу его в порядок — стоить это должно было недорого, — с тем чтобы они приткнули его в надлежащее место, не дав пропасть этому скромному кусочку портовой истории Картахены. Однако им было глубочайшим образом наплевать, с баркасом обошлись точно так же, как с его хозяином, и пришвартованный у коммерческого причала «Мореход» — ибо именно так назывался на самом деле баркас «Карпанта», появляющийся в моем романе, — сгнил на солнцепеке. И больше я о нем ничего не знаю.
Поэтому в память о моем друге я пишу эти строки. В память моряка с бронзовой кожей и голубыми глазами, только что, казалось, сошедшего на берег с «Арго», моряка, называвшего меня «мальчуганом» и указывавшего мне путь в винно-чермном море. Человека, с которым я поднимал со дна римские амфоры, пролежавшие там две тысячи лет. Средиземноморского лиса, учившего меня ловить кальмаров на закате перед Подадерой и так же непринужденно — возить контрабандный виски и светлый табак. Моряка, который на Кладбище Безымянных Кораблей дал мне первую в жизни сигарету и сказал, что мужчины и корабли должны погибать в море, не дожидаясь, когда на суше их сдадут в утиль. И сегодня я пишу, чтобы заглушить горечь, гложущую меня оттого, что не был рядом, не помог ему отдать швартовы перед последним плаванием, не крикнул вслед удаляющемуся от причала катеру то, чего никогда не говорил прежде, — что он был мне настоящим другом — верным, отважным, немногословным, точно таким, о каком мечтает каждый мальчик над книгами о море и приключениях.
Нельсон: 206 лет однорукости
Перелистывая как-то раз Naval Chronicle, где излагается английская точка зрения на боевые действия 1793–1819 гг., я нашел описание боя при Тенерифе, о каковом уже упоминал тут мимоходом, ибо именно в том бою 25 июля лишился Нельсон своей знаменитой руки, и на следующей неделе этому знаменательному событию исполняется ровнешенько 206 лет. Говорил я уже как-то: от ура-патриотизма и шовинистического угара у меня начинаются корчи и колики, но это вовсе не значит, что я открещиваюсь от своей истории, не горжусь славными деяниями своей страны, не стыжусь позорных. Вот вам наглядный пример: я терпеть не могу футбол, но предпочитаю, чтобы победу одержала Испания, а не кто другой. Я уроженец Средиземноморья и моряк родом, и в памяти у меня крепко засело, что слово «англичанин» означает «враг»: это самые лучшие моряки, самые свирепые и надменные противники. Высокомерный Альбион взялся за дело, когда наши дела стали уже клониться к упадку, и весьма преуспел — безобразничал в Америке, у Сан-Висенте, под Трафальгаром. И прочая. Сейчас англичане — на подсосе у Буша (мы все занимаемся, впрочем, тем же самым, но не с достойным видом, а даже без видимости достоинства), однако же недаром сказано, что «никто пути пройденного назад не отберет», — что было, то было. И солдаты у них — отдадим им должное — до сих пор лучшие в мире. Я был с ними в Боснии, видел их в Заливе, так что отвечаю за свои слова. Им нравится воевать, и комплексов у них нет: они — англичане на все сто, hooligans, поставленные под ружье и осененные знаменем. Именно по этой причине в XVII веке оттяпали они у нас Махон и Гибралтар. Хотели также накрутить нам хвоста и при Тенерифе, но тут вышел им колоссальный облом, хотя Naval Chronicle об этом ни словечком не упоминает. Слово «разгром» стыдливо обходится. Что касается увечья Нельсона, то, похоже, он причинил его себе сам и для собственного удовольствия. Впрочем, об адмиральской ране умалчивает и Jane’s Naval History. Зато современные историки выдвигаются на авансцену с утверждением, будто Нельсон не потерпел ни единого поражения. Вот так вот: ни одного.
Ан нет. Есть документы той эпохи, все расставляющие по своим местам. И потому сегодня в честь проживающих в Испании британцев, со спортивным азартом читающих меня по воскресеньям, я решил освежить славную дату. Ибо именно 20 июля 1797 года будет ровно два столетия и шесть лет, как Нельсон объявился у Санта-Крус-де-Тенерифе с эскадрой в составе трех линейных кораблей, четырех фрегатов, куттера и бомбарды, а спустя двое суток высадил в Вальесеко тысячу молодцов под командой капитана Трубриджа. Речь-то шла всего-навсего о том, чтобы расчехвостить чумазых убогих испанцев, сгрузить в трюмы найденное золото и поднять над островом британский флаг. Все как всегда. Но на сей раз эти самые испанцы вставили такой фитиль десанту, что тот принужден был вернуться на корабли. 25 июля англичане предприняли попытку захватить причал в Санта-Крус, однако береговая артиллерия тоже не дремала, так что атакующим не показалось мало: испанцы потопили куттер «Фокс» и разметали шлюпки, на которых подвигались солдаты его величества. Когда же Нельсон все же вступил на причал и поднял руку с саблей, картечь отхватила ему и ту, и другую, и адмирала без памяти доставили на корабль. После того как последние 57 англичан на причале выкинули белый флаг, в городе оставалось еще 340 человек капитана Трубриджа, который оказался не робкого десятка — видите, я отдаю противнику должное — и потому еще пытался выполнить приказ. Но, как говорил его соотечественник, из ничего не выйдет ничего[51]. Засев за стенами монастыря, жители Тенерифе отбивались так упорно, что пришлось вступить в переговоры. Хитромудрые и двусмысленные, как спокон веку водится за англичанами (примерно такие они сейчас ведут по вступлению в зону евро), но все же переговоры. Чтобы облегчить их и унять кровопролитие, испанский губернатор дон Хуан Антонио Гутьерес согласился в акте о капитуляции не упоминать слово «сдача» — этим сейчас и пользуются британские брехуны, когда твердят, что ее и не было. Вслед за тем Трубридж и его белобрысое воинство, поджав хвост, удалились восвояси, оставив 44 убитых, 177 утонувших, 123 раненых и 5 пропавших без вести — и это не считая руки, посредством которой Нельсон имел обыкновение похлопывать леди Гамильтон по разным частям тела. Между прочим, недурной результат для четвертьфинала.
Огорчительно, конечно, что десять лет спустя Нельсона пристукнул француз. Однако процесс был начат, как ни крути, канарцами. Так что во вторник, 25 июля, я выпью стаканчик за здоровье Тенерифе.
Элит-экстрим
Мне кажется, это очень хорошо и правильно, когда человек занимается экстремальным спортом — всяким там парапутингом, наутишокингом, идиотингом и прочей хренью. Каждому, как известно, свое: есть среди нас и такие, которым мало острых ощущений, когда каждое утро пилишь по трассе, а двести мерзавцев на скорости в 180 км/час подрезают тебя справа и слева. О вкусах не, и так далее. Я уж как-то писал, что считаю в порядке вещей, когда кто-нибудь из желающих жить опасно устраивает себе мотокросс по Афганистану или в верховьях Амазонки бросается в водопад, привязав на шею камень в полтонны весом. Нормально! Но пусть тогда отважный спортсмен не жалуется в МИД, если какой-нибудь козопас, столь же увлекающийся, сколь и афганский, обидит его в Хайберском проходе или если пираньи отгрызут ему что-нибудь существенное. Ведь было же сразу сказано — спорт, мол, отважных. И все на этом. Каждый знает, во что играет. Я о другом — там ведь тоже есть разряды. Категории. Искатель приключений — не совсем то же самое, что элитный экстремал. А элитный экстремал — не тот, кто хочет, а тот, кто может.
Чтобы вы уяснили разницу, представим себе, что искатель приключений — средний, обычный испанец, любящий экстрим, — покупает в торговом центре пластиковую лохань, надевает на голову строительную каску и одалживает у дочки Джессики нарукавники, после чего сплавляется в этом тазу по стремнинам какой-нибудь астурийской реки, а на следующий день министр продовольствия в округлых выражениях заявляет, что астурийские реки — самые чистые, самые спокойные и самые безопасные реки в Европе. Что тут возразить? Да ничего: впрыск адреналина, спорт и прочее. На грани невозможного — это, братцы, о другом, о вещах менее рискованных. Кроме того, этот, который в тазу плывет, он ведь — вот он, рядом, рукой подать. Так каждый может. Любому под силу. Нужно лишь чуточку выдумки и капельку нахальства.
А вот экстремал элитный, сорвиголова крупного калибра и высшего разбора — это эксквизитный экземпляр. У него собственная специфика, и кто попало ее не воспроизведет. Уровень его свершений намного выше того среднего, на котором барахтаются экстремалы ординарные. Кровный чистопородный экстремал не станет размениваться на мелочи и пустяки и если уж соберется пересечь Атлантику, то не иначе как на борту 74-пушечного линкора, вручную построенного корабельщиками Хихоны и укомплектованного многорасовым экипажем — это и трогательно, и красиво, — куда непременно должен входить, скажем, сахарави, китаец, маори и кто-нибудь из Лепе (чтобы было понелепей). Если же он так ничего и не пересечет, потому что то перетрутся лианы, из коих изготовлены его снасти, то он обнаружит на борту бунт, поднятый китайцем, — так даже еще и лучше, можно будет пускаться в плавание раз десять — пятнадцать. Чем чаще, тем лучше. Тем больше шума в газетах, больше фотографий. Есть и другие развлечения — устроить, к примеру, слалом на гидроцикле между гренландских айсбергов в сопровождении всего лишь одного фрегата наших ВМС или, скажем, попарить на кевларовом огнеупорном параплане над Либерией — как бы в знак солидарности с несчастными чернокожими — и приземлиться в Порт-Порталс в толпу фоографов, причем по чистой случайности — в день открытия регаты, патронируемой туалетной водой «Азур де Хуанхо Пюигкорбе[52] № 5».
Однако истинный оселок, непременное условие, необходимая черта, по которой с первого взгляда узнаешь элит-экстремала, — аура, харизма, отпечаток, свидетельствующий о родстве (пусть самом дальнем или даже случайном) с европейскими венценосными семьями: то ли он кузен наследного принца Варсоньовы, то ли бывший жених подавшейся в хиппи дочки короля Бордюрии, то ли брат шурина короля Руритании. Маленькие подробности, позволяющие засветиться на страницах «глянца». Немало способствует популярности, если ты из хорошей семьи, да не просто хорошей, а из хорошей со средствами, и при этом имя твое — например, Боря Франсиско де лос Сантос, — которое у зауряд-экстремалов произносится без затей, как в паспорте, звучит так же, как повелось с беспечального детства в кругу семьи и друзей, хотя тебе уже натикало сорок годков: Кукито, Чоло или Тотин. Ибо в этом случае журнальчик «Ола!», посвящая четыре полосы твоему последнему подвигу, сможет вынести в заголовок такую вот примерно байду: «Тотин Фернандес дель Сируэло-Бордью, цвет экстремалов, заявляет: «Корпорация “Телевисьон Эспаньола”, авиакомпания “Иберия”, “Телефоника”, банки ВВVA, “Трансмедитерранеа”, “Репсоль”, “Ла Онсе и Ла Досе” профинансировали мой проект вовсе не потому, что я — зять короля Оттокара Сильдавийского».
Старина Джек Обри
«Мы на другом конце света, на обычном деревянном корабле, но корабль этот — частица нашей отчизны. И сегодня мы будем драться за нее». Нужны стальные яйца и полное отсутствие комплексов, а иными словами, надо быть британцем — ну, или в данном случае, австралийским режиссером Питером Уиром, — чтобы вставить эту фразу в картину, да еще в такие времена, да притом умудриться сделать так, чтобы звучало совершенно естественно. Или вроде того. Смотришь «Хозяин морей: На краю Земли», великолепную экранизацию морских романов Патрика О’Брайана о приключениях капитана Джека Обри и его друга доктора Мэтьюрина, и удовольствие от этой картины — лучшей, несомненно, после «Моби Дика» картины на морскую тему — соединяется с восхищением от того, как блистательно удается англосаксам (они же — «британские псы» и все их производные) лелеять и беречь свою историческую память, сохранять ее живой и свежей и воплощать в волнующее повествование, буквально хватающее тебя за горло.
Клянусь вам могилами предков, уже очень давно кинематограф не дарил мне такого полного счастья. Выражаясь безыскусней, я кайфовал как свинья в кукурузе. Если для обычной аудитории, для, так сказать, кинозрительской пехоты этот фильм был чудесной историей о морских приключениях, а для тех, кто принадлежит к братству (по)читателей О’Брайана, чей последний из двадцати романов, составляющих серию, сейчас выходит по-испански, так вот для нас, его поклонников, картина, где особенно хорош Рассел Кроу в роли капитана Обри, дорога не только превосходной психологической обрисовкой героев, но и безупречной точностью разных технических подробностей. И заметна она не только во впечатляющей веренице штормов и сражений, где картечь в щепки курочит обшивку и в дыму рушатся размочаленные мачты, но и — главным образом — тем, с какой доскональной точностью воспроизведен во всех деталях морской обиход: оружие, инструменты, такелаж, управление парусами, снасти, одежда, татуировки, шрамы и прочие подробности тяжкой и грязной жизни на борту. Не может не радовать, что для верной передачи морских терминов — а это всегда оказывается слабым местом в фильмах о море и моряках — к дубляжу был привлечен молодой каталонец Мигель Антон, переводчик последних романов О’Брайана и знаток морской терминологии конца XVIII века. Тут дело такое… Не годится мне это говорить, потому что Мигель — мой друг. Но истина дороже — этот сукин сын справился с задачей просто блестяще.
Кроме этой тщательной и бережной передачи деталей, особенное удовольствие любому читателю О’Брайана доставляют необыкновенной красоты кадры, на которых плывет и сражается еще один персонаж романа — 84-пушечный фрегат «Сюрприз», легендарный корабль, по праву занимающий в нашей благодарной памяти почетное место рядом с «Пекодом», «Испаньолой», «Патной» и другими своими литературными собратьями. Им галисиец Альберто Фортес — запомните это имя, влюбленные в море, — только что посвятил прекрасную и печальную книгу «Мемориал на борту».
Вслед за тем полезно будет узнать, что бюджет фильма составил сто сорок миллионов долларов и что британское Адмиралтейство оказывало всяческое содействие его создателям — от деталей корабельной архитектуры, артиллерийского и парусного вооружения, маневрирования до математических формул, позволивших рассчитать, к примеру, размер якоря. Ну и результат налицо. Сравнение напрашивается само. Можете себе представить? Можете себе представить, чтобы сценарий, содержащий фразу, с которой вышеподписавшийся начал эту колонку, оказался на столе у министра или политика? В нашей стране, где для кино необходимо не историческое событие, а лишь бы как-нибудь ненароком не обидеть ту или иную автономию, как бы не сказать что-либо раздражающее для той или иной персоны. Дуем, ребята, на воду, на молоке не обжегшись, а на всякий случай. Здесь ведь у нас и само слово «Испания» чуть ли не под запретом, ибо чревато конфликтами, а оттого и снимают у нас всякую дребедень типа «Кармен» или «Иоанны Безумной», которые отдельные кретины признали шедеврами отечественного кинематографа. К этому прибавьте еще всепожирающее кумовство и редкостное бесстыдство. Невозможно себе даже вообразить, что произойдет, если в Испании выделить сто сорок килотонн на производство кино. Двое из трех режиссеров сто двадцать прикарманят, а из остального слепят… ну, то примерно, из чего пули не выходят.
2004
Бей английских псов!
«Ты скурвился, Реверте! — заявил мне читатель из Сантандера. — Десять лет кряду ты гнобил на этой странице английских псов, исконных наших недругов, разносил на все корки, а теперь вдруг расхваливаешь “Хозяин морей: На краю Земли”. Кино, конечно, знатное, спору нет, но ведь это — гимн британскому флоту. Вероятно, от бесконечного чтения Патрика О’Брайана и задушевного общения с твоим кумом Хавьером Мариасом у тебя возник “стокгольмский синдром”. Сука ты, Реверте. Почему не вытащишь фигу из кармана, а из забвения — фигуру моего земляка Луиса Висенте де Веласко? Чего молчишь, а? Я тебя спрашиваю! Будь он англичанином, про него десять кино бы наснимали. Ни один из сынов надменного Альбиона в морских делах с ним и рядом не стоял. Но все понятно — он ведь испанец! Уроженец Сантандера де Нохи. И потому ни одна тварь не вспомнит о нем».
Ну, чего… Нечем крыть. Наш сантандерский читатель имеет резон. А потому, смывая с себя вину, а равно мимоходом и в целях недопущения того, чтобы будущие подданные нынешнего Принца У… э-э-э… шастого надувались спесью — им в этом году предстоят страшеннейшие песни-пляски по случаю 300-летия завоевания Гибралтара, — я и решил посвятить эту колонку капитану испанского флота Луису Висенте де Веласко. Которому, как ни крути, наш старый друг Джек Обри не дотягивается даже до нижней пуговицы брюк. И, по правде сказать, утешительно, что злосчастная наша История, битком набитая подлостями, низостями, бесчестьем, бездарностями, все же иногда выталкивает наверх таких людей, как дон Луис, — честных, умных и с яйцами в надлежащем месте. Что лишний раз доказывает, чем могла бы стать наша невезучая страна, случайся хоть изредка у хороших вассалов хороший сеньор.
Вчитайтесь в биографию этого человека. Пятнадцатилетний гардемарин, Веласко получил боевое крещение в попытке отбить Гибралтар, в штурме Орана и в многочисленных морских сражениях с берберийскими корсарами. В тридцать лет ему дали чин капитана 2-го ранга и тридцатипушечный фрегат под команду, на котором он и шел в 1742 году из Веракруса в Матансас, как вдруг наткнулся на два британских корабля — сорокапушечный фрегат и следовавший за ним в отдалении бриг. Не желая попасть (в буквальном смысле) между двух огней, Веласко принял решение разделаться с фрегатом раньше, чем подоспеет бриг. Он сблизился, завязал бой и после непродолжительной пальбы взял его на абордаж, спустил британский флаг, вернулся на свой корабль и устремился за бригом — тот ввиду такой панорамы жидко, что называется, это самое, — догнал его и привел в порт Гаваны два призовых корабля. И чтобы уж, как говорится, не расхолаживаться, четыре года спустя с двумя шебеками береговой охраны взял на абордаж еще один английский 36-пушечный парусник. Такой вот он был.
Однако имя Веласко осталось в анналах нашей истории (которую теперь, по новым образовательным программам, никто не учит) благодаря обороне гаванской крепости Морро в 1762 году, когда он, командуя «Рейной», получил приказ оборонять эту крепость от британского флота, насчитывавшего двести кораблей и четырнадцать тысяч человек. При обороне Морро, когда на каждую испанскую пушку приходилось шесть неприятельских, Веласко тридцать шесть дней не раздевался и почти не спал. А чтобы получить представление, на что все это было похоже, достаточно взглянуть на великолепное полотно, висящее в Мадридском морском музее, — крепость, окутанная клубами дыма, англичане отбиваются, «Кембридж», со снесенными мачтами превратившийся в понтон и лишившийся своего капитана, троих офицеров и половины команды, идет на буксире у «Мальборо», серьезно поврежденный «Дракон» уходит от греха подальше, а «Стирлинг» и вовсе удирает под огнем как крыса. В общем, правь, Британия, морями, ага, как бы не так.
Ну, а дальше все как всегда. Испания. Мы. Эта самая Гавана брошена на произвол судьбы. Английская мина разносит борт. Англичане бросаются на абордаж. Дон Луис Висенте отбивается со шпагой в руке. Гибнет. Морро уже пал, английский генерал обнимает умирающего и воздает должное его истинно испанским яйцам. А в своем письме в Лондон лорд Албемарл, описывая эту мясорубку, называет погибшего «самым отважным капитаном его католического величества». И это определение в устах высокомерной британской скотины да еще в те времена звучало ого-го до чего весомо. И вот еще одна подробность: вплоть до середины ХIХ века корабли королевского флота, проходя вдоль побережья Сантандеры и оказываясь на траверзе Нохи, приспускали флаги. Почему я не удивлен? Спросите в Англии любого школьника, кто такой Нельсон, — и он вам скажет. Что такое Трафальгар — of course! А попробуйте справиться у наших, у здешних, насчет Веласко. Вот то-то и оно.
Рыбный рынок
Рынок Сан-Хосе в Барселоне. Больше известный как Бокерия. Дяденька годков пятидесяти с гаком — то ли все его, то ли он на них тянет — и с наружностью вконец опустившегося нищего: рваные кроссовки, футболка с логотипом книжной ярмарки, имевшей место в те времена, когда царь Горох был еще наследником престола. Футболка-то и привлекла мое внимание, и потому я стал наблюдать за этим персонажем, двигаясь мимо лотков с фруктами, зеленью, пряностями, мясом и прочей снедью. Я люблю Бокерию и вообще рынки, а особенно — рынки средиземноморские, выжившие на берегах этого древнего и мудрого моря и умудрившиеся сделать так, что современность со всеми ее санитарными нормами, с асептикой и пластиком не сумела переменить их облик и нрав, так что даже облачась в чистоту и красоту, они остались прежними и продолжают поражать все твои пять чувств буйством красок, сложной мешаниной запахов, гомоном и гвалтом, голосами зазывающих, вопрошающих, торгующихся. Рынок доставляет мне такое же удовольствие, как Чарлтону Хестону — его винтовка: я прохожу, я смотрю, останавливаюсь порой, чтобы навострить ухо, я вспоминаю. Рынки в Барселоне, Неаполе, Танжере, Стамбуле, Бейруте, Кадисе, Мелилье походят друг на друга как ничто другое на всем белом свете. Это ведь тоже — явление культуры. А под культурой я разумею совсем не то, о чем принято нынче разглагольствовать: гастрономия как феномен культуры… футбол как феномен культуры… мобильный телефон — опять же как феномен культуры. Да хрена вам с два, а не феномен. Сейчас все принято именовать культурой: я своими ушами слышал, как один придурочный политик распинался о «культуре насилия»… Так вот, я говорю о культуре истинной. Это история и ее толкование, это память и настоящее. Это следы того, чем мы были, это ключи к тому, что мы есть.
Ну ладно, я отвлекся. Итак, мы на Бокерии. И движемся следом за посетителем явно нищенского вида: он тащится вдоль рядов, здоровается с продавцами. Глядя, как он волочит ноги, я думаю, что это один из тех, кто вечно ошивается на рынке, подрабатывает грузчиком или рассыльным. Итак, он здоровается со всеми, но ответ получает не всегда. И вот он — а я следом — доходит до рыбных рядов. И направляется было к заднему выходу, но тут одна из торговок его окликает. Он оборачивается, медленно приближается к прилавку, за которым высится могутная бабища в переднике — классическая, каноническая, типическая рыбная торговка. Она берет рыбину, заворачивает ее в бумагу и молча, едва ли не торопливо сует нищему, или кто он там. А тот, расплывшись в беззубой улыбке, принимает дар, чмокает губами в непосредственной близости от свертка, обозначая поцелуй. И удаляется.
А я остаюсь, рассматривая торговку, которая, ни на кого не обращая внимания, занимается своими делами, ворошит груды колотого льда под креветками и покрасивее раскладывает ломти рыбы-меч. Я изумлен. Женщина, разумеется, не может знать, что сию минуту в точности повторила то, что я наблюдал больше сорока лет назад на картахенской улице Хисберт, когда однажды утром сопровождал туда бабушку за покупками — в рынок, как говорят на юге: толстая торговка, совершенно такая же, как эта, в таком же фартуке, с такими же красными натруженными руками протянула завернутую в газету крупную рыбину какому-то убогому и оборванному бедолаге, зарабатывавшему себе на пропитание тем, что подтаскивал корзины и сметал с пола остатки овощей и зелени. Мне — тогда ребенку — это показалось верхом человеческого сострадания, и именно так я вспоминаю ее поступок до сей поры. И вот спустя почти полвека здесь, в Барселоне, на рынке Бокерия, я вижу, как та же торговка совершает то же доброе дело по отношению к такому же обездоленному. И это, как бы ни сложилась жизнь и сколько бы всякого-разного ты в ней ни повидал, примиряет тебя с очень многим. Ибо есть еще на свете люди, способные отдаться безотчетному порыву милосердия — не ожидая за это ни рукоплесканий, ни голосов избирателей, ни апостольских благословений, да и вообще ничего не ожидая. Так просто. За «спасибо».
Ну, короче. Когда я прохожу мимо прилавка, женщина, почувствовав мой взгляд, поднимает на меня глаза и смотрит с подозрением. Дескать, что этому олуху надо от меня, словно говорит она, видя мою идиотскую улыбку. А того не знает, как мне хочется подойти, перегнуться через прилавок с камбалами и султанками и запечатлеть на ее челе горячий поцелуй. Чмокнуть ее в румяные уста. За то, что по прошествии стольких лет она — есть. Продолжает быть.
Попутного ветра
Несколько дней назад натянул деревянный бушлат Алехандро Патернайн. Вы, ребята, в большинстве своем не знаете, что за фрукт он был, но кое-кто — и к их скудному числу я отношу и себя — от души благодарны ему за чудесные страницы, пахнущие морской солью и порохом, за ночные вахты под звездным небом, за шум ветра в парусах там, где и вправду начинается единственная истинная свобода, доступная человеку, — в пятидесяти или ста милях от берега. Как вы уже, наверно, догадались, Алехандро Патернайн был писателем. Точнее, романистом. Мы тыщу лет были с ним знакомы, и я свидетельствую, что его оскорбляли сравнения с теми живыми или мертвыми беллетристами — как истый уругваец, он произносил «беджетристы», — которые заполняют свои увражи впечатлениями от созерцания собственного пупа («пупа» — это еще в лучшем случае). Алехандро Патернайн принадлежал не к этим, а к тем — к когорте Стивенсона, Конрада, Мелвилла, О’Брайана. Ну, вы поняли. Он рассказывал истории о приключениях, почти всегда происходящих на море, причем рассказывал с намеренной сдержанностью, усиливающей воздействие. Я почтительно называл его «профессор», и он с учтиво-благожелательной улыбкой откликался на такое обращение. Алехандро Патернайн был высок ростом и отличался несколько старомодной элегантностью облика и манер. Истинный кабальеро.
Познакомились мы при своеобразных обстоятельствах. Однажды в Монтевидео я — занимавшийся в ту пору поисками моряков с «Графа Шпее» — обнаружил в книжном магазине роман «Охота». Мне понравилось название, мне понравились те несколько страниц, что я проглядел по диагонали, и потому я унес книгу в отель и буквально проглотил ее часа за три. Не переставая восторгаться. На следующий день взялся за телефон, разузнал в издательстве то, что мне было нужно, и позвонил Алехандро Патернайну. Послушайте, сказал я ему. Не имею чести знать вас, но от вашего романа я, извините, просто в отпаде. Сейчас так уже никто не пишет, и мне бы ужасно хотелось, чтобы вы мне его подписали. Он сказал мне спасибо на добром слове, мы еще немного поговорили о том о сем и решили, что нам пора познакомиться лично и очно. Ко времени моего следующего приезда в Уругвай я прочел еще две его книги и позвонил снова. Подтвердил первое впечатление. Большой мастер. Разумеется, мы увиделись. Этот отставной профессор литературы оказался в высшей степени начитанным, скромным и крайне симпатичным человеком. Мы много говорили о кораблях, о кораблекрушениях, о книгах, о странствиях. Подружились. Спустя какое-то время, когда в Испании издали «Охоту», Патернайн, который был счастлив тем, что далекая историческая родина увенчала лавром его седины, приехал в Мадрид на презентацию. Мы снова встретились и, уподобившись подросткам, меняющимся своими мальчишескими сокровищами, долго перебирали названия кораблей и книг, ветров, широт и долгот. Он не принадлежал ни к одной разновидности литературных мафий, не водил знакомства с теми издателями, которые печатают исключительно шедевры, судьбоносные для всей западной цивилизации, и не сочинял романов о том, что невозможно написать роман. А потому в большинстве значимых и заметных литературных приложений те же самые рецензенты, что сикали кипятком от любых мелкотравчатых и убогих банальностей, предпочли полностью проигнорировать «Охоту» и ее автора, почтя их громоподобным молчанием. Ни слова, ни строчки. Ничего. Несмотря на это, стоустая молва сделала свое дело — роман очень хорошо продавался. И что еще важнее — он пользовался одинаковым успехом и у начинающих читателей, и у искушенных знатоков, посвященных во все тонкости маринистики.
Сейчас Алехандро отдал концы. Рассказывали, что после смерти жены он очень изменился. Почти не писал. Утратил интерес и вкус ко всему на свете. О его кончине я узнал — вот они, прихоти судьбы, — когда был недалеко от Монтевидео, на другом берегу Рио-де-ла-Плата — в Буэнос-Айресе. Узнал и выпил за упокой его души пинту рома. За тебя, профессор. За твою светлую память, за твои чудесные книги. А эти строки предполагал выстучать по возвращении в Испанию, где о его смерти появились лишь невразумительные упоминания. Я намеревался воздать должное уругвайскому писателю, одному из последних классиков жанра — морской приключенческой литературы. Поблагодарить его за страницы, давшие мне счастье прожить великолепные минуты под свист ветра в снастях, ощущая солоноватый вкус моря и привкус опасности. По Алехандро звонит сегодня колокол на бессмертной шхуне «Интрепида», покуда сам он отдыхает в кругу всех тех корсаров и пиратов, что бороздили моря в поисках славы или богатства.
Дело Мангоураса живет
Есть на свете такое, чего я понять не могу, хотя, может быть, всего лишь плохо осведомлен. Наши соседи-французы арестовали целую кучу судов, гадивших у их берегов. Я имею в виду не выбросы в портах, производимые, что называется, по-черному, а опорожнение танков, льял и тому подобного в открытом море. По статистике, годовая сумма ущерба от этого порой равняется ущербу от нефтяной пленки на воде. И вот под этим, извините, соусом лягушатники взяли за… скажем, корму десяток судов, предварительно установив с помощью спутников или аэрофотосъемок, что суда эти загрязняют акваторию. И не только тех, кто занимался этим в 20–30-мильной зоне. Мальтийский сухогруз «Новая Голландия» застукали за этим некрасивым занятием в 70 милях западнее мыса Ра, а кипрский «Пантократорас» — когда он проходил мимо бретонской Финистерре, причем — спустя два месяца после того, как опорожнился в 120 милях к юго-западу от Пенмарша. То есть я хочу сказать, что наши соседи сверху относятся к таким вещам со всей серьезностью. У них там кто нагадил, тот и убирает, то есть платит.
А вот у нас в Испании получается одно из двух — либо единственным, кто загрязнял окружающую среду, был «Престиж», либо в счет ему вписали (для удобства расчетов и чтобы жизнь себе не усложнять) все безобразия, какие только имели место в истории мореплавания. Так что — не надо! От начала времен нет ни имен, ни ответственных. Подумаешь — тут лужица, там кучка… Сущие пустяки — и не только сущие, но и… сами понимаете, что еще делающие. А в крайнем случае отыграются на котятах, вернее — на ягнятах, которыми был загружен трюм того несчастного судна, что целый год гнило в галисийском порту. У нас ведь как: на бумаге все — строже некуда, и если кого-нибудь наконец заловят, то уж накормят досыта, до отвала, натолкут до миндалин или, как иные выражаются, — по самые гланды. Спросите капитана Апостолоса Мангоураса: его, бедолагу, так мытарили и за него самого, и за его министра — хорошо еще, что вообще не расстреляли. А может быть, дело обстоит иначе, и суда-злоумышленники гнобить-то гнобят, но — без огласки. Может быть, может быть, совершенно не исключено, хотя, сдается мне, еще вероятней, что здесь, у нас, никого не ловят на месте преступления, штрафным санкциям не подвергают и не арестовывают. Тайны морей — испанских и соленых. Скорей всего, так. Особенно если учесть, что не только у французишек, а и у нас имеются спутники, и, полагаю, самолеты, ведущие наблюдение над морем, и даже Армада, сиречь боевые корабли, которым, между прочим, положено всем этим ведать. Уж простите, что применил не вполне социал-корректное слово «боевые», но как еще, скажите, назвать корабли с пушками, сколь бы гуманитарно-эНКОистичны ни сделались наши сухопутные, морские и воздушные силы? Я бы ничуть не удивился, узнав, что наш министр обороны Боно всерьез рассматривает вопрос переименования испанских ВМС в «Миноносцы без границ».
Впрочем, я рассказывал о загрязнении и о том, что время от времени у нашего побережья происходят новые и новые выбросы. Всего месяц назад, к примеру, полтысячи птиц, попавших в мазут, заполнили центры спасения фауны в Галисии. Кто виноват? Тайна. Иные даже снова прячутся за широкую спину «Престижа». Итак, подвожу итог: продолжаются незаконные сбросы, однако никто не спешит установить и найти ответственных. Да я сам недавно, когда плыл на рассвете в тридцати милях от берега, дал оповещение по радио, что пересекаю нефтяное пятно звездообразной формы шириной в милю, оставленное «купцом», которого я идентифицировал по названию, порту приписки и флагу. И что? Да ни… чего! Ни один борт, ни один орган, ведомство или учреждение даже не пискнули в ответ. Наблюдалось строжайшее радиомолчание в паре с административной глухотой. Будто не слышали. И дело даже не в отсутствии нужных рычагов или полномочий, что, кстати, тоже имеет место. Ни в одной другой европейской стране нет такой раздробленности учреждений и ведомств, сфер интересов и зон ответственности, как в нашей богоспасаемой отчизне: у нас каждый пес себе под хвостом лижет, и ничего никого не… э-э… зовет. Договориться не могут даже о том, кому платить за горючее для патрульных самолетов. И катастрофы ничему нас не учат: если не считать законодательных инициатив и дикого оживления бюрократического документооборота, за пятьсот с лишним дней, прошедших после драмы с «Престижем», ничего не изменилось. Ну, или почти ничего. Пусть галисийцы с ужасом ждут, что как-нибудь рано утром появится у их берегов еще один терпящий бедствие танкер, прося разрешения на заход в порт, — это не наша печаль. У нас, если что пошло наперекосяк, виновного не отыщешь. Каждый начинает посвистывать и смотреть в другую сторону, божась, что он тут ни при чем, что случился тут ненароком — так, погулять вышел — или что его заставили и обязали. Посему такие министры транспорта, как Альварес Каскос, могут как ни в чем не бывало подавать в отставку, не опасаясь потерять лицо, тем более что никто им его, выражаясь культурно, не начистит.
Пепе и Маноло в Форментере
Ну вот. Я прибыл на рассвете и бросаю якорь напротив Трокадос, в Форментере, на пятиметровой примерно глубине. Пытаюсь отойти после долгой ночи, проведенной перед экраном радара или с биноклем у глаз, после того как лавировал, уклоняясь от встречи с торговыми судами, которые никогда не посторонятся, хотя ты идешь под парусом, а им, козлам, сверху отлично виден красный огонь у тебя на левом борту. В общем, короче, валюсь на койку у себя в каюте и засыпаю сном если не праведника и не младенца, то — усталого моряка, убравшего наконец-то паруса и бросившего якорь там, где хотелось, и храплю вполне по-адмиральски, несмотря на солнечные лучи, проникающие из-за шторок иллюминатора, и благодаря тому, что ни один кретин не шастает вокруг на гидроцикле. Следует еще добавить — как бы на сладкое, — что я две недели не читал газет, не слушал радио, не имею ни малейшего представления о том, что творится в стране и в мире и даже не знаю, предоставили ли баскам немедленную автономию или решили погодить. Не знаю, знать не хочу и не грущу по этому поводу. Итак, я пребываю во сне и в относительном блаженстве, и мне снится, что некая сирена укладывается рядом со мной и будит меня так нежно и умело, как дано одним лишь настоящим сиренам, небесами предназначенным для таких будительных операций, и тут вдруг переборки содрогаются от жутчайшего грохота. Пумба-пумба — доносится снаружи: примерно как когда идешь по улице, а мимо пролетает какой-нибудь придурок, гремя включенной на полную мощность музыкой из опущенных окошек.
Встаю, понося весь род людской. Поднимаюсь на палубу и вижу рядом другой кораблик. Береговая полоса тянется на много миль, места вроде бы хватает всем, но нет — вновь прибывшему почему-то непременно надо было притереться вплотную к моему правому борту. Это моторная яхтенка метров 9–10 длиной, довольно замызганная, а под гремящую из динамиков, как я уже докладывал, музыку на носу отплясывают три юные дамы в трусиках-танго и с сиськами наперевес. Одна беленькая и две черненькие, если точнее. А если еще точнее, то определение «дамы», может быть, и не вполне к ним применимо, поскольку от всех трех так и шибает известного рода спецификой. Поблизости Ибица, время — начало августа, и этим все сказано.
Однако дело не в гостьях: самая, как теперь выражаются, мякотка — в хозяевах. Владелец яхты стоит на шканцах, у штурвала. Лет пятидесяти, смуглый, черноволос(ат)ый и пузатый, златая цепь на шее той. Двое других принадлежат к тому же классическому иберийскому типу: в руке у каждого — пивная банка, из купальных трусов вываливается не менее пивное брюхо. Облик и ухватки типичного испанца зрелых лет, мужчины в полном соку, что называется, позволившего себе расслабиться. Типичный такой Маноло, сказавший своей благоверной: «Вот что, Маруха, мы тут с мужиками, с Пепе и Мариано, смотаемся денька на три, половим тунца в открытом море, отдохнем малость, а на обратном пути прихвачу тебя с детьми, свезу на пляж». Такую речь воображаю я себе, наблюдая, как троица, то и дело прихлебывая пива, дискокетничает наперебой с девицами, которые танцуют сами по себе и не обращают на кавалеров особого внимания. В этот миг, будто прочитав мои мысли, один принимается тереться передом об партнершину корму и кричит капитану: «Давай сюда, Маноло!» Вот ей-богу — Маноло! Я угадал. Меж тем, натужно повиливая в ритме диско, подваливает Маноло, ухватывает блондинку и с нею вместе прыгает в воду, а там сдирает с нее танги и в качестве трофея крутит ими над головой, а потом на голову же себе и надевает, а приятели одобрительно и ободрительно вопят ему с борта, а один достает фотоаппарат и щелкает его — барахтающегося с девкой на руках, с трусиками на загривке, лыбящегося во всю свою щекастую физиономию и наверняка предвкушающего, как иззавидуются коллеги, когда в сентябре он покажет им фотку. Потом в каком-нибудь ящике она непременно попадется на глаза супруге, а уж та, в зависимости от уровня его достатка, либо вчинит ему иск, либо измытарит вдрызг.
А самое замечательное, что когда Маноло выбирается из воды и — зреющей на ветке сливой — подставляет, обсыхая, нагие телеса солнечным лучам, покуда бесштанная блондинка присоединяется к подружкам и вновь начинает приплясывать, а товарищи с пивом в руках окружают его и с хохотом благодарят за доставленное удовольствие — давно так не ржали, спасибо, мол, повеселил, — я слышу, что второго зовут Пепе… Ушам своим не верю! Пепе! Вот вам крест — его зовут Пепе! Мало того — и третьего тоже: оба Пепе. И я говорю себе: невероятно, не может такого быть, слишком уж это хрестоматийная классика. Пепе и Маноло. Испания жива в веках, Испания не сдается! Тут меня — не поверите! — охватывает странная, извращенная нежность. И, в ужасе от себя самого, я улыбаюсь.
2005
Чокнутая негритянка
Прямо как в театре. В любом порту найдутся зеваки, вгоняющие тебя в пот. Я сижу в Аликанте, на террасе и на солнышке, наблюдая, как швартуются суда. День погожий, и все столики заняты мамашами с детьми, влюбленными парочками, супружескими парами и прочими. Официанты с ног сбиваются. И тут появляется она. Негритянка. Как принято ныне выражаться — чернокожая африканка. Все мы, здешние посетители, — белые (совсем или почти), а она, как я уже сообщил, — нет. Небелая. До такой степени не белая, что отливает синевой. Крупная, дородная, всклокоченная, весьма неряшливо одетая и с корзиной на руке. Ну и вот, говорю, она идет по террасе между столиками и просит милостыню. Почти никто не подает. Или вообще никто. И тут она разевает хайло. Как же вы мне все… — и так далее. Видала я вас всех… — и добавляет где и в чем именно. Вот вы у меня где… — и сообщает где. Мрази. Суки. Козлы. Расисты. Произносится все на безупречном испанском со столичным, вальядолидским выговором. Говорит правильней, чем я и большая часть посетителей. Тетка явно живет у нас давно или вообще здесь родилась. Знакома с классикой жанра.
И вот вам крест, самое интересное — следить за поведением почтеннейшей публики. Те, кто подальше, смотрят и слушают разиня рот, в полнейшем замешательстве, но те, кто поближе, прячут глаза, чтобы невзначай не встретиться с ней взглядами. Устремляют их в неведомую даль. А негритянка продолжает выкладывать наболевшее. Банда уродов. Свора придурков. Сукины дети. Вот где вы все у меня. Или она пришла сюда уже совсем тепленькой, размышляю я, или сбежала из дурдома. Явно с приветом. Наконец какой-то паренек, сидящий со своей девушкой, взглядывает на негритянку и говорит: «Потише нельзя ли?» Та благим матом отвечает, что она и так тиха и пусть притихнет эта погань на террасе. Белая мразь. Расисты. В этом пункте дискурса я говорю себе, что если бы человек, покрывший всех столь забористо, был белым мужчиной или пусть даже белой женщиной, он (она) давно бы уже схлопотал или, иначе выражаясь, — огреб. Как пить, что называется, дать. Но эта крикунья — чернокожая женщина. Занавес. Покажите мне того сорвиголову, который решится сказать, что у нее, мол, темные глаза.
Тем временем, видя, что бабенка не унимается, официант вспоминает о своих должностных обязанностях. Сеньора, прошу вас… Чего? Просишь?!! — вопрошает та, прибавив громкости. Мамашу свою попроси, болван!!! Пошел ты с просьбами своими. Официант озирается, смотрит на свою собеседницу, потом на нас на всех. Потом, сделавшись цвета спелого томата, исчезает из виду. А тетеха продолжает свое. Вас всех так, так, так и потом еще перетак и мамашу вашу заодно тоже и туда же. Вскоре на горизонте возникает официант в сопровождении блюстителя порядка и общественной безопасности — это классический тип с обликом Рембо, при дубинке, рации и прочих причиндалах. Девяносто килограммов полицейского рвения, сдобренного толикой такого еще не выветрившегося деревенского благодушия, что молоко в кофе сворачивается. К этому времени аудитория уже расширилась за счет прохожих на улице, остановившихся поглазеть.
Проходим, сеньора, очень вежливо говорит полицейский. Вы нарушаете. Негритянка, уперев руки в боки, пепелит его взглядом. А если не пройду? Чего ты со мной сделаешь? Дубинкой своей треснешь? Дубинкой, говорю, расист недоделанный? Засунь себе свою дубинку знаешь куда? Страж порядка оглядывает нас так же, как до этого — официант. Кажется, что слышно, как ворочаются мысли в его несчастной голове: эта шоколадка сама кого хочешь съест. Сеньора, в последний раз… Сеньора посылает его по известному адресу, предлагая заняться совершенно иным делом, причем в пассивной роли. Рембо, сглотнув, берется за дубинку у пояса. Снова оглядывает почтеннейшую публику. Снова сглатывает. То, о чем он размышляет, предстает так ясно и явно, словно он это спел, как в мюзикле. Что за напа-а-асть… Она меня сожрет. О, жалкий жребий мой… У нас в Испании, если по вине полицейского с головы чернокожего хоть волосок упадет, да еще в присутствии двухсот свидетелей, он — не волосок, а полицейский — как минимум угодит в выпуск новостей. И бедняга делает то единственное, что может: обходит скандалистку и удаляется, бубня в микрофон рации: я ноль-четвертый, прием, с очень таким профессионально сосредоточенным видом, словно просит выслать подкрепление. И переговор этот свой изображает добрых четверть часа, до тех пор, пока виновница происшествия, которой надоедает буянить в кафе, не удаляется на причал плевать в корабли.
Воздавая честь кораблям
Несколько лет назад по поводу попытки поднять «Титаник» и туристически-коммерческой свистопляски, устроенной вокруг этой затеи, я написал статейку и озаглавил ее «Чести себе не снискав». Там я вспоминал мнение Джозефа Конрада, который, прежде чем стать писателем, был моряком: он сравнивал эту катастрофу с гибелью другого судна, «Доуро». Первый, унося с собой полторы тысячи несчастных, тонул медленно, а капитан и экипаж демонстрировали вопиющий непрофессионализм, второй же ушел на дно почти мгновенно, а команда в полном составе — от капитана до кока (не считая третьего помощника капитана, руководившего рассадкой в шлюпки, и матросов, которые должны были этими шлюпками управлять) — погибла, но спасла всех пассажиров за исключением одной женщины, отказавшейся садиться в шлюпку. Потому что, делает вывод Конрад, «Доуро» — это настоящий пароход, а не плавучий пятизвездочный отель с четырьмя сотнями бедолаг-официантов, не готовых к тем опасностям, которые, что бы там ни говорили инженеры (Конрад написал это в 1912 году), всегда таит в себе морская стихия.
Все это припомнилось мне в связи с «Гран-Вуаяжером», несколько недель назад потерявшим ход и оказавшимся с 474 пассажирами на борту посреди Средиземного моря, под ударами шквальных ветров и пятнадцатиметровых волн. Пассажиры, которые через сорок кошмарных часов дикой качки, выворачивавшей нутро наизнанку, ступили наконец на твердую землю, устроили грандиозный скандал. И с полным на то основанием, хотя, согласимся, снаряжаясь в круиз, надобно знать, что в программе — не только посещение греческих островов, но и вероятность сильно промокнуть. Такое случается и в Средиземном море, которое Пако-Мореход, земля ему пухом, называл «шалавой, прикинувшейся паинькой»: и эту на первый взгляд тихую туристическую заводь — в сущности, почти бассейн — порою сотрясают чудовищные шторма. Любой из тех — из нас, — кто в Рождество 1970 года стоял на мостике танкера «Пуэртольяно», попавшего у мыса Бон в страшнейший шторм, и смотрел на каменное лицо капитана дона Даниэля Рейны, как на лик Божий, вам это подтвердит.
История же с «Гран-Вуаяжером» показывает со всей наглядностью, как мало изменился мир за те девяносто три года, что отделяют нас от едкого замечания Конрада по поводу плавучих отелей. Да, разумеется, технологии не стоят на месте и обеспечивают большую безопасность — по крайней мере, в принципе, — однако сама концепция круизного лайнера плохо согласуется с реальностью — с той враждебной человеку средой, какой остается море. Конечно, все это дело случая: может, и пронесет. Но уж если не пронесет, то — сами понимаете. И тогда эти исполины продемонстрируют, что не имеют ничего общего ни с надежностью хорошего судна, ни с морским характером, необходимым для тех, кто эти суда водит.
Одна из немногих мер, которые можно одобрить при разборе происшествия с «Вуаяжером», — то, что пассажиров поместили в коридоры, защитив от внезапного крена. Все прочее выглядит полной чепухой: и выход из Туниса при неблагоприятных, что называется, погодных условиях, и настойчивое желание плыть при сильном встречном волнении, кончившемся тем, что волны захлестнули мостик, разбили стекла палубной надстройки и залили приборы, оставив таким образом судно с его исполинской надводной частью в открытом море неуправляемым и неисправным. Самое же скверное, на мой взгляд, не то, что круизный теплоход оказался столь уязвим для непогоды, и что от короткого замыкания на мостике невозможно стало вести судно, и что предметы и мебель на борту, включая автоматы по продаже всякой всячины, не были закреплены должным образом и перемещались, создавая «угрозу жизни и здоровью пассажиров». Нет, хуже всего тут совершенно очевидные мотивы и резоны капитана. Я убежден, что он вышел из Туниса вопреки неблагоприятному метеопрогнозу потому лишь, что при нынешнем положении дел капитан корабля — не более чем служащий фирмы, не имеющий права голоса, управляющий плавучим отелем, водитель рейсового автобуса, обязанный, если не хочет лишиться работы, сегодня быть в Тунисе, завтра в Барселоне, послезавтра — в Генуе. А об экипаже я вообще молчу. Не знаю точного соотношения, но буду очень удивлен, если выяснится, что из 313 членов команды — всех этих официантов, поваров, уборщиков, аниматоров, стюардов и горничных, музыкантов и прочих — наберется хотя бы два десятка обученных и грамотных моряков. Подвожу итог. «Гран-Вуаяжеру» повезло больше, чем «Титанику». И слава богу. Но чести он себе не снискал.
Бетон, солнце и сброд
Господи помилуй. Отели, муниципалитеты, соответствующие министерства и ведомства озабочены тем, что массовый пляжный туризм хиреет на глазах. Поскольку предложение намного опережает спрос, только что одобрено многомиллионное вливание для спасения отрасли, покуда ищутся новые рынки в Китае и в Индии, ибо, судя по всему, только туристы из этих стран почти не почтили своим присутствием наше побережье. Еще раз, для тупых: хиреет бизнес! Вопреки нашим самоотверженным усилиям мы, испанцы, не сумели удержать лидерство в сфере массового туризма. Эта самая масса, не будь дура, переменчива как вешний ветерок, подвижна как флюгер и отыскивает места еще дешевле, в чем ей большую помощь оказывает самый бросовый сегмент турбизнеса, который с прирожденной смекалкой жнет там, где не сеял. Однако и у него дела идут неважно, так что вся наша туриндустрия, кажется, мало-помалу катится к известной матери, потому что и те, кто все же посещает Испанию, оставляют здесь гораздо меньше денег, чем это было восемь-десять лет назад. И массовый наплыв обеспеченных туристов по-прежнему происходит благодаря русской мафии, албанцам-косоварам и тому подобному контингенту. Однако даже и в Восточной Европе не наскрести такого количества гангстеров, чтобы заполнить все пространство пляжей и коттеджи-дуплексы.
Дело подвигается очень вяло. После того как расщеперили средиземноморское побережье и превратили его в бетонный кошмар — попутно озолотив многих спекулянтов, многих бессовестных проходимцев и многие городские советы, — после того как понастроили протянувшиеся на много миль инфраструктуру и отели, обходящиеся практически бесплатно туристам с несколькими евроцентами в кармане, после того как модернизировали все во имя того, чтобы пресловутая туристическая масса — скромная до убожества, привыкшая довольствоваться бутылкой воды и гамбургером, — освоилась, прижилась и потянула за собой родственников и друзей со знакомыми наслаждаться прекрасным и дешевым летним отдыхом, — так вот, после всего этого оказалось, что самый бюджетненький, как теперь принято говорить, вариант туризма, на который возлагались в масштабе всей страны такие колоссальные экономические надежды, испытывает сильнейшую конкуренцию со стороны других курортов, предлагающих то же убожество за еще более смехотворные деньги. Кто бы мог подумать.
А туристы — твари неблагодарные, спиногрызы бессовестные. И ради них, стенают теперь муниципальные чиновники, предприниматели, девелоперы и турагентства, мы принесли такие жертвы, понастроили столько новых объектов и целых кварталов, которые отсасывают свет из одной и той же подстанции, пьют воду из одного и того же распределителя и гадят в один и тот же коллектор совсем рядом с пляжем. И ради них мы загубили экологию, испоганили пейзаж, потеряли целебные свойства здешних мест и собственный стыд. Так отблагодарили нас эти голодранцы за то, что мы демократизировали туризм в прибрежной полосе, за то, что Испания не знает себе равных в отпускном раю по низким ценам. За то, что, отринув комплексы, превратили каждый ресторан в забегаловку, где подают сангрию и чудовищного качества паэлью, каждый магазин — в лавчонку, где можно купить воду в бутылках и какой-нибудь сэндвич, каждого местного жителя — в официанта или лоточника, готового торговать любой дрянью, а каждую мелкую муниципальную сошку — в советника по делам туризма, имеющего велосипед, шлем и короткие штаны. Так благодарят нас за усилия по внедрению культуры в виде праздников пены, дефиле моделей-топлесс, гремящей на улицах до рассвета пумба-пумбы. Так отплачивают за любезное разрешение появляться в общественных местах голым до пояса, в трусах и пляжных шлепанцах, а также за возможность, перепив пива, совершенно безнаказанно мочиться или блевать на любом углу. Так воздают нам за то, что вслед за тучными коровами Андалусии и Леванта, где дуплексов не понастроено разве что у них на рогах, коровы тощие пошли пастись на мысе Гата и побережье Мурсии от Агиласа до Палоса, где архитекторы и политики пальчики облизывают на загребущих своих ручонках, потому что федеральное правительство настойчиво и упорно стремится замедлить и либерализовать процесс, а защищаемых природных пространств с каждым днем все меньше, и все, разумеется, возлагается на алтарь децентрализованной Испании, общего блага и прогресса.
И что же? В благодарность за все эти бескорыстные усилия голодранцы взвалили на спину свои рюкзачки и отправились — и вовсе за сущие гроши — на Карибы или в Хорватию. Вот такую подлянку кинули. Еще слава богу, что у нас в рукаве запрятан был неубиваемый козырь, — которым мы привлечем элиту, настоящих миллионеров. Я имею в виду сто шестьдесят площадок для гольфа, открытых за последние пять лет, и еще полторы сотни ожидающих своей очереди, а очередь придет, и это так же точно, как то, что я внучок своей покойной бабушки. Благо воды у нас теперь вдосталь.
Трафальгар, сангрия и хамон
Господи помилуй. Как-то летом, приняв два стакана сангрии, один английский историк защелкал… нет, не тем, о чем вы подумали, а соловьем, совершенно не понимая, как нелепо и смешно это выглядит. Я имею в виду мистера Кеймена, дона Генри, который счел, видно, что проживание в Каталонии, где некоторые рукоплещут его перлам, покуда он осваивает гранты на лекциях и курсах, автоматически превращает его в арбитра испанских дел. И вот, пересказав сначала испанскую историю на свой манер, он принимается критиковать то, как трактуют ее другие, и сожалеет, что в Испании (за исключением Каталонии, где он, повторяю, живет и в ус не дует) нет историков такого калибра, как он.
Один из тех, кто в подметки ему не годится, прошел по следам мистера Кеймена и ознакомился с его трудами, состоящими из уничижительных отзывов о тех или иных моментах испанской истории, из утверждений, имеющих не больше веса, чем сомнительные подстрочные примечания, из вороха цитат и заимствований, из ставших уже обычными и привычными «совершенно неизвестных рукописных источников», якобы обнаруженных в архивах, куда не ступала нога ни одного испанского исследователя, и ужасно напоминающих фальшивые выдержки из сенсационных английских дневников. И прочее. В своем последнем опусе «Империя», где слова «испанская нация» неизменно заключены в кавычки, он на семистах одиннадцати страницах доказывает, что Испания даже и не думала покорять весь мир, что за нее эту работу выполняли наемники, — итальянцы, бельгийцы, голландцы, немцы, негры и индейцы — испанцы же («кастильцы», неизменно подчеркивает автор) ограничивались лишь тем, что пожинали их плоды. Америку, оказывается, одухотворили опять же голландцы, а литература Золотого века оттого и осталась темной и вялой, что не испытала влияния итальянских гуманистов. Еще автор высказывает сомнения в том, что испанский был первым языком во всей империи, утверждает, что битву при Нордлингене выиграли немцы, при Сен-Кантене — валлоны, при Лепанто — генуэзцы, при Теночтитлане и Отумбе — ацтеки. Да и вообще все исторические события XV, XVI и XVII вв. — проплаченная испанцами лживая пропаганда, Небриха написал свою испанскую грамматику, чтобы подольститься к Изабелле Католической, Кеведо же, как всем известно, был ультранационалист (поскольку фашистов тогда еще не было).
В последней своей по времени статье этот джентльмен удостоил меня персонального упоминания. Он уверяет, что в Испании о Трафальгарской битве не писал никто, кроме двух романистов: одного зовут Бенито Перес Гальдос, а другого — Артуро Перес-Реверте. Существуют лишь два романа, заявляет Кеймен, и ни одного исторического исследования. Испанисту недурно было бы справиться о классиках исторической науки вроде Феррера де Коуто, Марлиани, Пелайо Алькала Галиано, Конте Лакаве и Лона Ромеро. А если вышеперечисленные сеньоры покажутся ему чересчур академичными, пусть дополнит их труды такими сочинениями, как «Трафальгар» Кайуэлы-и-Посуэло, «Трафальгар и атлантический мир» Гимера, Рамоса и Бутрона, «Трафальгар» Виктора Сан-Хуана, «Трафальгар» Агустина Родригеса Гонсалеса, «Испанский флот в сражении при Трафальгаре» Мехиаса Таверо или монументальным, всеобъемлющим трудом адмирала Гонсалеса-Альера «Трафальгарская кампания». Все эти книги вышли в свет до появления статьи мистера Кеймена.
Но для маститого британского испаниста всего этого не существует. Кроме того, ему не нравится, когда отдельные дилетанты вроде Переса Гальдоса и вышеподписавшегося — отлично, кстати, сознающего расстояние между ним и мной — тоже берутся за рассмотрение вопроса. Трафальгар — это дело историков, говорит он, а не романистов. Не испанских романистов — в особенности. Ибо романисты английские — О’Брайан, Форестер, Александр Кент или Дадли Поуп — хулы не заслуживают: они строго придерживаются исторической правды и могут сколько угодно писать о героических моряках его величества, сражающихся за свой народ (без кавычек) и за свободу всего мира с трусливыми, грязными и жестокими испанцами, от которых в довершение бед страшно несет чесноком — особенно во время абордажа. В отличие от английских писателей, неизменно объективных, в книгах писателей испанских «испанцы всегда хорошие, а все прочие — отвратительны», указывает Кеймен, указывает и доказывает тем самым, что не знаком ни с творчеством Переса Гальдоса, ни с моим. Впрочем, «Мыс Трафальгар» он упрекнул за «необычный язык», но это в порядке вещей: уразуметь кое-какие флотские загибы — дело непростое даже для выдающегося испаниста.
Так что вношу предложение: осваивайте (чуть было не сказал «присваивайте») гранты, наслаждайтесь сангрией и хамоном и не крутите мне эти… как их? мозги, дон Генри.
Месть Чурруки
Время от времени время все расставляет по своим местам. Или почти все. Как-то раз в одном средиземноморском порту я, пришвартовавшись носом, читал у себя в каюте, когда услышал шум двигателя. Поднялся на палубу, когда парусник заходил с противоположной стороны, намереваясь отдать швартовы. Обычно я помогаю при этом маневре, но на этот раз на причале был вахтенный, и потому я просто привалился к мачте и стал смотреть. Яхта была метров пятнадцать длины: у штурвала стоял мужчина, а на носу — женщина. Испанский флажок на гафеле, красный флаг на корме — англичанин, значит. Владелец был крупный, с пивным брюхом мужик лет пятидесяти. Женщина — чернокожая, высокая и статная. Дамочка — на загляденье, что правда, то правда. Видная, что называется, все при ней.
Матрос на причале ждал швартовки. Он был тощий, щуплый, прожаренный солнцем. Шорты, бейсболка, в каждом ухе — по золотой серьге. Паренька такого типа ненароком повстречаешь в темном переулке — доставай нож, пока он не вынул свой. Впрочем, это я к тому, чтобы вы представили себе, на что он похож: а так-то я его знаю давно и за приличного человека. Ну, в общем, представьте, пока нос английской яхты приближается к стенке. И вот, когда остается метра два, негритянка обращается к морячку с вопросом на чистейшем английском языке, который для здешнего народа звучит как один из диалектов малайского. Ага. И ни тебе «привет!», ни «добрый день», ничего. Морячок, оставаясь совершенно бесстрастным и придерживая багром яхту, чтоб не ткнулась в причал, отвечает на полном серьезе: «Жонеконпранпа». Дама смотрит на него в растерянности и повторяет вопрос, получая в точности тот же ответ с добавлением «сеньора», а поскольку ветер бьет в корму и кренит ее на правый борт, бросает морячку конец и бежит на корму — опять же — к своему капитану.
А тот к этому времени уже заглушил мотор и шагает на бак, не без тревоги поглядывая на ржавый борт старого судна, пришвартованного рядом. Туземным наречием он тоже не владеет ни в малейшей степени. «Ту ниар, — говорит он. — Хэвнтью э беттерплейс?» Хрен тебе, а не беттерплейс, адмирал, думаю я в эту минуту. Как и большинство своих соотечественников, он не делает даже самого ничтожного усилия, чтобы объясниться по-испански, и непреложно убежден, что все на свете обязаны лопотать по-английски. Попробовал бы я швартоваться где-нибудь в Фэлмуте, говоря на языке Сервантеса. Морячок на пирсе смотрит на него невозмутимо, кивает, когда англичанин замолкает, потом пожимает плечами, продолжая крепить швартовы к причальным тумбам, и наконец, глядя ему прямо в глаза, очень раздельно и четко произносит: «Не понимаю тебя, дядя. Здесь — испаньски говорить».
Ветер же все крепчает, и корме вот-вот настанет… этот самый, а негритянка сражается с тросом и кричит: «Айхэв тумачвинд!» Морячок кивает на нее англичанину: «Ты бы, парень, пошел посмотреть, что там стряслось», — советует он. Англичанин послушно поворачивается к своей даме — у той от усилия выскочила из выреза одна грудь, совершенно, надо сказать, роскошная, — оглядывается беспомощно на ржавый борт корабля, в который они вот-вот вмажутся, и начинает махать руками, пытаясь жестами показать матросу, что они чересчур близко к этой развалине. «Туунииар, — повторяет отчаянно. — Туунииар». А тот уже присел на корточки, чтобы спокойно полюбоваться, как эти двое будут выкручиваться. «Ну, уж как есть», — отвечает он невозмутимо. «Гуат?!» — переспрашивает англичанин. Морячок неторопливо скребет себе в паху. «Может, ты мне бросишь шпринг, — предлагает он, — я тебе его закреплю». Англичанин, еще недавно такой высокомерный, а теперь такой перепуганный, показывает жестами, ни хрена, мол, не понял, и бежит на корму — помочь своей даме удерживать яхту, потому что на нее — на них обеих — уже больно смотреть. «Плис, — безнадежно кричит он оттуда, весь красный от натуги. — Дуюнотпикинглис?» И тут морячок наконец понимает, что ему говорят. «Не, — отвечает он. — А ты? Ты спикаешь эспаниш, итальян, френч, херман?.. Носинг де носинг?» И, не дожидаясь ответа, сует руку в карман шортов, вытаскивает кисет, медленно, почти торжественно, скручивает себе цигарку, затягивается и оборачивается ко мне — а я уже только что ванты не грызу, чтобы не заржать в голос и не свалиться ненароком в воду, — и к зевакам, сбежавшимся на причал посмотреть на темнокожую красотку: рыбаку, охраннику и механику «Вольво»: «Вообще ни на каковском. Вроде меня».
Мой друг Хэддок
Я всегда говорил, что если бы мой дом загорелся, в первую очередь я спас бы своего пса Мордаунта и полную коллекцию «Приключений Тинтина» — все тома в твердой картонной обложке и с холщовым корешком. На некоторых, самых старых, еще сохранился ценник — 60 песет. Дважды или трижды в год, позванивая монетами — сотню песет я получал на именины и еще пятьдесят на день рожденья — в кармане коротких штанов, я застывал перед деревянными полками, и владелец книжной лавки сеньор Эскарабахаль показывал мне новинки. Я выбирал одну и выходил с нею на улицу, вдыхая изумительный аромат хорошей бумаги и свежей краски, который с тех самых пор вместе с издательствами «Хувентуд», «Матеу», «Бругера» и «Молино» навсегда связан у меня с путешествиями и приключениями. И наоборот: когда годы спустя я приземлялся в каком-нибудь богом забытом уголке или сходил на берег в далеком экзотическом порту, я постоянно вспоминал запах бумаги, шедший от тех страниц. И неудивительно, что первое свое путешествие репортер-тинтинофил совершил в Страну Черного Золота, а когда моя нога впервые ступила на Балканы, я тут же подумал: ну, вот я и в Сильдавии.
Некоторые альбомы мне случается перелистывать до сих пор, и чаще прочих я достаю с полки моих любимых «Акул Красного моря». Мне очень нравится этот том, я считаю его безупречным, к тому же главное действующее лицо в нем — море, а кроме пулеметчика в слюнявчике Петра Пшел и старых знакомых, вроде генерала Алькасара, Абдуллы, Мюллера, негодяя Растапопулоса и торговца Оливейры да Фигейры, со страниц не сходит капитан Хэддок. И клянусь вам, я, может, только затем и взвалил когда-то на спину дорожный мешок и двинулся в путь, чтобы найти себе такого друга. Я хотел встретить Хэддока, которого судьба приготовила где-то специально для меня.
Ну, конечно, я его встретил. Нескольких даже. Некоторые из них были похожи на оригинал как две капли воды, другие не так чтобы. Кое-кто жив по сей день, иных уж нет. Одни хлестали виски «Лох-Ломонд», как воду, другие виртуозно ругались, щедро рассыпая «пучеглазых долгопятов», «холодных сапожников», «параноиков» и «безмозглых кретинов». Всяк был хорош на свой манер. Но во всех них, в каждом верном товарище моей юности, стоявшем со мною плечом к плечу, пока «Москито» из Хемеда разворачивался над кормой нашего самбука, чтоб половчее расстрелять нас из бортового пулемета, — ох, как часто я ощущал себя героем этой незабываемой сцены! — я с легкостью узнавал ворчливого бородатого моряка, рядом с которым провел в детстве столько счастливых часов с тех самых пор, как в один по-настоящему прекрасный день познакомился с ним на борту «Карабуджана». Потом я встретил его на капитанском мостике «Авроры», плывущей за таинственным аэролитом; потом сопровождал его — или, может, это он сопровождал меня — в поисках «Единорога» на «Сириусе» его друга капитана Честера; а как-то раз нам на «Рамоне» пришлось уворачиваться от пиратской подводной лодки, «Рамона» почти что прыгала взад-вперед, повинуясь его коротким телеграфным приказам. Я был с ним и во флотском зале замка Муленсар, где, если верить репортеру из «Пари-Флеш» Жану-Лу де ла Баттельри и фотографу Уолтеру Ризотто, его, причесанного на прямой пробор и затянутого в парадную форму, едва не соблазнила Бьянка Кастафиоре — этот голосистый миланский соловей.
А недавно произошло нечто странное. Я получил письмо от одного юного читателя, утверждающего, что я, когда начинаю разносить в своих статьях зуавов, башибузуков и колоцинтов, напоминаю ему капитана Хэддока. С бородой и все такое, добавил мой друг. Я задумался. Потом подошел к книжному шкафу, вытащил «Акул Красного моря» и полистал немного. Боже мой, сообразил я внезапно. Капитан, который всю жизнь казался мне таким взрослым и даже старым, таким выдубленным, просоленным и пожившим, — моложе меня. Он никогда не постареет, навсегда останется черноволосым и чернобородым, все в том же джемпере с растянутым горлом и с якорем на груди, в то время как у моего отражения в зеркале все прибавляется морщин, а в волосах и в бороде становится все больше седины. Седины, которой у Арчибальда Хэддока, капитана торгового флота, не будет никогда. Я состарюсь, а он нет. Я уже не Тинтин и никогда больше им не буду. Я выпал из комиксов, сопровождавших меня все детство. И, засовывая альбом обратно на полку, я не смог сдержать горького смешка. Сто тысяч миллионов утопших чертей.
Старый капитан
В детстве у меня первым героем был мой дядя Антонио. Когда его судно возвращалось в Картахену, родители брали меня с собой в порт, и, стоя под навесом причала, я в восторге наблюдал за маневрами швартовки, за тем, как обвиваются толстые канаты вокруг причальных кнехтов, как суетятся матросы на палубе, как подымается из трубы последний дым. Иногда я видел на баке и Антонио — сперва старшего помощника, а потом и капитана, — который стоял наверху, облокотившись на ограждение рубки и слегка наклонившись вперед, чтобы точнее определить расстояние до пирса, отдавал приказы. Потом, когда судно замирало у причала, я взлетал по трапу, мечтая поскорее ощутить под ногами подрагивающий от машинного гула настил палубы, прикоснуться к дереву, к бронзе, к железу переборок, вдохнуть ни с чем не сравнимый корабельный запах, а потом подняться на мостик, где между штурвалом и нактоузом стоял мой дядя, и тот, прервав на мгновение работу, подхватывал меня на руки, так что совсем близко я мог с восхищением видеть черно-золотые галуны на плечах его белой форменной рубашки. Ибо в ту пору моряки торгового флота носили фуражку с двумя скрещенными якорями и золотые галуны на обшлагах красивых синих тужурок. И в ту пору моряки торгового флота еще были похожи на моряков.
Я уже сказал, что он был для меня божеством. На следующий день после возвращения, рано-рано утром я прибегал к нему домой и забирался в кровать, между ним и теткой, требуя рассказов о морских приключениях. И он никогда меня не разочаровывал. Моя бедная тетушка, стоически приемля свой удел, поднималась и шла готовить завтрак, а я, затаив дыхание и широко раскрыв глаза, слушал, как капитан четырежды терпел кораблекрушение в последнем плавании и героически отбивался от голодных акул ножом, а все мысли его при этом были только о любимом племяннике. Или как свирепые малайские пираты пытались взять его судно на абордаж в Малакском проливе, как попал в ураган, огибая мыс Горн, как наскочил на айсберг, командуя «Титаником», а спасательных шлюпок всем не хватило. И я в страшном волнении обнимал его, и слезы лились у меня из глаз, особенно когда (в истории с акулами) он рассказывал, как один за другим исчезали в пучине его товарищи.
Потом я вырос, а он постарел, и теперь уже в портах ждали его сыновья. Бывало и так, что моя профессия соединялась с его, и мы, репортер и капитан, плавали вместе — бывало и так, жизнь богата на совпадения — вот, например, при эвакуации Сахары в 1975 году, когда он командовал последним испанским кораблем, выходившим из Вилья-Сиснерос: со мной подобное уже случилось в Гвинее, и я считал себя экспертом в таких делах. И наконец в один прекрасный день, после сорока лет плаваний он вышел на пенсию и осел на суше — у моря, которое вдруг стало так далеко, словно до него пятьсот миль. И, несмотря на то, что у дядюшки было все, о чем он мечтал, — чудесная жена, обожаемые дети, — он не был счастлив на твердой земле. Я навещал его — теперь пришел мой черед рассказывать ему о приключениях и схватках с акулами, — и когда в его кабинетике, заполненном книгами и воспоминаниями, подобными обломкам кораблекрушений, мы курили, выпивали, вспоминали былое, глаза его оживали. Обычно он часами простаивал у окна и молча смотрел на дождь, и я знал тогда, что видит он другие небеса и синие моря. А море настоящее его больше не занимало. Да нет, пожалуй, даже хуже — он возненавидел его за то, что оно превратило его в изгнанника-апатрида, в тень, скитающуюся по враждебной и неизведанной земле. И сыновья не сумели преодолеть этот барьер. Старший купил баркас, но отец лишь раз ступил на палубу. Он сделался нелюдимым ипохондриком. Обзаведясь первой яхтой, я вышел с ним вместе в открытое море, надеясь хоть на миг узнать в нем божество моего детства. Но он просидел целый день неподвижно и молча, уставившись вдаль, обхватив пальцами левой руки запястье правой. И больше мы никогда не плавали вместе. И никогда больше я не говорил с ним о море.
Он умер года два назад. В то утро я долго смотрел на стеклянную пепельницу в форме спасательной шлюпки — в детстве я всегда восхищался ею, а незадолго до смерти дядя Антонио распорядился вручить ее мне. Он ушел в море и никогда больше не вернется. Он был хороший моряк. И, как это бывает даже с лучшими судами, распался, оказавшись на суше. Но я никогда не забуду, как с ножом в руке плыл он среди акул.
2006
Настоящий пират
Мало, очень мало у них общего с тем, как изображали их романтики. Мало или вообще ничего. Лишенные искусственного ореола, созданного романами позапрошлого века и англосаксонским идиотизмом голливудских фильмов, пираты былых времен предстают такими как есть — разбойниками и убийцами. Их довольно часто смешивают с корсарами, но те, по крайней мере на бумаге, — совсем другая песня: не так давно Альберто Фортес опубликовал по-галисийски жизнеописание Хуана Гаго, уроженца Понтеведры, ставшего знаменитым корсаром. Корсары, надо вам сказать, отличались от пиратов тем, что соблюдали международные правила и грабили на морях врагов своего короля и от его имени. А пират есть пират — и точка: никакой разницы с теми, кто в наши дни нападает на корабли, грабит и убивает у карибских берегов, в Красном море или в азиатских проливах. Сволочи, если сформулировать самую суть. Я вспомнил об этом на днях, когда, перебирая бумаги, наткнулся на материалы о Бенито Сото, одном из последних классических пиратов и едва ли не единственном испанце, стяжавшем себе славу под черным флагом. Продувной бестии, чья драматическая история нашла себе приют в кадисских тангильос[53].
Но по порядку. Корабль — семипушечный бриг «Эль Дефенсор де Педро» — был бразильским корсаром, попутно занимавшимся работорговлей: в 1823 году экипаж поднял бунт, высадил капитана на африканское побережье, а тех, кто отказался примкнуть к мятежникам, — перебил. Новым капитаном выбрали младшего боцмана по имени Бенито Сото Абоаль: этот двадцатилетний уроженец Понтеведры в 18 лет дезертировал с испанского флота. Бриг сменил название на «Бурла Негра» и вскоре стяжал себе зловещую славу, начав с захвата торгового английского фрегата «Морнинг Стар», а сразу же вслед за ним — североамериканского «Топаза», причем все двадцать пять членов команды и пассажиры (кроме одного) были убиты. Немного времени спустя между Азорами и Кабо-Верде пришел черед британского барка «Самбери». Вслед за тем, уже с богатой добычей, Сото решил идти в Галисию, чтобы реализовать трофеи первой кампании. По пути он не пропустил возможность напасть на португальскую «Мелинду», на «Сесснок» (неизвестно, под каким флагом он шел) и на английский «Нью Проспект», причем разбой этот завершился убийством нескольких членов собственного экипажа — тех, кому Сото не мог доверять и кого опасался оставить на суше по причине слишком длинного языка.
В Ла-Корунье, где пираты предъявили подложные документы, а один из них выдал себя за капитана судна, они продали захваченные грузы и решили отправиться на юг Испании или на берберийское побережье и там жить на ренту. Однако море иногда отпускает шутки тяжеловесные и несмешные: ночью они приняли маяк на острове Леон за маяк в Тарифе и в результате сели на мель у берегов Кадиса, совсем невдалеке от того места, где и сейчас стоит «Венторрильо-дель-Чато». Поначалу подкупленные пиратами власти и военные моряки хотели закрыть на все глаза, но судьба выкинула очередной непредсказуемый фортель — в Кадисе в это самое время случился пассажир с «Морнинг Стар», который узнал их и поднял шум. Итог: десятерых повесили, а тела их потом четвертовали в Кадисе, а капитана Сото, бежавшего в Гибралтар, поймали, судили и казнили по обвинению в семидесяти семи убийствах и захвате десяти судов. Как истый галисиец, Сото дурака не валял, комедию не ломал, держался молодцом, а приговор, как рассказывали очевидцы, принял со смирением и раскаянием. Чего уж тут, что было, то было, должно быть, сказал он напоследок. Или что-то в этом роде.
Однако история «Дефенсора де Педро» имела продолжение. Семьдесят четыре года спустя, в 1904-м, рыбаки обнаружили в том месте, где завершилось приключение пиратского брига, огромное количество монет, отчеканенных в Мексике в XVIII веке. Народ просто обезумел, и весь Кадис — включая стариков, детей и тещ со свекровями — с лопатами и кирками высыпал на берег. Накопали в общей сложности не менее полутора тысяч монет. Об этом даже сложили потом песенку, которую через год на карнавале обессмертил местный музыкант Тио де ла Тиса со своим ансамблем «Антиквары». Ну, тут и сказке конец — а вернее, истории про Бенито Сото Абоаля, испанца до мозга костей, а потому история эта началась со зверюги-пирата, а кончилась — тут все кончается одинаково — кадисским балагурством.
Закон Корабля-на-Якоре
Думаю, вы знаете знаменитый «закон Мёрфи»: «Если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, она случится обязательно». К примеру, если уронить бутерброд, он непременно упадет маслом вниз. Закон этот универсален, но не уникален. Опыт учит нас, что любой и каждый может вывести бесконечное множество собственных законов, которые расширят закон Мёрфи или распространятся на иные захватывающие перипетии, ухабы и буераки нашей жизни. Кое-кто из моих друзей даже записывает и коллекционирует свои открытия. Вот есть, например, Закон Такси, Только Что Свернувшего За Угол. Или Закон Туалетной Бумаги, Никогда Не Отрывающейся По Линии Перфорации.
У меня у самого богатый выбор таких законов. Закон Не Того Ключа, к примеру: вне зависимости от того, сколько ключей у тебя на связке, в половине случаев ты будешь совать в скважину не тот (здесь не учтены варианты с сованием ключа бородкой вверх, когда надо вниз, и наоборот, поскольку сфера применения ограничена почтовым ящиком). Еще один закон, действующий с пугающей неуклонностью, — Закон Вкладыша: каждый раз, вскрывая упаковку с лекарством, ты делаешь это с того конца, где лежит, свернутый в сорок раз, пресловутый вкладыш-инструкция, лежит и мешает добраться до таблетки. И я не одинок. Мой кум Карлос Г. вывел Закон Уместного Автобуса, который (закон, а не автобус) гласит: каждый раз, как на улице пятимиллионного города ты целуешь секретаршу, в этот самый миг, не раньше и не позже, на тебя из окна проезжавшего мимо автобуса посмотрит жена. Сейчас Карлос обогатил его интересными боковыми ответвлениями, одно из которых назвал Аксиомой Карлоса: шансы сохранить при разводе детей, автомобиль и собаку обратно пропорциональны количеству прожитых в браке лет и скопленной за этот срок досаде твоей жены.
Часть этих законов не допускает исключений. Закон Корабля-на-Якоре, к примеру, выполняется с неукоснительной точностью. Сформулировать его можно так: если стоишь на якоре у пустынного побережья, тянущегося на много миль, следующий парусник бросит якорь впритирочку к твоему борту. Летом это правило расширяется, обретая новые неизбежные последствия: хотя вокруг полно свободного места, каждый третий кораблик норовит пролезть в щель между твоей яхтой и той, что стала на якорь следом. К исходу дня справедливость закона подтверждается: несколько миль пустого берега, а на крохотном пятачке сгрудились в кучу пятнадцать-двадцать яхт, трутся друг о друга бортами при малейшей перемене ветра, и каждый прибывающий думает, что раз никто в свободном месте не бросает якорь, значит, там что-то не то и скрыт какой-то подвох.
Закон Корабля-на-Якоре особенно полезен, когда надо что-то предвидеть или предугадать, поскольку у него неимоверное количество сухопутных вариантов применения. Ну, чтобы не слишком удаляться от моря, достаточно вместо Закона Корабля-на-Якоре говорить Закон Полотенца-на-Пляже, — и вы убедитесь, что на многокилометровом пустом пляже не дальше двух с половиной метров от того места, где вы решили разостлать свое полотенчико, непременно устроится семейство с зонтиком, гамаком, бабушкой и малолетними детьми, но никогда — впечатляющая сеньора, любительница бронзовокожего совершенства. Это — на берегу, у самого моря, а уж насчет того, что там подальше творится… чего я вам буду рассказывать? Там действует Закон Соседнего Столика, являющийся не более чем частным, сухопутным случаем Закона Корабля-на-Якоре: в любом кафетерии или ресторанчике, где полно свободных мест, новый посетитель обязательно займет столик, ближайший к твоему. Порой этот закон подкрепляется Правилом Козла-Мэтра, каковой козел способствует осуществлению данного закона. Вот в прошлый понедельник, в десять утра я имел счастье в этом убедиться. Сидел себе в аэропорту, читал газеты в самой глубине просторного и пустого кафетерия, как вдруг появилась толпа пенсионеров, решивших перекинуться в картишки. Едва завидев их, я сказал себе: «Старина, ты спекся». Вы слушайте, слушайте, что дальше было. Хвастаться, конечно, некрасиво, но прогноз мой сбылся с ювелирной точностью. Огибая незанятые столики, вся орава прошла по залу и уселась — ну, разумеется, как же иначе — за ближайший ко мне. Дальнейшее представить нетрудно: пики-козыри, пас… и прочее. Ну, где ж наш кофеек? Поторопись, милая. И все это — в полный голос, под шлепанье карт о стол. Через некоторое время появились другие посетители и — ну еще бы! а вы сомневались? — расположились окрест меня в непосредственной близости и живописными группами, так что этот уголок кафетерия стал напоминать городскую площадь в престольный праздник. Закон Корабля-на-Якоре, о чем тут толковать? И нас еще смеют упрекать в разобщенности и в том, что мы, мол, не солидарны друг с другом… Человек сидит один, потому что ему так хочется. Но ведь известно давно — не так живи, как хочется.
Морские карты и головы мавров
Электронные навигаторы все больше вытесняют с прогулочных судов старые добрые морские карты. В каюте маленького парусника или катера особенно не развернешься и карты, на которой во всех подробностях нанесен береговой рельеф, отмечены отмели, маяки и прочие необходимые сведения, — тоже не развернешь. К тому же подключенный к GPS и набитый картами плоттер позволяет нынче мореплавателю в любой момент выяснить свои координаты. Самый, то есть краеугольный камень всей навигационной премудрости. Если знаешь место, сможешь проложить курс и предусмотреть поджидающие тебя опасности. И так удобна и проста в пользовании новая система, что армия ее поклонников, отказавшихся от классических карт во имя электронных и отринувших бумагу, циркуль-измеритель, карандаш и штурманский транспортир ради спутникового навигатора, растет день ото дня. Скользнет умник взглядом по экрану — и полный вперед, особенно если ему не терпится раздавить стаканчик на Ибице. Хрустальная мечта всякого моряка выходного дня.
Однако же море — та еще сволочь, оно всегда найдет возможность тебя прижучить. Кроме ошибок, которыми полны даже лучшие электронные карты, — почитаешь недавнее исследование французского журнала Voiles, и волосы встают дыбом, — нет сочетания опасней, чем плоттер с GPS, автопилот и капитан-болван, из тех, что даже безмозглой своей головы из люка не высунет — оглядеться по сторонам хотя бы раз в четверть часа. А этого времени как раз достаточно, чтобы «купец» и катер, двигающиеся в противоположных направлениях со скоростью пятнадцать узлов, прошли восемь морских миль и встретились в одной точке или чтобы коварная мель, едва видневшаяся издалека, оказалась точнехонько под килем. Кроме того, электроника, бывает, отказывает, у автопилота едет крыша, а навигаторы то ломаются, то неточно считывают спутниковые сигналы. И все чаще горе-моряки, убежденные, будто судном можно управлять, тыкая пальцем в кнопки, влипают в серьезные неприятности. А доверься бумажной карте, магнитному компасу и четырем основным правилам навигации — и они всегда доведут тебя до места назначения. Особенно если ты идешь под парусом.
Как раз сегодня утром я размышлял об этом в связи с темой, которая вроде бы не имеет к морским картам ни малейшего отношения. Я говорю об идиотской затее некоторых арагонских политиков убрать с герба Арагона четыре мавританских головы, красующиеся там со Средних веков. К счастью, из этого ничего не вышло, а выйдет ли в будущем — бог весть. Пока же, насколько я знаю, место герба в зале заседаний арагонских кортесов займет скульптурная композиция великолепного, искренне оплаканного Пабло Серрано[54]. Она состоит из незамкнутых концентрических кругов, которые должны символизировать дух свободного демократического обмена мнениями и все такое. Связь между арагонским щитом и морскими картами ищите сами. Для меня она очевидна. Когда разворачиваешь морскую карту — я как-то написал на эту тему целую книгу, — ты не в состоянии противиться ее колдовству, тебя чаруют контуры, и абрисы, и все, что за ними кроется. На протяжении веков мудрые и мужественные люди, знающие, что на суше корабли гибнут куда чаще, чем в море, измерили, обследовали и перенесли на карту каждый излом берега, каждый перепад рельефа. Доверив бумаге опыт, страдания, сомнения и ежедневную борьбу тех, кто водил корабли в этих коварных водах и прожил достаточно, чтобы об этом рассказать, они уберегли нас от многих опасностей. К тому же старая добрая морская карта надежна, ей нипочем электронные неполадки, она неподвластна моде и в гробу видала внезапные взбрыки современной техники. Все ее богатства всегда при ней, надо только уметь прочесть их и понять. С бумажной картой ты не летишь бессмысленно, сломя голову, из одной точки в другую, а вначале проделываешь весь путь в воображении, а потом, когда уже плывешь и отмечаешь на карте точные координаты, испытываешь острое удовольствие от того, что когда-то этот курс проложили специально для тебя. Ты словно путешествуешь по собственной памяти и обретаешь в ней унаследованную от предшественников гордость за то, что ты моряк. Кто-то писал, что морские карты — это не просто бумага, это учебники истории и приключенческие романы. И нужно быть совершеннейшим кретином, чтобы от них отказаться.
Боевая братия
Иногда я люблю полистать депеши и реляции XVII века, все эти брошюры и печатные листки, что в те времена выполняли роль газет, исправно информируя о военных успехах и подвигах, о новостях и королях. С годами мне посчастливилось собрать порядочную коллекцию, и теперь, когда в голове у меня начинает мерцать очередной эпизод из жизни Алатристе, я, бывает, коротаю вечерок за документами. Они помогают мне погрузиться в атмосферу эпохи и взять верный тон. Чтение это подчас повергает в уныние — особенно когда понимаешь, как мало все изменилось за четыре столетия, — подчас забавляет. Именно такой забавный документ я обнаружил не далее как вчера. Это реляция, датированная 1634 годом, речь в ней идет о похождениях троих испанцев, монахов Ордена мерседариев[55], на борту французского ботика неподалеку от Сардинии. Позвольте мне рассказать эту историю, она чрезвычайно познавательна.
Маленький парусник под французским флагом держал курс к Вильяфранка-де-Нисо, на борту кроме троих монахов — Мигеля де Рамасы, Андреса Кории и Эуфемио Мелиса — находились лягушатник-капитан, четверо матросов да пятеро пассажиров. И буквально в нескольких милях от берега откуда ни возьмись летит на них турецкий бриг — а в те времена всех корсаров-мусульман стригли под одну гребенку, будь они хоть турки, хоть берберы, — и ну сигналить, чтоб на ботике зарифили паруса и легли в дрейф. Капитан подумал и счел за лучшее повиноваться. Нам, французам, объяснил он, с пиратами делить нечего, лучше мирно договориться о цене, заплатить и убраться подобру-поздорову. Но братьям мерседариям эта перспектива показалась не больно-то радужной. Вы-то заплатите деньгами, сказали, а мы — своею шкурой. Подданные испанского государя, к тому же — служители Господа, шугать нам до конца жизни сардин галерными веслами, а то — томиться в заключении где-нибудь в Алжире или Турции. В общем, монахи решили, что терять им нечего и чем ужинать в Константинополе, лучше уж пировать с Христом на небесах. А что до диалога культур, уточнили они, то пусть в него вступают капитанова и пиратская известно какие мамаши. Так что братия засучила рукава, подоткнула полы сутан, вооружилась чем бог послал — бог послал им четыре копья, три охотничьих ружья да три меча без рукоятей, — и, пригрозив экипажу, заперла всех — и матросов, и пассажиров — в трюм. Потом каждый обмотал рукоятку своего меча куском ткани, чтобы было за что держать, и, привязавши к левой руке подушку, изобразил себе подобие щита. А затем все трое преклонили колена на палубе и принялись молиться со всем усердием, на какое были способны. Славься, царица, матерь милосердия. И так далее.
А теперь окажите мне любезность и не спеша представьте себе произошедшую следом сцену — именно в ней изюминка всей этой истории. Вообразите корсарский бриг на двенадцать гребных скамей, подошедший к ботику с наветренного борта. Вообразите свирепых турок или берберов, пусть их аллах разбирает, — двадцать семь человек, как указано в реляции, и все столпились на носу у фальшборта, потрясая кривыми саблями и облизываясь от нетерпеливого предвкушения на манер спутников капитана Крюка. И еще представьте, какой издевательский поднялся гогот, когда они увидели на пустынной палубе троих святых отцов, самозабвенно осеняющих себя крестными знаменьями. И в то самое мгновение, когда турки перебросили уже абордажные крючья и вознамерились перебраться на борт ботика, трое мерседариев — мне они кажутся то совсем юными, то средних лет, жилистыми, сухими, но крепкими, об дорогу не расшибешь, истинные дети своего века, — вскакивают с колен, выстрелами в упор отправляют к праотцам троих ближайших к ним турок и с дикими воплями «Испания и Сантьяго!», «Иисус Христос и Пресвятая Дева!» — ну, то есть призывая к себе на помощь всех святых и Грааль из Бульяса в придачу, но не забывая выставить перед собою руку с подушкой на манер щита, — ввинчиваются в толпу корсаров, размахивая мечами как безумные и обрушивая удары направо и налево, вгоняя турок, натурально, в полное замешательство: эй, эй, любезнейшие, послушайте, тут какая-то ошибка, сейчас наша очередь на вас нападать! И рожи у турок в этот момент — как у койота Вилли[56], когда на него свалится сейф, им самим же приготовленный, чтоб прихлопнуть Бегучую Кукушку.
И таким вот образом, отложив, верней, отшвырнув до лучших времен приличествующую духовному лицу кротость, братия за три минуты перерезала глотки дюжине — неплохо, да? — негодяев, а пятеро других сами бросились за борт: плюх, плюх, плюх, плюх, плюх. Оставшиеся же — многие из них уже были ранены — запросили пощады и сдались, увидев, как брат Мигель Рамаса приколол предводителя, а потом «насадил на то же копье еще двоих, когда бросился на него турок и вцепился зубами ему в руку, но тут на помощь пришел брат Андрес Кория и турка убил».
Не оплошали, короче говоря.
Случилось это 21 октября 1634 года, в день святой Урсулы и Одиннадцати Тысяч — плюс-минус одна-две — Девственниц. И что я могу добавить? Я в восторге от этой троицы.
Адмиральские торпеды
Адмирал Хосе Игнасио Гонсалес-Альер, для друзей — Сисиньо[57], моряк нетипичный, с замашками — в хорошем смысле этого слова — просвещенного военного старой школы, из тех, что заседали в академиях, занимались науками, языками или историей. Культурный, я хочу сказать, моряк. Я вспоминаю его предшественников, в которых любовь к чтению книг спорила с любовью к родине. Может статься, именно поэтому они время от времени поднимали головы — не для того, чтобы заставить всех идти в ногу, этим как раз занимались их полные противоположности, безграмотные солдафоны и злобные животные, — но для того, чтобы их сограждане стали культурней и свободней, а бесчестные короли присягали на верность конституции. Как правило, расплатой за культуру и патриотизм становилось изгнание — во Франции или Англии у вояк-оптимистов было достаточно времени и места, чтобы вдоволь поразмышлять о неблагодарной сущности этой скорее мачехи, чем матери, по имени Испания. Один из этих адмиралов особенно мне дорог, потому что он, можно сказать, олицетворяет нашу национальную трагедию, — Каэтано Вальдес, командовавший «Пелайо» в битве при Сан-Висенте и «Нептуном» в Трафальгарском сражении. Во времена царствования этой свиньи в бакенбардах, короля Фердинанда VII, Вальдес за свою верность конституции 1812 года познал вначале неволю, потом ссылку.
Но это уже другая история, а я хотел поговорить о моем друге адмирале Гонсалесе-Альере. Как читатель, я в долгу перед ним за его «Сражение на Море-Океане» — великолепное пятитомное, не полностью еще опубликованное собрание документов, в том числе писем Филиппа II об англо-испанской войне. И, конечно, за его недавний монументальный труд «Кампания Трафальгар» — два больших тома со всеми испанскими свидетельствами об этом грандиозном поражении 1805 года. Но другой долг — долг признательности — куда больше, и восходит он к тем дням, когда мой друг был директором Мадридского морского музея, а я рылся там, выискивая морские карты, эти затонувшие сокровища, чтобы пересчитать им веснушки до самого мыса Финистерре. Меня сразу подкупили любезность и благородство этого моряка, и с тех пор я испытываю к нему нежность и уважение, закаленные в долгих спорах о Трафальгарском сражении, о прорыве линии фронта в двух местах 21 октября 1805 года. Мы бессчетное количество раз обсуждали эту битву — на людях и один на один, воссоздавая картину на столе, на полу, на стене или в воображении. И меня всегда глубоко трогали обширные знания, ясность мысли, объективность и меланхолический, более похожий на любовь, патриотизм доброго адмирала, когда он говорил о врагах и друзьях, о тех, кто мужественно и отчаянно сражался за свою честь и свои убеждения.
Я рассказываю вам о старом — он ни за что не простит мне этого эпитета — мудреце, о прекрасном человеке, почитаемом прежними своими врагами, английскими и французскими эрудитами, которые гордятся его дружбой и ценят его мнение. О человеке, посвятившем себя изучению нашего наследия. Юным морякам и всем, кто любит морскую историю этой не помнящей родства страны, следовало бы устраивать к нему настоящие паломничества, чтобы слушать его и запоминать. И если им повезет завоевать его доверие и он позволит им заглянуть в трюмы, где хранятся его личные воспоминания, они смогут увидеть, как коротко и остро, будто порыв ветра или молния, выглядывает из-за всегдашней мягкости и доброжелательности другой — а впрочем, тот же самый — человек: командир корвета, холодный профессионал, который тридцать лет назад в ходе Зеленого марша[58] командовал подводной лодкой S-34 «Косме Гарсия» у берегов Агадира и Касабланки. С десятью торпедами на борту, со взглядом, уставленным в перископ, то осторожно поднимаясь ночами на поверхность, то снова погружаясь, он две недели ожидал возможности отправить на дно любой вражеский военный корабль, который первым откроет стрельбу. И когда я заставляю его вспомнить об этом — а я нарочно его подначиваю, потому что он редкий рассказчик, — я вижу, как в его глазах загорается огонек воодушевления, а голос дрожит от ностальгии, и сам он выпрямляется, словно юный офицер, каким был когда-то. В последний раз во время небольшой вечеринки, которую мы с друзьями устроили в его честь в «Ларди», он, дожидаясь жаркого, вспоминал былые времена и вдруг ударил кулаком по столу. «Мы были военными моряками! — воскликнул он. — И с гордостью носили это имя!»
Спасение на водах
Бывают моменты, когда спрашиваешь себя, не заслуживают ли страны то, что имеют. Я снова задумался об этом несколько дней назад, разговаривая с моим другом Рамоном Богой, рядовым галисийцем, уроженцем Виго, если быть точным, для которого, как и для меня, море — нечто большее, чем просто возможность позагорать на мелководье. Речь у нас зашла о том, как совпали по времени и как по-разному освещались в средствах массовой информации два события — подготовка к чемпионату мира по футболу и спасение экипажа парусника «Мовистар» во время регаты Volvo Ocean Race.
В Северном море, в шторм, с поврежденным килем, с течью в центральном отсеке, с работающими трюмовыми помпами, «Мовистар» уже пятнадцать часов шел рядом с другим парусником «АБН Амро II» — тот узнал об аварии и теперь держался поблизости с терпящими бедствие испанцами, на случай, если придется их спасать. Драматизм ситуации усугублялся тем, что на «АБН Амро II» только что погиб один из гонщиков — его смыло волной в море, и когда его удалось поднять на борт, он был уже безнадежно мертв. И теперь тело, закутанное в спальный мешок, лежало запертое в трюме. Так что можете вообразить состояние обеих команд, их ощущение одиночества посреди бесконечного моря, когда метеофаксы начали давать прогноз погоды на ближайшие двадцать четыре часа: скорость ветра 40 узлов с порывами до 50 и волны до 11 метров высотой. Шторм — может, не идеальный, но довольно близкий к идеалу.
Следующий эпизод: воспользовавшись тем, что оба парусника сейчас находятся в глазу бури, то есть в относительном покое, капитан «АБН Амро II» оповещает «Мовистар»: «Мы должны продолжать соревнование. Прыгайте сюда, потому что нас относит». И покуда команда «Мовистара» подключала аварийный радиобуй, «АБН Амро II» произвел безупречный маневр — только представьте себе, каково это в тех условиях, — и подошел настолько, чтобы все десять членов экипажа перебрались к нему на борт. И вот на паруснике, рассчитанном на десять гонщиков, оказываются девятнадцать человек и один труп, а факс плюется метеосводками, от которых волосы встают дыбом, и капитан «АБН Амро II» говорит спасенным с «Мовистара»: они, мол, тут в гостях, поэтому пусть не беспокоятся, команда «АБН» сама поведет судно, чтобы не нарушать правил. Позже, когда экипаж «Мовистара» и тело гонщика забрал спасательный катер, «АБН Амро II» благополучно дошел до Портсмута, закончив, таким образом, этот этап гонки, а покинутый «Мовистар» остался где-то позади, посреди шторма, и его поврежденный радиобуй не издал ни единого сигнала.
В этом месте мой друг смотрит мне в глаза и начинает задавать вопросы: почему, когда все это происходило, выпуски новостей на всех испанских каналах открывались разговорами о футболе и страстным обсуждением — в форме ли Рауль? Знает ли население этой страны с ее тысячами километров побережья, что такое судно — парусное или любое другое? Знает ли, что такое шторм и ветер, дующий со скоростью пятьдесят узлов? И что в море ежедневно находятся тысячи испанских рыбаков и моряков? Знает ли, какой кодекс чести и солидарности заставляет две яхты пятнадцать часов идти рядом в разгар шторма? И если моряку повезло и его спасают, что чувствует он, покидая свое поврежденное судно, когда оно дрейфует или идет на дно? Знает ли население, как это — когда у тебя на глазах волной смывает твоего товарища? И почему моряка пробирает дрожь при одной лишь мысли, что его яхта может остаться без шверта? Знает ли, какое огромное и страшное чувство охватывает человеческое сердце в подобных ситуациях? И последний вопрос — этот уже от меня: вот вы, лично вы, и те, кто издает газеты или готовит выпуски теленовостей, все, кто формирует общественное мнение этой идиотской страны, — вы и впрямь думаете, что чемпионат мира по футболу важнее уроков и ценностей, которые можно извлечь из этой истории?
Девочка и дельфин
Я всегда говорил — шутейно, конечно, но все же: в том, что касается моря, дельфинов и женщин, люди моего поколения делятся на две категории: тех, кто в детстве видел «Мальчика на дельфине», и тех, кому не посчастливилось. И пусть любители розового экологического сиропчика для детей не обольщаются невинным названием, это не совсем «Флиппер», вернее, совсем не «Флиппер». Достаточно вспомнить первые кадры: Софи Лорен появляется из вод Средиземного моря, мокрая блуза облепила сногсшибательные формы. Да и мальчиков с дельфинами в фильме не было, а была бронзовая римская статуя — которую героиня Лорен обнаружила на дне, ныряя за морскими губками, если только я не путаю с «Коралловым рифом». И конечно, ее, я имею в виду статую, послушно следуя законам жанра, оспаривали друг у друга элегантный негодяй Клифтон Уэбб и положительный Алан Лэдд, — «малец», говорили у нас в Картахене.
Как бы то ни было, улыбка бронзового дельфина запала мне в память и в душу, и я вижу ее всякий раз, когда встречаюсь с милыми мне китообразными. В море нет удовольствия острее, чем то, которое испытываешь, когда матрос кричит «Дельфины!», и тут же вода словно вскипает от них — дельфины несутся с головокружительной быстротой, словно приклеенные к носу парусника, выпрыгивают из воды, шумно выбрасывают воду из дыхал, искоса поглядывают наверх — понимают, умницы, какое наслаждение доставляет людям это чудное зрелище.
И столь же бесподобны дельфины, когда, безразличные к нам, плывут по своим делам. Однажды ясной лунной ночью в нескольких милях к северу от Альборана мне посчастливилось увидеть прекраснейшую в моей жизни сцену. Мы шли на запад под всеми парусами. Дело было в мою вахту, я спустился в каюту — отметить на карте наши координаты, и тут странный звук заставил меня вернуться на палубу. Вокруг, в бесконечном, светящемся, слегка взволнованном от несильного сирокко море, то и дело выпрыгивая из воды, плыли к горизонту сотни дельфинов, и серебристые отблески играли на их плавниках и спинах. Должно быть, они закусывали, потому что море кишело рыбой, рыба была повсюду и тоже, казалось, играла, а на самом деле металась в безнадежной попытке удрать. Оттого тут, видать, и оказалось столько дельфинов — большой косяк привлек внимание нескольких стай одновременно, и они сплылись на пир.
Это, значит, была самая прекрасная сцена, а самая трогательная произошла лет двенадцать тому назад в открытом море при мертвом штиле. Яхта шла с убранными парусами, на одном моторе. Средиземное море — цвета кобальта, на чистом небе — ни облачка, и тут нас окружает стая из пятнадцати-двадцати дельфинов. Я заглушаю двигатель, и яхта словно парит в спокойной воде в очаровательной компании. А на борту у нас была одна девочка десяти лет, такая просоленная и прожаренная на солнце девочка, бесстрашная и решительная, способная преспокойно читать «Остров сокровищ» в своей койке на носу яхты, покуда саму яхту треплет ветер в тридцать пять узлов. Внезапно мы услышали шлепок — это девочка надела нырятельную маску и прыгнула в воду, поближе к дельфинам. Представьте себе, как подскочил ее отец, — не тратя время на спуск по трапу, он нырнул следом. Теперь вообразите себе море, вид изнутри — эту бесконечную, сгущающуюся к глубине синеву, этих дельфинов вокруг неподвижного парусника. А у кормы, погрузившись в воду примерно на метр, держится рукою за трап нагая девочка, и дельфины, проплывая рядом, едва не касаются ее боками. И тут один из них, совсем молоденький, явившийся вместе с матерью, подобрался к девочке поближе и с любопытством на нее уставился, улыбаясь ей этой их особенной улыбкой, словно отпечатанной на всех дельфиньих мордах. Они смотрели друг на друга не отрываясь, потом дельфинчик высунул голову из воды, вздохнул и снова нырнул. И наконец, девочка медленно вытянула руку и погладила его по рыльцу. И покуда ее отец, стараясь не делать резких движений, настороженно наблюдал за происходящим, мать маленького дельфинчика тоже держалась позади, у сыновьего хвоста, не вмешиваясь, но и не выпуская детеныша из виду.
Излишне, думаю, говорить, что сейчас девочке двадцать три года и за дельфинов она порвет кого угодно. И ее отец тоже.
А теперь — о медузах
Уу-а. Уу-а. Уу-а. Тревога, тревога. Срочное погружение. По телевизору объявили, что этим летом Средиземное море кишмя кишит коварными медузами-извращенками, делающими бо-бо. Это нужно видеть: на пляжах яблоку некуда упасть, пляжники нервно жмутся на бережку, возбужденные чада носятся, размахивая сачками, а на песке растет куча медуз, медузищ и медузочек, и всяк снимает их на телефон, покуда мы бурно протестуем. Что за безобразие! Мы, мать вашу растак и разэдак, приехали отдыхать! Куда смотрит правительство?! Пусть оно немедленно что-нибудь сделает! И правительство делает. То, что умеет делать лучше всего, — появляется на телеэкране и рассказывает нам, как беспокоит его этот феномен, и как к нему непременно будут приняты соответствующие меры, и прочее в этом же роде. Что-что, а брехать наши политики горазды, в этом им нет равных, но сами-то они прекрасно знают, что нич-чего особенного не происходит. Для того они и держат при себе советников, чтоб те им советовали: не стоит, мол, беспокоиться, господин министр, все дело в течениях и в жаре, а это явление сезонное, немножечко терпения, и если нам повезет, уже в сентябре наши студнеобразные сестренки провалятся к себе на дно или еще куда и не будут нам докучать, и все благополучно о них забудут до следующего года, тем более что зимою народ в воду не больно-то лезет. А следующий год — он и есть следующий год. А за ним — еще один. Так что наплюйте.
Я ни разу не слышал — и, признаюсь, удивлен, — чтобы хоть кто-нибудь из наших достойных представителей власти сказал, что эта задача решения не имеет. Что нашествия медуз начались не сегодня и в свое время никто палец о палец не ударил, чтобы их предотвратить, а теперь уже ничего не исправишь, потому что экологическое равновесие пошло псу под хвост из-за потепления моря, неконтролируемого рыбного промысла, бешеной застройки и сброса ядовитых отходов. И все это — прямое следствие нашего эгоизма и нашего же безмерного идиотизма. Когда начинают петь о «соответствующих мерах», никто не говорит правды — что для решения проблемы от нас потребуются жертвы, на которые никто не готов. Или готов? Да неужто? Подонки-застройщики и продажные политики-прилипалы, превратившие испанское средиземноморское побережье в чудовищный муравейник, откажутся от новенькой яхты, побольше, чем у Посеро[59], из-за каких-то там медуз? Или мы, возмущенные граждане, объединимся, проголосуем, вышвырнем их на улицу и отправим за решетку? Или просто взгреем, чтоб своих не узнали? И заново заселим Средиземное море существами, которые лопали себе медуз, а теперь исчезли и оставили дверь хлева открытой, а поле свободным — гуляй не хочу? Может, мы вернем в море тунца, которого четверо жуликов безнаказанно истребляют и продают Японии при пассивном — а когда и при активном — содействии властей? Морских черепах, удавленными сетями-убийцами, — никто ведь палец о палец не ударил, чтобы их уберечь? Несчастных тунцовых мальков в полторы пяди длиной, которых придурки-удильщики вытаскивают по две сотни за одно только утро? Тонны рыбьей мелочи, всплывающей вдруг кверху брюхом у входа в гавань, потому что рыбаки обнаружили, что в бухте лютует полицейский патруль, и поспешили избавиться от некондиционного груза?
И остается нам одно только утешение. Ученые говорят, что из-за всего этого — перенаселения, потепления, уничтожения местной фауны и флоры — Средиземное море потихоньку захватывают уже полтыщи пришлых видов. Медузы тут вскоре будут такой величины, что все ими и накроется, а через Суэцкий канал уже начали просачиваться акулы из Красного моря, у которых после строгой диеты из суданцев и эритрейцев просто слюнки текут при мыслях о нас. Так что скоро нам вломят, как мы того заслуживаем, расправятся с нами, как Самсон с филистимлянами, но кое-кто из нас по-прежнему питает надежду на некоторую биологическую справедливость, на то, что однажды мы увидим, как министр Нарбона застряла, что тебе капитан Крюк, в зубах у четырехметрового крокодила — тик-так, тик-так — или как Саплана, пресс-секретарь Пепе, идет с пляжа в Бенидорме (у него там, понимаете, шале), а на… гм… этом самом месте у него — медуза аурелия с голубой каемочкой. И пусть они купят себе такие же, как у нас, цементные коробки без воды и света, пусть испражняются в один с нами септик на пляже и играют в гольф, как если бы все это паскудство было Ирландией.
Тайны погибших кораблей
Однажды я видел корабль-призрак. Даю вам честное слово. Что любопытно, заметил я его не в море, а на земле или, вернее, с земли. Дело было в Тарифе, лет восемь или девять назад. В Гибралтарском проливе бушевал могучий левантинец, я сидел в машине под почти горизонтальным дождем и любовался морем — ветер рвал в клочья плотную пену, вода свирепо набрасывалась на скалы под моими ногами. А потом я поднял взгляд на серый горизонт и увидал его — он плыл себе сквозь ливень, а вокруг, рассыпая тучи брызг, вдребезги разбивались волны. Не отрывая от него взгляда, я выбрался из машины и мгновенно вымок до костей. По моим прикидкам, он находился сейчас меньше чем в миле от берега. Огромный трехмачтовый парусник, отдаленно напоминающий клипер, из тех, что бороздили здесь воды в начале прошлого века. Он медленно двигался с востока на запад, сквозь дождь и неподатливую пену, а ветер, приближавшийся в тот день к жесткому штормовому, подталкивал его в корму. Я видел, как он вышел из сплошной водяной пелены, и смотрел минуты три, пока его грациозный, но решительный силуэт не скрылся за низкой тучей, сливающейся с волнами и дождем. И тут я ощутил, как по коже у меня побежали мурашки. Дело было не в самом корабле, а в одной маленькой необъяснимой детали — он шел под всеми парусами, а ни один экипаж из плоти и крови, ни один нормальный живой моряк не рискнул бы поднять все паруса в эту погоду и на этом море. Я успел их сосчитать: восемь косых, три фока и бизань, натянутые ветром до каменной твердости. И потому я знаю, что я видел. И чем был тот корабль.
В детстве я долго верил в корабли-призраки. Меня взрастили на морских легендах, объясняя их, впрочем, невежеством, суевериями и безудержной фантазией моряков, выдумывающих сверхъестественное там, где есть серьезное научное объяснение: фата-моргана, северное сияние, огни Святого Эльма, дымка, туман, прихотливые очертания плавучих льдин, тропические болезни, выкашивающие целые экипажи, пираты… В портовом кабаке или на баке все это превращается в фантастические истории. И снова кто-нибудь вспоминает корабль-призрак, встреча с которым сулит несчастье. Так в тысячный раз появляется из небытия легенда о Ван Стратене, голландском капитане, который приказал кораблю сняться с якоря в Страстную пятницу и этим навлек на себя проклятие: теперь он приговорен до скончания времен скитаться со всей командой возле мыса Доброй Надежды в тщетной попытке его обогнуть. Когда-то эта легенда вдохновила Гейне и Вагнера, теперь ее затребовали в Голливуд, чтобы снять «Пиратов Карибского моря».






