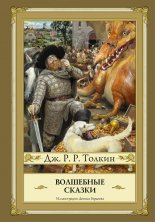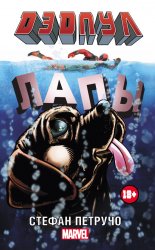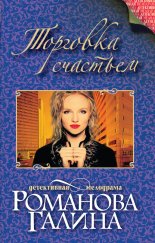Правила виноделов Ирвинг Джон

– «Работа Господня» и «работа дьявола», Гомер, – это ведь две работы! – кричал доктор Кедр.
Гомер от смеха даже закашлялся. И чуть не упал с койки, когда Кедр, как волшебник, извлек откуда-то ту самую фотографию и помотал ею у него перед носом.
– Ты уже такой большой, что тебя интересуют подобные вещи, – сказал он. – Значит, ты можешь делать любую работу взрослых!
Это была соломинка, способная сломать спину верблюду. Доктор Кедр сунул фотографию Гомеру, не то, изнемогая от хохота, уронил бы ее на пол.
– Слушай меня, Гомер! Ты пройдешь университетский курс медицины, не окончив даже средней школы! – прорывались сквозь смех слова.
Это показалось Гомеру особенно забавным, но доктор Кедр вдруг посерьезнел и вырвал фотографию.
– Посмотри вот на это, – сказал доктор Кедр. Оба сели на край койки, и Кедр положил фотографию себе на колено, крепко ее придерживая. – Я тебе сейчас покажу, чего ты не знаешь, – продолжал он. – Смотри вот сюда. – Он показал на косу, едва различимую в тени пони. – Что это? – спросил он Гомера. – Юность! Вам всегда кажется, что вы знаете все, – произнес он укоризненно.
Гомер уловил новый тон в голосе доктора Кедра и стал вглядываться в эту часть снимка, на которую раньше не обращал внимания. Наверное, какое-то пятно на ковре, возможно кровь, вытекшая из уха женщины.
– Ну? – спросил доктор Кедр. – Это не «Давид Копперфильд» и не «Джейн Эйр». В них нет того, что тебе необходимо знать, – почти с издевкой проговорил он.
Медицинский уклон в разговоре укрепил догадку Гомера: на снимке наверняка кровь. Что еще может увидеть врач в этом загадочном пятне?
И он сказал:
– Кровь! У женщины из уха идет кровь.
Доктор Кедр подбежал с фотографией к провизорскому столу.
– Кровь? – переспросил. – Кровь! – опять взглянул на фотографию. – Это не кровь, дуралей! Это – коса!
Он еще раз показал фотографию Гомеру. И больше никогда в жизни Гомер этой фотографии не видел, хотя сам доктор потом часто на нее смотрел: он хранил ее среди страниц «Краткой летописи Сент-Облака» и смотрел на нее не из похотливого интереса, а потому, что она напоминала ему о женщине, которой он дважды нанес обиду. Спал с ее матерью в ее присутствии и не оказал медицинской помощи, на которую она была вправе рассчитывать. А то, что она напомнила о себе такой фотографией, только делало острее осознание ошибок. Доктор Кедр предпочитал именно такое восприятие своих ошибок.
Он был суров не только к другим.
Он и за Гомера взялся сурово, если вспомнить, под какие раскаты смеха был начертан план обучения. Дело нешуточное – приобщить юнца к их работе. Хирургия, акушерство, обычные роды и даже «Р-К»{13} – все требовало углубленного и длительного обучения.
– Ты думаешь, Гомер, большое геройство – смотреть на женщину с пенисом пони во рту? – сказал на другой день доктор Кедр на свежую голову. – Тебе уже пора заниматься чем-то более серьезным. Возьми-ка вот это. – С этими словами он протянул Гомеру сильно потрепанную «Анатомию» Грея и прибавил: – Внимательно изучи все, что там есть. Заглядывай в нее три, даже четыре раза в день. И еще вечером перед сном. Забудь пенис пони и займись анатомией.
«Здесь, в Сент-Облаке, – когда-то записал в „летописи“ Уилбур Кедр, – я мало пользуюсь „Анатомией“ Грея. А вот во Франции в Первую мировую заглядывал в нее ежедневно. Это была моя единственная походная карта».
Кедр отдал Гомеру справочник акушера, записи, сделанные в Гарвардской медицинской школе и, позже, в ординатуре; занятия начал с лекций по химии и изучения университетского учебника. Определил в провизорской угол для простейших опытов по бактериологии, хотя вид чашек Петри все еще вызывал у него приступы боли, – он не любил мир, открывающийся под микроскопом. И еще не любил Мелони. За то, что она, несомненно, имела над Гомером власть. Так он, по крайней мере, считал.
Кедр догадывался, что Гомер с Мелони занимаются сексом: думал, что инициатива исходила от Мелони (в этом он был прав) и что связь продолжается только ее стараниями, что было, пожалуй, не совсем так: связь как-то сама собой вошла в их жизнь. Власть же Мелони над Гомером, столь неприятная доктору Кедру, уравновешивалась чувством, которое она, несомненно, питала к Гомеру. Вспомнить хотя бы вырванное у Гомера обещание не покидать без нее Сент-Облако. Но доктор Кедр этого не замечал. Он считал Мелони головной болью миссис Гроган и не сознавал, что забота о Гомере застит ему глаза и он многое просто не видит.
Однажды он послал Гомера за лягушкой, дал задание ее вскрыть – изучать внутренние органы; по «Анатомии» Грея, конечно, их не выучишь. Гомер спустился к берегу первый раз после того, как спасся бегством из дома, разрушаемого Мелони. Половины дома как не бывало – впечатляющее зрелище!
Но больше всего поразили Гомера увиденные первый раз роды. Не столько искусство доктора Кедра (ничего неожиданного в этом не было) или профессиональная согласованность действий сестер Анджелы и Эдны – Гомера потрясла слаженная работа организма матери и плода до вмешательства акушера, весь естественный механизм родов: ритмичность схваток, хоть проверяй по ним часы, выталкивающая сила мышц матки, и все при этом подчинено одному неминуемому результату – рождению ребенка. Самым необъяснимым было то, что новорожденный воспринимал новую для него среду как нечто враждебное, ту самую среду, чьим воздухом его легкие будут дышать до последнего дня. Так неласково встретил младенца этот мир, что казалось, будь его воля, он навсегда бы остался там, откуда явился. Неплохо для начала, сказала бы Мелони, будь она рядом. Конечно, физическая близость с ней доставляла Гомеру удовольствие, и все-таки он, поеживаясь, отметил, что половой акт сам по себе более прихотлив, чем роды.
Читая у девочек «Джейн Эйр», Гомер обратил внимание, что в последнее время Мелони как-то сникла; не то чтобы совсем сложила оружие или совсем ушла в себя. Чувствовалась в ней какая-то угнетенность, как будто что-то надломилось в ее душе. У доктора Кедра не было истории ее рождения, в этом она заблуждалась, а отказ от заблуждения иногда слишком дорого стоит. А тут еще два таких унижения: маленький пенис Гомера почему-то у нее во рту стал еще меньше, а начавшаяся потом близость очень быстро ему приелась. Да еще физическая усталость, думал Гомер. Шутка ли, одна уничтожила такой кусище рукотворной истории Сент-Облака. Сплавила по реке полдома! Устанешь тут!
Что-то изменилось и в нем самом, в его восприятии «Джейн Эйр»; тот или иной эпизод обретал новый смысл под действием недавних событий. Слишком много на него свалилось – находка срамной фотографии, первый сексуальный опыт, такой неудачный, безрадостная связь с женщиной, «Анатомия» Грея, первые увиденные роды. Читая «Джейн Эйр», он теперь больше понимал тревоги героини, которые недавно казались скучными и надуманными. А ведь Джейн-то вправе была тревожиться. И надо же, чтобы после всего пережитого ему попалась именно эта фраза из середины десятой главы. В ней Джейн, мечтая, как уедет из школы, начинает понимать, что мир огромен, а жизнь ее – «крохотная песчинка». Возможно, Гомеру померещилось, что девочки с особым вниманием слушают эту главу, а Мелони ловит каждое слово, точно никогда ее не слышала. И тут как раз эта фраза:
«Как-то после полудня я вдруг почувствовала, что больше не в силах выносить это длящееся восемь лет однообразие жизни».
Он читал эти слова, и у него запершило в горле, он откашлялся, сделав короткую паузу, как бы выделив мысль Джейн. Стал было продолжать, но Мелони остановила его:
– Что-что, Солнышко? Прочти-ка это место еще раз.
– «Как-то после полудня я вдруг почувствовала, что больше не в силах выносить это длящееся восемь лет однообразие жизни».
– Я ее понимаю, – сказала Мелони горько, но без надрыва.
– Твои слова, Мелони, причиняют мне боль, – мягко проговорила миссис Гроган.
– Я ее понимаю, – повторила Мелони. – И ты тоже, Солнышко, – добавила она. – А пожила бы Джейн так целых шестнадцать лет! Что бы она тогда сказала?
– Успокойся, деточка, не растравляй себе душу, – уговаривала Мелони миссис Гроган.
И Мелони вдруг расплакалась. Она была уже совсем взрослая и не могла уткнуться в колени миссис Гроган, чтобы та погладила ее по головке. Взгляд миссис Гроган говорил, что Гомеру лучше уйти. Но он еще не дочитал главы, не кончил даже абзаца.
– «Я жаждала свободы»… – продолжил он и вдруг замолчал: слишком жестоко продолжать. Джейн Эйр облекла их чувства в слова. Они с Мелони пережили несколько таких вечеров – когда от безысходности не хотелось даже шевельнуть пальцем.
В ту ночь снаружи воздух был лишен запахов, лишен истории. Было просто очень темно.
Вернувшись к себе в отделение, Гомер узнал от сестры Анджелы, что Джона Уилбура усыновили и уже увезли.
– Такая хорошая семья, – радостно сообщила сестра Анджела. – Отец семейства тоже долго писался по ночам. Они будут добры с Джоном.
Вечером того дня, когда очередной воспитанник покидал Сент-Облако, доктор Кедр немного менял вечернее благословение.
– Давайте порадуемся за Джона Уилбура, – сказал он в тот вечер, обращаясь к темной спальне. – Джон нашел семью. Спокойной ночи, Джонни.
– Спокойной ночи, Джонни! Спокойной ночи, Джон Уилбур, – нестройным хором повторили за ним мальчики.
Сделав торжественную паузу, доктор Кедр прибавил свое обычное:
– Спокойной ночи, принцы Мэна, короли Новой Англии!
Перед сном при свете свечи Гомер немного почитал «Анатомию» Грея – это ему позволялось. В ту ночь некому было писать в постель, но отсутствовали какие-то еще привычные звуки. Гомер скоро понял какие: доктор Кедр распорядился перевести Фаззи Бука с его шумной аппаратурой в больницу. Его поместили в отдельную палату рядом с операционной, поближе к сестрам. Видно, ему, с его хозяйством, потребовался дополнительный уход.
Познакомившись с работой расширителя и кюретки, Гомер понял, на кого похож Фаззи Бук, – точь-в-точь человеческий эмбрион, только говорящий, такая же прозрачная кожа, изогнутая серпом спина, потому-то он и выглядел таким уязвимым. Как будто находился в той стадии, когда плоду еще положено зреть во чреве матери. Доктор Кедр объяснил, что Фаззи родился недоношенным и легкие у него так никогда и не расправились. Что это значит, Гомер уразумел, разглядев несколько узнаваемых органов во время банальной операции – удаления «продуктов зачатия».
– Ты меня слушаешь, Гомер? – спросил Уилбур Кедр, закончив операцию.
– Да, – ответил Гомер.
– Я не утверждаю, что это правильно, понимаешь? Я говорю только, что это ее решение. Женщина вправе распоряжаться своей судьбой.
– Точно, – кивнул Гомер.
В тот вечер он долго не мог уснуть, все время думал о Фаззи Буке. Спустился вниз и пошел в палату рядом с операционной; в ней никого не было. Он стоял, прислушиваясь к ночным звукам. По хрипам легких, шуму водяного колеса и вентилятора он всегда легко определял местопребывание Фаззи.
Тишина ударила его по барабанным перепонкам сильнее, чем стук упавшей на крышу змеи, Мелони тогда еще прикусила ему палец. Бедняжка Мелони, слушает «Джейн Эйр», как будто ей читают про ее собственную жизнь; в последние дни она только однажды прервала его чтение. Напомнила про обещание («Помнишь, ты обещал, что не уедешь, пока я здесь? Ты дал мне слово»).
– Где он? – спросил доктора Кедра Гомер. – Где Фаззи?
Доктор Кедр сидел за пишущей машинкой в кабинете сестры Анджелы, в котором допоздна засиживался почти каждую ночь.
– Я думал, как лучше тебе сказать, – тихо произнес доктор Кедр.
– Вы говорите, что я ваш ученик, да? Тогда говорите мне все прямо. Вы мой учитель. Не надо ничего утаивать от меня.
– Точно, Гомер, не надо, – согласился доктор Кедр.
Как изменился этот мальчик! Время в приюте измеряется другими мерками. Как же он не заметил, что Гомеру уже пора бриться? Почему не научил его этому? «Раз уж я взвалил на себя эту ношу, я в ответе за все», – напомнил себе Кедр.
– У Фаззи были очень слабые легкие, Гомер, – сказал он. – Они так до конца и не расправились. Он не был защищен от дыхательных инфекций.
Гомер ничего не ответил. Он жалел, что Фаззи видел его фотографию. Он становился взрослым; в душе его шла работа, рождающая чувство ответственности. Фотография сильно разволновала Фаззи; конечно, ни Гомер, ни сам доктор Кедр не могли помочь его легким, но лучше бы он этой фотографии не видел.
– Что вы скажете малышам? – спросил Гомер.
Уилбур Кедр посмотрел на Гомера; господи, как он любил это свое творение! Отцовская гордость мешала ему говорить. Любовь к Гомеру действовала на него, как эфир.
– А ты как думаешь, что им сказать? – ответил он вопросом на вопрос.
Гомер задумался, ему предстояло принять первое взрослое решение. В 193… году ему немного не было шестнадцати лет. Он начал изучать медицину, когда сверстники учатся водить машину. Гомер водить еще не умел, а Уилбур Кедр так никогда и не научится.
– По-моему, – начал наконец Гомер, – малышам надо сказать то, что вы говорите всегда. Скажите, что Фаззи Бука усыновили.
Гомер менялся не по дням, а по часам. Доктор Кедр записал в «Краткой летописи»: «До чего я ненавижу отцовство! И те чувства, которые оно рождает. Они убивают объективность, перечеркивают правила честной игры. Меня огорчает, что я лишаю Гомера детства, что никогда в жизни он не был просто мальчишкой. А ведь многие сироты предпочли бы вот так лишиться детства, только бы избежать пустого, сиротского. Может, лишив его детства, я спасаю его от чего-то горазд худшего? Черт бы побрал эти путаные ощущения отца! Родительская любовь, как облако, застит верную линию поведения». Написав эту строку, Уилбур Кедр вспомнил обманчивое облако, кокетливо обрамляющее фото дочери миссис Уиск – продукцию фотостудии начала века. И перешел к следующему абзацу, посвященному погоде и облакам (во внутренних районах Мэна погода всегда ужасна, облака в Сент-Облаке и проч.).
Взвесив совет Гомера, доктор Кедр решил ему последовать. Никакой лживой бахромы, украшающей это решение, не было. И на другой день вечером он отправился в спальню мальчиков, намереваясь произнести вечернее благословение с довеском, предложенным его юным учеником. Но должно быть, из-за того, что предстояло сказать неправду, он сбился с привычной последовательности и начал не с Фаззи Бука, а с благословения.
– Спокойной ночи, принцы Мэна, короли Новой Англии, – обратился к темноте доктор Кедр; спохватившись, что говорит не то, охнул, да так громко, что один из малышей подпрыгнул на кровати.
– Что случилось? – воскликнул Лужок, которого рвало при каждом удобном и неудобном случае (но почему-то не вырвало при виде женщины, пожирающей кишки пони, хотя мутило сильно).
– Ничего страшного, – с чувством проговорил доктор Кедр, но вся спальня уже переполошилась.
В этой ожившей темноте ему предстояло сказать обычные слова о необычном.
– Давайте порадуемся за Фаззи Бука, – произнес он, нарушив порядок вечернего благословения.
В спальне воцарилась тишина, «слышно, как муха пролетит», Гомер знал эту поговорку.
– Фаззи Бук нашел семью, – продолжал доктор Кедр. – Спокойной ночи, Фаззи.
Промах доктора Кедра сгустил в спальне смутную тревогу, и Гомер сразу уловил ее.
– Спокойной ночи, Фаззи, – уверенно прозвучал его голос, и следом пискнуло еще несколько голосов.
Когда доктор Кедр закрыл за собой дверь, Гомеру вспомнилась еще одна поговорка: «тишина оглушала».
Первым тишину нарушил Лужок.
– Гомер! – позвал он.
– Да, – откликнулся Гомер.
– Кто мог взять Фаззи, а, Гомер?
– Правда, кто? – подхватил Уилбур Уолш.
– Тот, у кого есть дыхательный аппарат получше, чем у доктора Кедра, – ответил Гомер. – Его новая семья производит такие аппараты. Это их бизнес.
– Счастливчик Фаззи, – сказал кто-то. – Аппараты, семья, бизнес…
– Спокойной ночи, Фаззи, – прошептал Лужок, и Гомер с облегчением вздохнул: мальчишки поверили.
Гомер Бур, которому не было еще шестнадцати лет, ученик врача-акушера, ветеран бессонницы, спустился вниз к реке, в воды которой кануло столько артефактов Сент-Облака.
Шум реки успокаивал лучше, чем сонная тишина спальни. Гомер стоял на берегу в том месте, где еще недавно нависала веранда «барака пильщиков». С нее он смотрел, как коршун камнем упал с неба и змея не достигла спасительного берега, а ведь плыла так быстро.
Если бы Уилбур Кедр увидел сейчас Гомера, он опять бы разволновался – слишком уж рано Гомер прощается с детством. Доктору Кедру помогал засыпать эфир, а у Гомера лекарства от бессонницы не было.
– Спокойной ночи, Фаззи! – крикнул он, стараясь достать голосом другой берег. Но леса Мэна – таково уж их свойство – не откликнулись эхом.
Он заставит их отозваться.
– Спокойной ночи, Фаззи! – крикнул Гомер во всю силу легких. – Спокойной ночи!
Он кричал и кричал – взрослый ребенок, чей плач когда-то был знаменит не только в Порогах-на-третьей миле, но и во всей округе.
– Спокойной ночи, Фаззи Бук!
Глава четвертая
Юный доктор Бур
«В других местах земли, – писал Уилбур Кедр, – есть то, что принято называть обществом. В Сент-Облаке общества нет, а потому и не существует понятия, что лучше, что хуже, а ведь в любом обществе это четко определено. Нам проще, не из чего выбирать, выбор за нас раз и навсегда сделан. Вот почему наши дети так жаждут общества, какого угодно, с пересудами, интригами, чем больше, тем лучше. И если выпадет случай, сирота ныряет в общество с головой, как выдра в воду».
Когда доктор Кедр писал эти слова, он думал о Гомере. Мелони и профессия акушера – вот и весь его выбор. Им с Мелони предрешено быть вместе, другого партнера просто нет. Живи они в нормальном обществе, их несоответствие друг другу сыграло бы свою роль, но в Сент-Облаке это не имело значения. То же с профессией: взяв что можно от жалких сеятелей просвещения, подвизавшихся в Сент-Облаке, Гомеру ничего не оставалось, как заняться хирургией или, точнее, акушерством. И тем, чему проще всего научить, – владению расширителем и кюреткой.
Гомер вел записи на полях институтских тетрадей доктора Кедра. Уилбур Кедр и тогда уже писал убористо, но оставлял на листках много свободного места. Так что можно обойтись без новых тетрадей, слишком уж велика цена бумаги. Стоит только глянуть в окно – лес сведен, на его месте сироты, и все во имя этого атрибута цивилизации.
Под заголовком «Р-К»{14} Гомер писал: «Самое безопасное – применять ногодержатели. Согласно правилам доктора Кедра, перед абортом необходимо снять волосы с лобка. Влагалище обрабатывают антисептическим раствором (некоторые слова Гомер выводил заглавными буквами, в унисон привычке повторять концы фраз и ключевые слова), затем на ощупь определяют величину МАТКИ: одну руку кладут на брюшную стенку, два-три пальца другой вводят во влагалище. Затем с помощью зеркала, похожего на утиный клюв, открывают доступ к шейке матки. (Шейка матки, записал он в скобках как напоминание, – это нижняя суженная часть матки.) В ней имеется отверстие, так называемый зев. У беременной матки шейка вздута и лоснится.
С помощью набора металлических расширителей ШЕЙКУ МАТКИ расширяют и вводят АБОРТНЫЕ ЩИПЦЫ. Это специальные щипцы, с помощью которых постепенно удаляют все содержимое матки».
Под «содержимым матки» Гомер разумел кровь и слизь. Это называлось «продукты зачатия».
«С помощью КЮРЕТКИ СТЕНКИ МАТКИ выскабливаются дочиста, пока не послышится характерный скрип».
Вот и все, что записал Гомер в тетради доктора Кедра о выскабливании, сопроводив запись небольшим примечанием: «МАТКА, о которой можно прочитать в специальной литературе, – это та часть генитального тракта, в полость которой внедряется плодное яйцо». На полях против записи Гомер поставил номер страницы «Анатомии» Грея, где начинается глава «Женские органы размножения», содержащая соответствующую информацию и рисунки.
К 1940 году Гомер Бур, которому не было двадцати, принял как акушер несчетное количество родов и ассистировал при абортах, число которых равнялось тогда одной четверти числа родов. Многие роды он провел сам, конечно под наблюдением доктора Кедра, но делать аборты ему запрещалось. Надо сперва окончить мединститут, говорил Кедр, и поработать в больнице. Не потому, что это очень сложная операция. Напротив, она довольно проста. Но аборты делают врачи, следуя внутреннему убеждению, что это их долг. А такое убеждение складывается на основе личного опыта, которого у Гомера пока еще не было.
Доктор Кедр мечтал о спонсоре, который послал бы Гомера учиться в колледж; это путь не только в высшую медицинскую школу, но и во внешний мир, лежащий за пределами Сент-Облака.
Но как найти спонсора, ломал голову доктор Кедр. Может, обратиться к своему постоянному корреспонденту из Новоанглийского приюта для малолетних бродяжек, у них такой длинный список благотворителей. Не напишешь же в объявлении: «Опытный акушер-гинеколог ищет спонсора для поступления в колледж плюс расходы на высшее медицинское образование». Где то общество, та ниша, куда Гомер мог бы вписаться, ломал голову доктор Кедр.
Но самое главное – отвадить Мелони от Гомера. Как эта пара удручала Уилбура Кедра! В его глазах они были равнодушные, надоевшие друг другу супруги. От той сексуальной тяги, которую Мелони как-то удавалось поддерживать в начале их нескладного жениховства, давно уже не осталось следа. Если и случалась между ними близость, она не приносила им радости. За завтраком они сидели вместе, но всегда молча, иногда в отделении мальчиков, иногда девочек; вместе рассматривали потрепанную «Анатомию» Грея, точно это был атлас дорог, по которым они будут странствовать, если когда-нибудь вырвутся из Сент-Облака.
Мелони даже перестала убегать. Доктору Кедру казалось, что они опутаны какими-то безрадостными, бессловесными узами. Их угрюмый тандем напоминал ему дочь миссис Уиск, которая была обречена на вечный союз с пони. Мелони и Гомер никогда не грызлись, не спорили; Мелони перестала повышать голос. Если их когда и тянуло друг к другу, то влечение возникало не от наплыва чувств, а просто от безысходной скуки.
Доктор Кедр даже нашел ей работу в Порогах-на-третьей-миле – ухаживать за богатой старухой, живя в ее доме на полном пансионе. Старуха, наверное, давно уже выжила из ума и жаловалась бы даже на ангела; на Мелони она, во всяком случае, жаловалась не переставая: и нечуткая, и слова от нее не добьешься, а уж помочь выйти из ванны – лучше и не проси, на такую нарвешься грубость. Этому доктор Кедр мог поверить. Мелони тоже была недовольна: ей не хотелось жить в людях.
– Я хочу утром уходить на работу, а вечером возвращаться домой, – объяснила она доктору Кедру и сестрам Эдне и Анджеле.
«Домой», – покачивая головой, думал доктор Кедр.
Подыскали Мелони другую работу, здесь, в городке, но хозяину требовался человек, умеющий водить машину. Кедр нашел шофера, который согласился давать Мелони уроки вождения. Она, однако, проявила такое лихачество, что парень побоялся с ней ездить, и Мелони лишь с третьего захода сдала экзамен и получила права. Но на работе – она возила инструмент и материалы на строительную площадку – долго не удержалась. Не смогла объяснить, откуда на спидометре взялись лишние двести миль.
– Мне было скучно ездить по одному маршруту. Вот я и каталась где хотела, – объяснила она доктору Кедру и, пожав плечами, прибавила: – И еще пару дней встречалась с одним парнем.
Кедру пришлось с огорчением признать, что Мелони, которой было уже двадцать, не годится ни для какой работы, ни для удочерения. Единственной ее зацепкой в жизни была дружба с Гомером, хотя они могли весь день не перемолвиться словом. Все их отношения сводились к тому, что она просто присутствовала рядом с Гомером (хотя, конечно, она не из тех, кто просто присутствует). Мелони раздражала доктора Кедра. Наверное, и Гомера, думал он.
Уилбур Кедр никогда никого так не любил, как этого юношу, и не представлял себе, как будет жить, если Гомер вдруг покинет Сент-Облако; но он понимал: рано или поздно это случится, если Гомера потянет туда, где есть из чего выбирать. Была у него мечта: потолчется Гомер среди людей и вернется обратно. «Да только кто в здравом уме захочет вернуться в Сент-Облако?» – спрашивал себя Кедр.
В штате Мэн много маленьких городишек, но ни одного такого унылого, как Сент-Облако.
Кедр лежал на койке в провизорской, дышал эфиром и вспоминал тихую гавань Портленда, перебирал в уме городки к востоку и западу от него, обласкивая губами их добрые, чисто мэнские названия. (Вдох – выдох.) Он буквально ощущал вкус этих городков, их меняющиеся, как клубы дыма, имена: Кеннебанк и Кеннебанк-порт, Вассалборо, Ноблборо и Уолдеборо, Уэскассет и Уэст-Бат, Дамарискотта и Френдшип, Пенобскот-Бей и Сагадахок-Бей, Ярмут и Кэмден, Рокпорт и Арандел, Рамфорд, Биддефорд и Ливермор-Фоллз.
К востоку от Кейп-Кеннета, заплеванного курортного местечка, находился на побережье хорошенький городок Сердечная Бухта, а к западу от этого городка с морским названием дремал Сердечный Камень, обязанный своим названием необитаемой скале, которая словно плавала, напоминая брюхо дохлого кита, посреди безупречной в остальном бухты. Крошечный необитаемый островок был бельмом на глазу у жителей Сердечной Бухты, и они наверняка назвали соседний городишко по этой запятнанной птичьим пометом белой скале. Она была плоская, с небольшим уклоном, и во время прилива на поверхности плавало лишь небольшое белое пятно. Поэтому, наверное, скалу иногда называли Дохлый Кит.
В самом же Сердечном Камне никакой скалы не было, и вообще зря соседи смотрели на него свысока. Он находился всего в пяти милях от побережья, с окружающих его холмов (правда, не со всех) был виден океан, и на улицах чувствовалось его освежающее дыхание.
Но что поделаешь, по сравнению с Сердечной Бухтой все окрестные городки выглядели беспородными дворнягами. Жители Бухты презирали Камень не столько за простенькую старомодность двух его магазинов – универсального «Сэнборна» и «Скобяной лавки Титуса», сколько за Питьевое озеро и летние домики на его болотистых берегах. Питьевое озеро с его не очень-то питьевой водой было скорее большим прудом; к середине июля дно его становилось илистым, поверхность затягивали водоросли; но для жителей Сердечного Камня это было единственное место летнего отдыха с купанием, к тому же оно находилось в двух шагах и от Камня, и от Кеннетских Углов, так что переезд на дачу особых трудов не составлял. Летними домиками, рассыпанными по берегам, пользовались и осенью, в охотничий сезон. Их названия свидетельствовали об изобретательности и соревновательном духе хозяев; тут были «Эхо», «Раненый олень» (увенчанный оленьими рогами), «Вечные каникулы» (у дома был лодочный причал). Соседский дом именовался «Дубочки», и воображению невольно рисовался хозяин с физиономией, источающей патоку. Был еще дом с простым честным именем «Шермонова дыра».
В 194… году берега Питьевого озера были уже вполне обжиты, а к 195… – му катера, гребные лодки и моторные, буксирующие водных лыжников, во множестве бороздили его мутные воды, лопасти моторов без конца путались в водорослях, зато весла на взмахе радовали глаз длинной зеленой бахромой. Вот только яхты стояли как приклеенные к неподвижной водяной глади, играющей всеми цветами радуги от накопленных годами детской мочи и бензина. Озеро к тому же было отличным рассадником комаров.
В Мэне десятки прелестных уединенных озер, Питьевое к таковым не относилось. Случайно попавшего в эти места любителя природы с байдаркой ждало разочарование. Безрассудным, безвременно погибшим Винклям здесь явно бы не понравилось; воду из Питьевого озера никто, конечно, без особой нужды не пил; на этот счет ходило немало обидных шуток, пущенных жителями Сердечной Бухты, которые с незапамятных времен хаяли соседний городок единственно из-за этого озера, пребывающего в столь плачевном состоянии.
Увидев впервые озеро, Гомер сказал себе: если кто-нибудь когда-нибудь подумает о летнем отдыхе для бедных сирот Сент-Облака, болотистая лощина между «Эхом» и «Шермоновой дырой» – самое подходящее для этого место.
Но не все вокруг Сердечного Камня было столь безотрадно – поколения его жителей обратили близлежащие земли в плодородные угодья, фруктовые сады и молочные фермы. В 194… году вдоль Питьевого шоссе тянулись на несколько миль ухоженные, обильно плодоносящие яблоневые сады, принадлежащие ферме «Океанские дали». Даже по мнению скупых на похвалу обитателей Бухты, сады были образцовые. Хотя административно они находились в черте Камня, но по виду принадлежали скорее Бухте. Площадки перед фермерским домом вымощены, между ними клумбы цветущих роз, вокруг бассейна зеленый газон, идущий до самых яблонь; ухаживали за газоном и цветниками те же садовники, чьими усилиями содержались в порядке лужайки и клумбы городка, лежащего на берегу океана.
Даже имя хозяина «Океанских далей» больше подходило бы жителю Сердечной Бухты; во всяком случае, в Сердечном Камне оно звучало некоторым диссонансом. Это было вполне объяснимо, ведь Уоллес Уортингтон был родом из Нью-Йорка; он хорошо разбирался в денежных операциях и сообразил вложить свой капитал в яблочную ферму незадолго до того, как все другие инвестиции пошли прахом. Владея яблоневыми садами, он оставался до мозга костей джентльменом, что было заметно даже по одежде. Разумеется, он ничего не понимал в яблочном деле и потому нанимал управляющих.
Уортингтон был бессменным членом совета клуба Сердечной Бухты. Кроме него, ни один житель Сердечного Камня не удостаивался такой чести. Половина жителей Сердечного Камня работала у него в садах, и он пользовался редкой привилегией – его в равной мере почитали в том и другом городке.
Уилбуру Кедру Уоллес Уортингтон напомнил бы кого-нибудь из Ченнинг-Пибоди, в чьем особняке он делал второй в жизни аборт – аборт богатых, как он говорил. А Гомеру он показался бы настоящим королем Новой Англии.
Пожив в этих двух городках и познакомившись с их историей, вы бы узнали, что жена Уоллеса Уортингтона отнюдь не была королевой во всех отношениях. Держалась как королева – да и выглядела как королева с головы до пят. Но старожилы помнили, что Олив Уортингтон хоть и родилась в Сердечной Бухте, но не в лучшем районе. Человеческое общество так уж устроено, что даже в таких глухих городишках кварталы делятся на лощеные и малоприглядные.
Олив Уортингтон родилась на свет божий как Алис Бин. Она была дочерью Брюса Бина, сборщика моллюсков, и младшей, «умной» сестрой бурильщика колодцев Баки Бина. Прозвище «умная сестра», казалось, намекало на то, что брат ее особым умом не отличался. Но он был, однако, поумнее отца, неудачника Брюса. Бурение колодцев (профессия отца сестры Анджелы, давшая Гомеру фамилию) было делом доходным, моллюски отставали от него, как шутят в Мэне, «и в долларах, и в милях».
Олив Уортингтон выросла, торгуя устрицами с кузова грузовичка, который всегда подтекал из-за тающего в нем льда. Ее мать Мод целыми днями не разжимала рта, может, потому, что беспрестанно курила; на кухонном столе, заставленном косметикой вперемежку с раковинами, на толстой разделочной доске стояло треснутое зеркальце, перед которым она красилась. Иногда к флакону с помадой прилипал черный ошметок устрицы, а пепельницей ей неизменно служила большая раковина. Умерла она от рака легких, когда Олив еще училась в школе.
Алис Бин стала Алис Уортингтон, выйдя замуж за Уоллеса Уортингтона, а имя Алис сменила на «Олив», честно заполнив соответствующую форму в муниципалитете; в ее случае дело упрощалось тем, что в имени надо было сменить всего лишь две буквы. Местные острословы так и этак склоняли ее имя, оно каталось у них на языке, точно косточка малопонятного плода того же имени. За спиной кое-кто еще называл ее Алис, но только брату Баки позволялось называть ее так в лицо. Люди к ней относились с почтением и, раз уж ей так хотелось, величали ее Олив. Общий приговор был таков: пусть она вышла за Уортингтона, а значит, породнилась с деньгами, став хозяйкой яблочной фермы, но она все равно продешевила себя.
Веселый, общительный, любящий развлечения, Уоллес Уортингтон был к тому же человек добрый и даже щедрый. Он боготворил Олив, любил в ней все: серые глаза, светло-пепельные волосы с платиновым отливом, ее образованную речь, коей часто подражали в местном клубе. Этим последним она была обязана брату Баки: копая колодцы, он разбогател и отправил сестру учиться в колледж. Возможно, именно этим она и привлекла внимание Уоллеса Уортингтона. И скорее всего, поэтому, как благодарная сестра, позволяла Баки называть ее Алис. Она терпеливо переносила его набеги на свои владения, что само по себе было бы в порядке вещей, но его сапоги всегда облепляла рыжая глина, извлеченная из земных недр, какую только и мог принести в дом бурильщик колодцев. Олив прятала раздражение, когда он в своих сапожищах расхаживал по всему дому, называя ее «Алис-малышка», а в жаркий день, сняв только сапоги, нырял в чистейшую воду бассейна. После его ухода вода еще долго бурлила в нем, как океанский прибой, а на стенках оставался грязно-бурый окоем, как в ванне после купания чумазого мальчишки.
Выигрыш от замужества, спасшего Олив от судьбы Алис Бин, уравновешивало странное поведение Уоллеса Уортингтона, с которым явно творилось что-то неладное. Притом что он был настоящий джентльмен: радел о своих работниках (купил всем страховые полисы, тогда как работники других ферм влачили в то время жалкое существование), необидно подшучивал в клубе над республиканцами, любил радовать людей приятными затеями (все машины «Океанских далей» украшала его монограмма на большом красном яблоке) – словом, при всех его достоинствах у него был некий изъян: казалось, что он всегда в легком подпитии, – такое он проявлял иногда озорство и детскую непоседливость. И жители обоих городков были единодушны во мнении: жизнь с Уоллесом Уортингтоном не сахар.
Он был пьян, когда на теннисном корте укоротил сетку, откромсав от нее широкую полосу лезвием складного ножа, – наверное, долго мучился, натягивая ее. Он был пьян опять же в клубе, когда у доктора Дарриримпла случился инсульт. Уоллес окунул почтенного старца в бассейн (разумеется, на мелком месте), чтобы привести того в чувство, как он потом объяснил. Бедняга чуть не утонул в довершение к удару. Оскорбленные до глубины души Дарриримплы в знак протеста сложили с себя членство клуба. Уоллес был пьян и тогда, когда въехал у себя на ферме в пятисотгаллонный распылитель «Харди», забрызгав себя и свой белый «кадиллак» химикалиями, отчего колени у него покрылись сыпью, а красная обивка «кадиллака» пошла белесыми пятнами. Он был пьян, когда пожелал вести трактор с прицепом, нагруженным половиной всех ульев Айры Титкома; не доехав метров пяти до пересечения Питьевого шоссе с просекой Дей, он опрокинул на землю все улья вместе с медом и миллионами разгневанных пчел. Их жертвами стали он сам, Эверет Тафт, его жена Толстуха Дот и ее сестренка Дебра Петтигрю, которые работали в это время в соседнем саду.
Но в супружеской верности Уоллеса не сомневался никто; циники посмеивались: столько пить – ни с какой другой женщиной не получится; впрочем, наверное, и с Олив тоже. Хотя, очевидно, с Олив один раз таки получилось; у него был сын, которому в описываемое время шел двадцать первый год. Он был высок, красив и обаятелен, как отец; с сизо-дымчатыми глазами матери, но, в отличие от нее, светлый шатен – у Олив волосы были светло-пепельные, у него – цвета гречишного меда. Уоллес Уортингтон-младший был так добр и прекрасен, что все ласково звали его Уолли. А Уортингтона-старшего после рождения сына стали именовать Сениором, даже Олив, а со временем и Уолли.
Это, конечно, самая поверхностная информация о Сердечной Бухте и ее соседе Сердечном Камне. И если бы доктор Кедр знал только это, он, наверное, попытался бы помешать Гомеру отправиться жить в те края, решив, что жизнь там слишком сложна для сироты: вряд ли он отличит правду от злословия и не запутается в сословных предрассудках. Но Сердечная Бухта и Сердечный Камень были для него только романтическими названиями, к тому же видевшимися сквозь эфирные пары.
Если бы, однако, доктор Кедр поближе узнал Уоллеса Уортингтона, он бы скоро понял, что окружающие к нему несправедливы. Да, Сениор много пил, все пьющие много пьют, но мало кто так себя ведет. Дело в том, что Сениор алкоголиком не был, и доктор Кедр скоро поставил бы безошибочный диагноз. Уортингтон страдал болезнью Альцгеймера{15}. Для этой болезни характерны ослабление интеллекта и памяти, симптомы ее – гиперактивность, непоседливость, неадекватная оценка происходящего. Болезнь прогрессирует на глазах и за год-два сводит больного в могилу. Обыватели же Сердечной Бухты при всей своей сметливости не уловили разницы между алкоголизмом и болезнью и пребывали в уверенности, что владеют тайной семьи Уортингтонов. А это был классический случай органического прогрессирующего слабоумия.
Заблуждались они и насчет Олив Уортингтон. Она, бесспорно, заслужила свое новое имя. Конечно, она мечтала расстаться с устричным счастьем родителей. Но Олив умела работать, помнила, как быстро тает в грузовичке лед и как скоро портятся устрицы. В руках у нее спорилась любая работа. Она сразу сообразила, что муж ее, знающий толк в денежных операциях, в яблочном деле ничего не смыслит, и сама занялась фермой. Хорошим работникам повысила зарплату, нерадивых уволила, наняла молодых и добросовестных. Для тех, кто старался, пекла яблочные пироги и учила печь их жен. В яблочном павильоне поставила плиту с духовкой и стала печь пиццы – сорок восемь за один раз. И торговля в павильоне, где раньше продавались только сидр[3] и яблочное желе, сразу оживилась. Она щедро оплатила погибшие улья Айры Титкома, и скоро на прилавке появился мед «яблоневый цвет». В конце концов Олив поступила на курсы и постигла всю яблочную науку – что такое перекрестное опыление, как сажают молодые деревца, прививают черенки, прорежают кроны, как борются с мышами, какие химикалии используют для опрыскивания. Теперь ей было известно про яблони больше, чем ее управляющим, и она охотно делилась с ними всем, что знала сама.
В памяти Олив всплывали иногда молчаливый образ матери, завороженной собственным стареющим отражением в треснувшем зеркальце; грязная кухня, всюду раковины, полные окурков, ватные тампоны цвета глины с сапог Баки и присыпанные пеплом (ими она наносила на лицо румяна). Эти видения прибавляли ей сил. Она помнила, откуда вырвалась, и не сомневалась, что заслужила свое место в яблоневом раю. Приняв из ненадежных рук Сениора «Океанские дали», она завела на ферме образцовый порядок, неутомимо работая за него и для него.
Вечером, вернувшись из клуба – Олив всегда сама водила машину, – она оставляла спящего Сениора на переднем сиденье. Домой его переносил возвращающийся поздно Уолли, которого на подушке ждала записка Олив с просьбой позаботиться об отце. Уолли всегда выполнял просьбу, он был золотой ребенок не только по внешности. Но как-то, вернувшись домой в сильном подпитии, Уолли не смог перенести отца. И утром Олив Уортингтон устроила ему настоящий разгон.
– Ты можешь во всем походить на отца. Кроме пьянства, – сказала она Уолли. – Если ты в этом пойдешь по его стопам, фермы тебе не видать как своих ушей. Не получишь ни единого цента, ни единого яблока. Думаешь, отец сможет мне помешать?
Уолли взглянул на отца, который по его вине проспал всю ночь на переднем сиденье «кадиллака», испещренном белесыми пятнами после того случая с распылителем. Да, отец, пожалуй, не сможет ничему помешать.
– Думаю, не сможет, – вежливо согласился он. И не только потому, что был хорошо воспитан (он мог бы учить клубных юнцов, кроме тенниса, и хорошим манерам). Он знал, что мать вышла замуж всего лишь за деньги, которые, правда, можно было куда-то вложить. Но процветающая ферма была делом ее рук. (Доктор Кедр очень ценил в людях трудолюбие, которое дает плоды.)
Самое печальное заключалось в том, что и Олив не понимала истинного состояния мужа. Несчастный Сениор страдал неизлечимым слабоумием, алкоголизм был только побочным явлением.
Ваши соседи могут многое знать о вас, но, конечно, не все. Уортингтон-старший терялся в догадках, почему день ото дня ему все хуже и хуже. И склонен был сам винить в этом пьянство. Старался пить меньше и все равно утром не помнил, что говорил или делал накануне; все равно дряхлел с устрашающей быстротой; не кончив одно дело, хватался за другое, бросал куртку здесь, шляпу там, забывал ключи от машины в оставленной где-то куртке. Пил меньше и все равно вел себя как маразматик. Это до такой степени удручало его, что он снова налегал на спиртное. Так он и пал жертвой двух зол – болезни Альцгеймера и алкоголя, оставаясь в глазах окружающих добродушным пьянчужкой с внезапными перепадами настроения. В просвещенном обществе его бы лечили и опекали как идеального пациента. Каковым он на самом деле и был.
В этом единственном отношении оба городка ничем не отличались от Сент-Облака. Тяжелобольной Сениор, так же как Фаззи Бук, был обречен.
Гомер первый раз открыл «Анатомию» Грея в 193… году, начав со строения скелета. С костей. В 194…-м он совершал уже третье путешествие по ее страницам, иногда прихватывая с собой Мелони. Непредсказуемая, как всегда, Мелони заинтересовалась нервной системой, особенно двенадцатым двигательным нервом, управляющим движениями языка.
– Что такое двигательный нерв? – спросила она, высунув язык.
Гомер стал было объяснять и не смог от какого-то отвращения. Он в шестой раз перечитывал «Давида Копперфильда», в седьмой – «Большие надежды» и в четвертый – «Джейн Эйр». Вчера дошел до места, на каком Мелони всегда морщилась, а Гомеру становилось не по себе.
В начале двенадцатой главы Джейн говорит: «Глупо внушать людям, что самое лучшее для них – покой. Человек должен действовать. И если у него этой возможности нет, он сам ее создает».
– Запомни, Солнышко, – сказала Мелони, прервав его чтение, – пока я здесь, ты никуда не уйдешь. Ты дал мне слово.
Гомеру надоели эти напоминания. И он с вызовом прочитал многозначительную строку еще раз:
«Глупо внушать людям, что самое лучшее для них – покой. Человек должен действовать. И если у него этой возможности нет, он сам ее создает».
Миссис Гроган даже вздрогнула – ей почудилась в голосе Гомера глухая угроза.
Гомер переписал эту строку четким убористым почерком, не хуже, чем у доктора Кедра, и перепечатал на машинке сестры Анджелы, сделав всего две-три ошибки. Дождавшись, когда Святой Кедр удалится «немного вздремнуть», тихонько вошел в провизорскую и положил цитату из «Джейн Эйр» на его усталую, вздымающуюся и опадающую грудь. Доктора Кедра не так встревожило содержание записки, как мысль, что мальчик знает о его тайном пристрастии, – подумать только, вошел, не боясь разбудить, и даже положил записку на грудь! И он ведь не проснулся, но, может, потому, что на этот раз превысил обычную дозу, мучился сомнениями доктор Кедр. Может, Гомер с умыслом придавил записку эфирной маской, намекая на что-то?
«Ход истории, – писал доктор Кедр, – определяют мельчайшие, часто нераспознанные ошибки». Эта его мысль как нельзя лучше подкрепляется историей названия Сердечной Бухты, схожей в какой-то мере с происхождением имени Мелони. Моряка, открывшего прелестную бухту, на берегу которой вырос городок, звали Сердж. По его имени бухта и была названа изначально. Имя первооткрывателя со временем забылось, и как-то само собой, возможно в результате ошибки писаря, Бухта Серджа превратилась в более понятное Бухта Сердца. А потом уж местные жители стали нежно называть свой городок: Сердечная Бухта. Этот моряк Сердж первый расчистил и плодородную долину Сердечного Камня, вознамерившись стать фермером, но жители Сердечного Камня название своего городка с его именем не связывают.
«Сердце – мускульный мешок конической формы, находящийся в грудной полости…» – шпарил Гомер, вызубрив наизусть чуть не всю «Анатомию». К 194… году он уже видел сердца трех трупов, которых раздобыл для него доктор Кедр (каждый труп прослужил науке два года).
Все трупы, разумеется, были женские, не на мужских же изучать акушерство и гинекологию. Достать их было целой проблемой (с двумя пришлось сразу же расстаться – один прибыл в воде, которой полагалось быть льдом, другой, наверное, плохо забальзамировали). Но три трупа Гомер помнил прекрасно; правда, имя дал только третьему – сработало наконец чувство юмора. Гомер назвал покойницу Кларой в честь слабой, беспомощной матери Давида Копперфильда, позволившей негодяю мистеру Мэрдсону так скверно обращаться с ней и ее сыном.
– Ты бы лучше назвал ее Джейн, – посоветовала Мелони. Она хоть и отождествляла себя с Джейн Эйр, но временами ненавидела ее и в тот день питала к ней именно это чувство.
– А может, Мелони? – пошутил Гомер, но чужой юмор не доходил до нее. Мелони слышала только себя.
На трупе номер два Гомер тренировался перед своим первым кесаревым сечением. Во время операции взгляд доктора Кедра был как прикован к его рукам, отчего Гомер не ощущал их своими: они двигались с такой плавной точностью, что Гомеру невольно думалось, уж не открыл ли доктор Кедр способ делать идеальный разрез силой своей мысли, так что руки были как бы и ни при чем.
Затянувшаяся беседа доктора Кедра, пришедшего забрать прибывший на его имя труп, с начальником станции послужила причиной первого знакомства Гомера с эклампсией, или «родильными судорогами», как называли это осложнение в Бостонском родильном доме в дни юности Уилбура Кедра. В ту минуту, когда доктор Кедр потребовал у начальника станции сопроводительный документ, которым снабжаются путешествующие трупы, и выказал желание поскорее забрать бедняжку Клару, Гомер никак не мог найти на трупе номер два подвздошную вену. Но у него было оправдание – труп номер два отслужил свое, в нем почти все было уже нераспознаваемо. Надо заглянуть в «Анатомию» Грея, подумал Гомер, как вдруг в комнату ворвалась с отчаянным воплем сестра Эдна: ее обычная реакция, когда она видела Гомера в обществе кадавра номер два. Как будто заставала его с Мелони.
– Ой, Гомер! – Она ничего больше не могла прибавить, а только била воздух руками, как испуганная курица крыльями.
Наконец ей удалось жестом махнуть в сторону провизорской. Гомер немедленно бросился туда: на полу лежала женщина с выпученными, невидящими глазами, так что в первое мгновение Гомер принял ее за труп, за которым отправился на станцию доктор Кедр. Но тут женщина зашевелилась, и Гомер понял – перед ним труп без пяти минут.{16} Судороги начались с подергивания лица и скоро распространились по всему телу. Лицо, только что пылавшее, посинело до черноты и залоснилось. Она с такой силой ударила пятками об пол, что туфли слетели с ног и открылись отекшие лодыжки. Челюсти у нее были стиснуты, губы и подбородок в кровавой пене, язык, к счастью, прикушен: не дай бог, он запал бы в дыхательное горло. Дышала женщина с трудом, воздух из груди вырывался с хрипом и свистом; Гомер нагнулся над ней, и в лицо ему фонтаном брызнула слюна, напомнив ярость брызг, летевших с реки, которая смыла на его глазах чету Винклей.
– Эклампсия, – сказал Гомер сестре Эдне и вспомнил объяснение доктора Кедра: слово древнегреческое, имеет отношение к вспышкам света, которые видит больная в первые секунды припадка.
Гомер знал: если беременность протекает под наблюдением врача, эклампсии можно избежать. Ей предшествуют очевидные симптомы: повышенное давление, белок в моче, отеки ног и рук, головные боли, тошнота, рвота и, конечно, яркие вспышки света в глазах. Больным требуется постельный режим, строгая диета, ограниченное питье, регулярное освобождение кишечника. Если указанный режим не помогает, вызывают преждевременные роды; судороги почти всегда сразу же прекращаются, и ребенок часто родится живым. Но пациентки доктора Кедра не только никогда не обращались к врачам, но даже не подозревали, что существуют женские консультации. И вот пожалуйста – пациентка при последнем издыхании, даже по меркам доктора Кедра.
– Доктор Кедр на станции, – спокойно произнес Гомер, подняв глаза на сестру Эдну. – Пошлите за ним кого-нибудь. Вы с сестрой Анджелой нужны здесь, будете мне помогать.
Он поднял женщину и понес в родильную, ощущая ее холодную влажную кожу, напомнившую ему труп номер один и труп номер два, который лежал сейчас, раскромсанный, на столе в комнате, отведенной доктором Кедром для анатомических занятий, за стеной которой была приютская кухня. Из рассказов доктора Кедра Гомер помнил: в прошлом веке врач-акушер дал бы пациентке эфир и, применив расширитель шейки матки, вызвал искусственные роды, что в большинстве случаев заканчивалось смертью роженицы.
Доктор Кедр еще в Бостонском родильном доме узнал, что первым делом надо назначить больной дигиталис перерально, он поддерживает сердце и не дает развиться отеку легких. Гомер слушал хлюпающее дыхание женщины и думал: даже если он помнит объяснения доктора Кедра, похоже, что этой женщине помощь уже не нужна. Он знал: при эклампсии показано консервативное лечение, и уж если вызывать роды, то их течение по возможности должно быть естественным. Женщина на столе застонала, голова и пятки одновременно ударили по столу, огромный живот взмыл в воздух, рука отскочила в сторону и наотмашь ударила Гомера по лицу.
Женщину иногда убивает один-единственный припадок, но бывает, что она остается жива и после сотого. А вот сколько припадков выдержала эта женщина – один или девяносто, этого Гомер, естественно, не знал.
Минут через пять вернулась с сестрой Анджелой сестра Эдна. Гомер распорядился дать женщине морфий, а сам ввел в вену магнезию, чтобы снизить давление. Затем попросил сестру Эдну взять у больной мочу, а сестру Анджелу проверить мочу на белок. Больная была в сознании, отвечала на вопросы, но сказать, сколько у нее было припадков, не могла. Она их не помнила, чувствовала только их приближение и последующее состояние опустошенности. Родить, по ее словам, ей предстояло еще через месяц.
С приближением судорог Гомер дал ей вдохнуть немного эфира, надеясь, что это уменьшит их интенсивность. Припадок на этот раз имел иной характер, хотя по силе не уступал первому: движения были более плавны, протяженны, но, пожалуй, даже более мощны. Гомер налег ей на грудь, но тело ее взвилось, как отпущенное пружиной лезвие ножа, и Гомер слетел с нее, как перышко. Во время следующей паузы Гомер исследовал влагалище – шейка матки еще не сгладилась и маточный зев не раскрылся, значит, роды еще не начались. Гомер мучился сомнениями, начинать ли роды. Как ему не хотелось принимать это решение! Куда же девался Кедр?
За доктором отправили воспитанника, у которого вечно тек нос; он вернулся один, без доктора, распустив сопли до нижней губы и размазав по щеке. Сопли засохли, и получился точь-в-точь след от удара хлыстом. Звали мальчугана Кудри Дей (имя придумала, конечно, сестра Анджела); шмыгая носом, он сообщил, что доктор Кедр уехал на поезде в Пороги-на-третьей-миле, куда начальник станции, в приступе религиозного фанатизма, отправил прибывший медленной скоростью труп. Начальник станции отказался его принять, и труп последовал дальше. Разъярившись на начальника, доктор Кедр вскочил в следующий поезд, начав погоню.
– Ох! – всплеснула руками сестра Эдна.
Гомер начал давать больной дигиталис. В очередную передышку спросил, оставит ли она ребенка в приюте или приехала сюда как в ближайший родильный дом, другими словами – нужен ли ей этот ребенок.
– Вы думаете, он умрет? – не ответив, спросила женщина.
– Конечно нет, – улыбнулся Гомер ободряющей улыбкой доктора Кедра, а про себя подумал: если в ближайшие часы роды не вызвать, ребенок наверняка погибнет; если поспешить с родами, очень вероятно, что погибнет мать.
Женщина рассказала, что приехала сюда с попутной машиной, потому что у нее никого во всем свете нет, взять ребенка ей некуда, но она очень-очень хочет, чтобы он родился живой.
– Да, – кивнул Гомер, как будто сам принял это решение.
– Вы очень молоды, – сказала женщина. – Я не умру?
– Нет, конечно. – Гомер опять улыбнулся, подражая Кедру: может, хоть это придаст ему солидности.
Но после двенадцати часов борьбы с эклампсией (было уже семь припадков) Гомер и думать забыл про солидность.
Посмотрев на сестру Анджелу, помогающую держать бьющуюся в судорогах женщину, Гомер сказал:
– Будем вызывать роды. Надо вскрыть плодный пузырь.
– Я уверена, Гомер, ты знаешь, что делать. – Сестра Анджела тоже попыталась ободряюще улыбнуться, но улыбка явно не получилась.
Через двенадцать часов начались потуги. Гомер потом так и не мог вспомнить, сколько припадков перенесла женщина. Теперь его больше беспокоило, что с Кедром; страх мешал принимать роды, и он силился его подавить.{17}
Еще через два часа женщина родила здорового мальчугана почти шести фунтов. Состояние ее, как и ожидал Гомер, сразу улучшилось. Судороги стали меньше, давление снизилось, белок в моче упал.
Вечером этого дня Уилбур Кедр вместе со спасенной Кларой – скоро так нарекут труп номер три, – усталый, но торжествующий, вернулся в Сент-Облако.
Накануне утром он имел бурное объяснение с начальником станции, который не принял странствующий в одиночку труп. Вскочив в следующий поезд, Кедр доехал до Порогов-на-третьей-миле. Но и там начальника станции чуть не хватил удар. Клара проехала еще одну станцию, потом еще одну, доктор Кедр следовал за ней по пятам, отставая на один поезд. Если бы кто и принял эту необычную посылку, так только затем, чтобы предать ее земле. Но в обязанности начальников похороны заблудившихся трупов не входят, так зачем же принимать труп, за которым никто не придет, – адресат-то в Сент-Облаке! Тем более что преданию земле он явно не предназначался: контейнер издавал неземные звуки – хлюпанье бальзамирующего состава; кожа была как гуттаперча, сквозь которую проступали вены и артерии цвета космических бездн. «Что бы это ни было, – категорически заявил начальник станции Порогов-на-третьей-миле, – мне оно ни к чему».
Так Клара миновала Пороги, Мизери-клин, Мокси-клин, Ост-Мокси. На станции Гармония (штат Мэн), где Клара задержалась минут на пять, напугав до полусмерти станционный персонал, доктор Кедр устроил грандиозный скандалище.
– Это мое тело! – вопил он. – На нем мое имя! Оно предназначено для студента-медика, проходящего практику в моей больнице «Сент-Облако». Это мое тело! Слышите, вы, мое! – бушевал он. – Почему вы отправили его не в ту сторону? По какому праву лишили меня наглядного пособия?
– Оно прибыло к нам, а не в Сент-Облако, – оправдывался начальник станции. – Там, мне сдается, его не приняли.
– Наш начальник совсем спятил! – Доктор Кедр от ярости даже подпрыгнул – невысоко, чуть-чуть. Но тоже произвел впечатление слегка спятившего.
– Может, оно так, а может, и нет, – продолжал железнодорожный страж. – Тело адресовано не нам, и я его не принял.
– Господи помилуй! Ведь это не вурдалак!
– А я и не говорю, что вурдалак! Хотя кто его знает. За две минуты не разберешь!
– Обормоты! – крикнул доктор Кедр, едва успев вскочить на подножку отходящего поезда.
В Корнвилле, где поезд не останавливался, доктор Кедр выглянул в окошко и крикнул двум работникам с картофельных ферм, которые махали вслед поезду:
– В Мэне идиотов не сеют, не жнут!
В Скоухегене спросил у начальника, куда, тысяча чертей, приедет в конце концов его тело.
– В Бат, наверное, – ответил тот. – Ведь его послали оттуда, а по указанному адресу никто его не востребовал. Значит, рано или поздно вернется обратно.