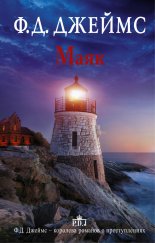Талтос Райс Энн
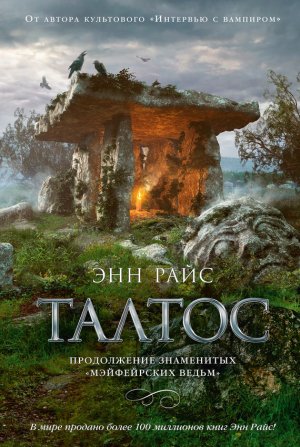
– Она не может больше рожать. Но найдутся другие. Их целая семья, и есть одна столь могущественная, что даже…
Юрий почувствовал, как тяжелеет его голова. Он поднял правую руку, прижал ее ко лбу и огорчился, что она оказалась слишком теплой. Наклонившись вперед, он ощутил дурноту. Медленно расслабил спину, пытаясь не потянуть или не сотрясти плечо, и закрыл глаза. Затем опустил руку в брючный карман, вынул маленький бумажник, раскрыл его и достал из потайного кармашка маленькую яркую школьную цветную фотографию Моны: его милая с замечательной улыбкой, с ровными белыми зубами, с копной жестких, но прекрасных рыжих волос. Девочка-ведьма, любимая ведьма, но ведьма вне всякого сомнения.
Юрий вновь промокнул салфеткой глаза и губы. Руки у него тряслись так сильно, что лицо Моны расплывалось.
Он увидел, как длинные тонкие пальцы Эша коснулись края фотографии. Талтос стоял над ним, одной рукой опираясь на спинку софы, а другой удерживая фотографию, и молча изучал изображение.
– Из того же рода, что и ее мать? – тихо спросил Эш.
Внезапно Юрий выдернул из его руки фотографию и прижал ее к груди. Он согнулся, снова борясь с тошнотой, но боль в плече немедленно парализовала все движения.
Эш вежливо отстранился от него, подошел к каминной полке и оперся о нее руками. Огонь сразу стал стихать. Спина Эша совершенно распрямилась. Густые черные волосы вились над самым воротником, полностью прикрывая шею. Со своего места Юрий не увидел ни одного белого волоса в его шевелюре – лишь очень темные локоны, темные, с коричневатым оттенком.
– Значит, они будут пытаться захватить ее. – Эш, все еще стоявший спиной к Юрию, теперь из-за расстояния между ними был вынужден говорить несколько громче. – Они попытаются или добраться до нее, или захватить другую ведьму из этого же рода.
– Да, – ответил Юрий. Он был вне себя от бешенства. Как мог он подумать, что не любит ее? Как могла она так внезапно отдалиться от него? – Они будут стараться захватить ее. О господи, но мы дали им такое преимущество! – воскликнул он, только теперь в полной мере осознавая опасность. – О боже, мы играем им на руку! Компьютеры! Документы! Вот что произошло с орденом!
Он встал. В плече стучала боль. Это его не заботило. Он все еще держал фотографию, ладонью прижимая ее к рубашке.
– Как это – «играть на руку»? – спросил Эш, оборачиваясь.
Огонь камина вспышками освещал его лицо, отчего глаза становились темно-зелеными, почти как у Моны, а галстук казался кровавым пятном.
– Генетические тесты! – воскликнул Юрий. – Вся семья проходит тестирование, чтобы исключить возможность нового совпадения генов ведьмы-мужчины и ведьмы-женщины и рождения Талтоса. Вы понимаете? Они могут сравнивать различные документы – генетические, генеалогические, медицинские. В этих документах будет записано, кто могущественная ведьма, а кто нет. Господи боже, они будут знать, кого надо выбрать. Будут знать лучше, чем глупый Талтос! В этом знании, которого у него никогда не было, заключается их оружие. Ох, он пытался найти эту женщину среди такого множества. Он убивал их. Каждая из них погибала, не подарив ему того, чего он жаждал: ребенка женского пола. Но…
– Можно мне еще раз взглянуть на фотографию этой молодой рыжеволосой ведьмы? – неуверенно спросил Эш.
– Нет, – отрезал Юрий. – Вам нельзя.
Кровь бросилась ему в лицо. Он ощутил влагу на плече. Рана открылась. У него началась лихорадка.
– Вам нельзя, – повторил он, глядя на Эша. Эш не ответил.
– Пожалуйста, не просите меня, – уже совсем другим тоном продолжил Юрий. – Вы нужны мне, нужна ваша помощь, но не просите меня показать ее лицо… не теперь.
Они глядели друг на друга.
– Согласен, – кивнул Эш. – Конечно, я больше не буду просить вас об этом. Но полюбить очень сильную ведьму крайне опасно. Вы знаете это, не так ли?
Юрий не ответил. В один миг он понял все: что Эрон погиб, что Мона в опасности, что почти всех, кого он когда-то любил или кем дорожил, у него уже отняли, что ему остается лишь робко надеяться на счастье, удовлетворение и радость в будущем, но он слишком слаб, утомлен и ранен, чтобы обдумывать свои дальнейшие действия. Ему придется оставаться в кровати в соседней комнате, которую он не осмеливался даже осмотреть. Это будет первая кровать, в которую он сможет лечь, с того момента, когда его пронзила пуля. Он знал, что никогда в жизни не покажет фотографию Моны этому существу, стоявшему рядом и глядевшему на него с обманчивой мягкостью и лжевозвышенным терпением. Он знал, что в любой момент может рухнуть без сознания.
– Пойдем, – сказал Сэмюэль с грубоватой нежностью, подходя к нему своей обычной раскачивающейся походкой. Толстая шишковатая ладонь коснулась руки Юрия. – Тебе следует лечь в постель. Поспи. Мы вернемся сюда с горячим ужином, когда ты проснешься.
Юрий позволил проводить себя к двери. Но все же что-то остановило его, побуждая к сопротивлению маленькому человечку, обладавшему силой не меньшей, чем у любого взрослого мужчины нормального роста. Юрий обернулся и еще раз взглянул на высокого человека, стоявшего у каминной полки.
Затем он вошел в спальню и, к своему удивлению, в полубессознательном состоянии упал на кровать. Маленький человечек стянул с него ботинки.
– Простите меня, – сказал Юрий.
– Не стоит беспокоиться, – ответил маленький человек. – Тебя укрыть одеялом?
– Нет. Здесь тепло и спокойно.
Юрий услышал, как дверь за карликом затворилась, но глаза не открыл. Он уже соскальзывал в бездну, прочь от всего, однако видение, явственно представшее ему на грани засыпания, заставило в ужасе очнуться: Мона сидела на краю своей кровати и призывно манила его себе. Волосы у нее между ног были рыжими, но темнее волос на голове.
Юрий открыл глаза. На миг ему показалось, что вокруг царит полная тьма, и его встревожило отсутствие света, который здесь должен был быть. Затем постепенно он осознал, что рядом стоит Эш и смотрит на него сверху. Испытывая инстинктивный страх и отвращение, Юрий лежал неподвижно, устремив взгляд на длинное шерстяное пальто незваного гостя.
– Я не заберу фотографию, пока вы спите, – сказал Эш шепотом. – Не беспокойтесь. Я пришел сказать вам, что должен вечером уехать на север и побывать в долине. Я вернусь завтра и надеюсь найти вас здесь, когда приеду.
– Я оказался не столь умен, не так ли? – спросил Юрий. – Показывать вам ее фотографию было глупо.
Он все еще пристально вглядывался в черную шерсть. И вдруг прямо перед лицом увидел пальцы правой руки Эша. Он медленно повернулся и посмотрел вверх. Близость большого лица этого человека ужаснула его, но он не произнес ни звука и просто уставился в глаза, смотревшие на него с безжизненным любопытством, а затем перевел взгляд на чувственный рот.
– Мне кажется, что я схожу с ума, – сказал Юрий.
– Нет, ничего подобного не происходит, – возразил Эш, – но теперь вы должны быть умнее. Спите. Не опасайтесь меня. И оставайтесь здесь в безопасности с Сэмюэлем до моего возвращения.
Глава 4
Морг, маленький и грязный, состоял из четырех комнатушек со старым белым кафелем на полу и стенах, с ржавыми стоками и скрипящими железными столами.
«Только в Новом Орлеане можно увидеть такое, – подумала Роуан. – Только здесь могут позволить тринадцатилетней девочке подойти к телу, увидеть все это и заплакать».
– Выйди отсюда, Мона, – сказала она. – Позволь мне осмотреть Эрона.
Ноги ее тряслись, а руки еще более. Происходило нечто похожее на старую шутку: вы трясетесь, вас скручивает, и кто-то спрашивает: «А чем вы зарабатываете себе на жизнь?» А вы отвечаете: «Я не-не-нейрохирург!»
Она постаралась сдержать дрожь в руках и подняла окровавленную простыню. Машина не повредила его лицо. Да, несомненно, это Эрон.
Здесь не место воздавать ему почести, вспоминать о его постоянной доброте и тщетных попытках помочь ей. Достаточно одного воспоминания, которое затенит грязь, вонь и кошмар, в котором оказалось это когда-то достойное тело, превратившееся теперь в бесформенную груду на испачканном столе.
Эрон Лайтнер на похоронах ее матери. Эрон Лайтнер берет ее за руку, чтобы провести сквозь толпу совершенно посторонних людей, приходящихся ей родственниками, и подвести к гробу матери. Эрон, знающий точно, что именно хочет сделать Роуан и что она должна сделать: взглянуть на превосходно загримированное лицо и надушенное тело Дейрдре Мэйфейр.
Ни одно косметическое средство не коснулось этого человека, лежащего здесь – за пределами бытия, в атмосфере глубокого безразличия. Его белые волосы, сверкающие, как всегда, – символ мудрости и необыкновенной жизнеспособности… Мертвые глаза открыты… Расслабленный рот теперь, возможно, кажется более знакомым и естественным – свидетельство жизни, почти лишенной горечи, ярости или мрачности.
Роуан положила руку ему на лоб и слегка сдвинула голову на одну сторону, а затем обратно. Она определила время смерти – менее двух часов назад.
Грудная клетка проломлена. Рубашка и пальто пропитались кровью. Несомненно, легкие мгновенно опали, и даже до этого сердце могло разорваться.
Она нежно прикоснулась к губам Эрона, пытаясь раздвинуть их (будто была его возлюбленной и, дразня, готовилась поцеловать, подумалось ей). Глаза Роуан наполнились слезами, а чувство скорби внезапно оказалось столь глубоким, что в памяти ожил аромат белых цветов на похоронах Дейрдре. Его рот был заполнен кровью.
Она посмотрела ему в глаза, уже не отвечавшие на ее взор. «Понимаю тебя, люблю тебя!» Она склонилась ниже. Да, он умер мгновенно. Умер от разрыва сердца, но не мозга. Роуан провела рукой по его векам, чтобы закрыть глаза, и задержала пальцы.
Кто в этом жутком остроге смог бы произвести приличное вскрытие? Стоит только взглянуть на пятна на стене.
Она подняла простыню повыше и затем сорвала ее, неуклюже и нетерпеливо, – она и сама не могла бы объяснить почему. Правая нога раздроблена. Очевидно, нижняя часть ноги со ступней была оторвана и впоследствии положена обратно в шерстяную штанину. На правой руке остались только три пальца. Два других были отрезаны. Кто-нибудь пытался подобрать пальцы?
Послышался скрежещущий звук. Это полицейский-китаец вошел в комнату, его грязные сапоги производили жуткий шум.
– Все в порядке, доктор?
– Да, – ответила она. – Я уже почти закончила. – Она перешла на другую сторону стола. Положила руку на голову Эрона, на его шею и стояла тихо, думая, слушая, предаваясь воспоминаниям.
Это был несчастный случай с машиной, примитивный и дикий. Если он и страдал, то это не наложило на него никакого отпечатка… Если он и боролся, чтобы избежать гибели, это тоже останется неизвестным навеки. Беатрис видела, как он пытался увернуться от машины, или так она думает. Мэри-Джейн говорила, что он пытался избежать наезда. И не смог.
Наконец она натянула простыню снова. Ей хотелось вымыть руки, но где можно это сделать? Она подошла к раковине, повернула древний кран и подставила пальцы под струю. Затем завернула кран и опустила руки в карманы хлопчатобумажного халата, после чего прошла мимо полицейского в маленькую переднюю с ящиками для невостребованных трупов.
Там был Майкл сигарета в руке, воротник расстегнут, – он выглядел совершенно разбитым от скорби и бремени утешений.
– Хочешь увидеть его? – спросила она. В горле еще стоял болезненный ком, но это теперь не имело никакого значения. – Его лицо в полном порядке. На все остальное лучше не смотреть.
– Думаю, нет, – сказал Майкл. – Я никогда не бывал в таких местах прежде. Если ты говоришь, что его сбила машина и он мертв, мне нечего больше знать. Я не хочу его видеть.
– Понимаю.
– От этих запахов меня тошнит. Моне тоже стало плохо.
– Было время, когда мне приходилось привыкать к этому, – сказала Роуан.
Он подвинулся к ней ближе, собрал волосы на ее шее в свою большую, грубую ладонь и неуклюже поцеловал жену, совершенно не похоже на милый, извиняющийся поцелуй, какой он позволял себе в течение недель молчания. Он весь дрожал. Роуан приоткрыла губы и ответила на поцелуй, сжимая Майкла в объятиях, – или по меньшей мере пытаясь это сделать.
– Я должен уйти отсюда, – прошептал он.
Роуан отступила на шаг и заглянула в другую комнату. Китаец-полицейский расправил простыню, прикрывавшую тело, – из уважения, быть может, или для порядка.
Майкл уставился на ящики, стоявшие вдоль противоположной стены. От того, что находилось внутри их, исходил невыносимый запах. Она оглянулась. Один из ящиков не был закрыт, поскольку в нем лежали два тела. Лицо того, что лежало на дне, было обращено вверх, и над ним нависали заплесневевшие розовые ноги другого. Но ужас состоял не в этом и не в зеленой плесени, покрывавшей головы, а в том, что эти двое были уже неотделимы. Невостребованные тела в интимном объятии, словно любовники.
– Я не могу… – сказал Майкл.
– Знаю, пойдем, – отозвалась она.
К тому времени, как они садились в машину, Мона перестала плакать. Она сидела, глядя в окно, столь глубоко погруженная в свои мысли, что казалось невозможным заговорить с ней или как-то иначе отвлечь ее от печальных дум. Время от времени она оборачивалась и бросала взгляд на Роуан. Встречаясь с ней глазами, Роуан ощущала силу и тепло этого взгляда. За три недели, пока она слушала, как это дитя изливает ей свое сердце, Роуан успела полюбить девочку всей душой, хотя сомнамбулическое состояние зачастую не позволяло ей в полной мере оценить поэтичность повествования.
Наследница, носящая под сердцем ребенка, которому суждено управлять легатом. Дитя, обладающее чревом матери и страстностью опытной женщины. Девочка, державшая Майкла в своих объятиях, та, которая в своем богатстве и неведении нисколько не опасалась ни за его изношенное сердце, ни за то, что он может умереть на самой вершине страсти. Он не умрет. Он выкарабкается из этого болезненного состояния и подготовит себя к возвращению в дом жены! А теперь вся вина лежит на Моне, слишком опьяненной, оказавшейся вовлеченной в события, последствия которых ей придется расхлебывать.
Никто не разговаривал, пока машина продвигалась к дому.
Роуан сидела рядом с Майклом, борясь с желанием заснуть, погрузиться в забытье, затеряться в мыслях, текущих с постоянством и невозмутимостью спокойной реки, в мыслях, которые в течение последних недель, сменяя одна другую, теснились в ее голове, образуя завесу столь плотную, что сквозь нее не могли пробиться голоса тех, кто был рядом, – словно их заглушал шум водопада.
Она знала, что намеревается сделать. Это станет еще одним ужасным ударом для Майкла.
В доме царила суета. Повсюду стояли охранники. Однако это никого не удивило, и Роуан не потребовала объяснений. Никто не знал, кто нанял человека, чтобы убить Эрона Лайтнера.
Селия предоставила Беатрис возможность «выплакать все» в гостевой комнате на втором этаже, которую обычно занимал Эрон, и теперь продолжала заботливо опекать ее.
Приехал и Райен Мэйфейр – человек, всегда готовый пойти и на корт, и в церковь, всегда в костюме и в галстуке, всегда знающий, что и как должна семья делать дальше.
Все, конечно, смотрели на Роуан. Она видела все эти лица у своей постели и в течение долгих часов, которые проводила в саду.
Роуан чувствовала себя стесненно в том платье, которое выбрала для нее Мона, так как не могла вспомнить, видела ли его прежде. Но это не имело значения. Как и пища. Она очень хотела есть, и по обычаю, принятому у Мэйфейров, на стол было выставлено все содержимое буфета. Майкл наполнил ее тарелку. Она села во главе обеденного стола и ела, наблюдая, как другие маленькими группками суетливо снуют мимо нее. Она жадно выпила стакан ледяной воды. Ее оставили одну – из уважения или из-за беспомощности? Что могли они сказать ей? Большинство из них знали очень немногое о том, что действительно произошло. Они никогда не поймут причину ее похищения, как они называли это, и не узнают о том ужасе, который ей пришлось пережить. Эти добрые люди искренне переживали за нее, но ничем не могли помочь – разве что оставить ее в покое.
Мона стояла рядом с ней. Мона наклонилась и поцеловала ее в щеку, очень медленно, так что в любой момент Роуан могла остановить ее. Роуан этого не сделала. Напротив, она взяла Мону за руку, притянула ее поближе и вернула поцелуй, восхищаясь ее по-детски нежной кожей, думая о том, какое наслаждение испытывал Майкл, прикасаясь к ней, любуясь ею, проникая в нее.
– Я иду наверх: хочу выспаться как следует, – сказала Мона. – Позови, если понадоблюсь.
– Да, ты мне нужна, – тихо проговорила она, надеясь, что, возможно, Майкл не услышит этих слов. Он стоял справа от нее, опустошая тарелку с едой и прихлебывая из банки холодное пиво.
– Отлично, – сказала Мона. – Я просто полежу. – На лице ее застыло выражение ужаса – усталости, печали и ужаса.
– Мы нужны сейчас друг другу, – еще тише шепнула Роуан.
Мона взглянула ей прямо в глаза и вышла, даже кивком головы не попрощавшись с Майклом.
«Неуклюжее признание вины», – подумала Роуан.
Кто-то в передней комнате неожиданно рассмеялся. Кажется, в роду Мэйфейр смеялись всегда, что бы ни случилось. Когда она умирала наверху, а Майкл рыдал у ее постели, в доме то и дело слышались чьи-то смешки. Она вспомнила теперь об этом отстраненно, без гнева и раздражения, подчиняясь воле событий. По правде говоря, смех звучал всегда более совершенно, чем рыдание, он слышался и в неистовых ритмах, и в нежных мелодиях. С рыданиями стараются бороться. Рыданиями захлебываются.
Майкл прикончил ростбиф с рисом и соусом и допил пиво. Кто-то быстро поставил возле его тарелки новую банку. Он взял ее и залпом выпил половину.
– Хорошо ли это для твоего сердца? – пробормотала она.
Он ничего не ответил.
Роуан поглядела на свою тарелку. Настоящее обжорство.
Рис и соус. Новоорлеанская еда. Ей подумалось, что следует сказать, как ей приятно, что в течение этих недель он подавал ей пищу собственноручно. Но какая польза в том, чтобы говорить ему такие вещи?
Само то, что он так сильно любит ее, уже чудо, как и все случившееся с ней, как и все, что происходит в этом доме с кем бы то ни было, смущенно размышляла Роуан. Она чувствовала, что пустила здесь корни и что нигде в другом месте – даже на «Красотке Кристине», храбро прокладывавшей свой путь под мостом «Голден-Гейт», – ей не было так уютно и спокойно. Она ощущала твердую уверенность в том, что это ее дом, что он никогда не перестанет оставаться таковым, и, глядя на тарелку, вспоминала тот день, когда вместе с Майклом обходила особняк: как она открыла буфет и обнаружила там весь их старый драгоценный фарфор и серебро.
Неужели все это может погибнуть, исчезнуть – уничтоженное, скажем, ураганом или торнадо? Что сказала ее новая подруга, Мона Мэйфейр, всего несколько часов тому назад? «Роуан, это еще не закончилось».
Нет. Не закончилось. А Эрон? Позвонили ли в Обитель, чтобы дать знать его старинным друзьям о том, что с ним случилось, или он должен быть похоронен среди новых друзей и родственников жены? Лампы ярко сверкали на облицовке камина. Сквозь листву лавровишен она видела, что небо сделалось сказочно пурпурным. Старинные стенные росписи побледнели в сумерках комнаты, а в кронах великолепных дубов, способных принести утешение даже тогда, когда не в силах помочь ни одно человеческое создание, зазвенели цикады, и теплый весенний воздух прорывался сюда, в гостиную, а возможно, и дальше – к огромному пустому бассейну и сквозь распахнутые окна, открытые по всему дому, долетал до того участка сада, где покоились тела ее бесподобных детей.
Майкл допил последнюю банку пива и, как обычно слегка примяв ее, аккуратно положил на стол, словно этот большой стол требовал к себе особенно бережного отношения. Он не глядел на Роуан. Он смотрел на ветки лавровишни, слегка прикасающиеся к колонеттам – украшениям в виде изящных групп маленьких колонн – и к стеклам окон на верхних этажах, а может быть, на пурпурное небо и прислушивался к суете скворцов, большими стаями падающих вниз в охоте за цикадами. Повсюду царила смерть, в том числе и в этом танце: цикады шарахались от дерева к дереву и стаи птиц пересекали вечернее небо. Все очень просто: один вид пожирает другой.
«В этом и состоит суть жизни, моя дорогая, – сказала она в день пробуждения. Ее ночная рубашка была испачкана грязью, руки покрыты землей, босые ноги – в жидком месиве возле новой могилы. – Только в этом, Эмалет. В стремлении выжить, дочь моя».
Часть ее души стремилась вернуться к могилам в саду, к железному столу под деревом, к танцу смерти крылатых существ высоко в небе, которые заставляли пульсировать пурпурный ночной воздух под звуки прекрасных песен. Однако другая часть не осмеливалась на это. Если бы она покинула сейчас комнату и подошла к столу, то могла бы увидеть, что ночь прошла, а возможно, и еще что-то… Что-то такое же подлое и безобразное, как смерть Эрона, могло захватить ее снова врасплох и сказать ей: «Проснись, ты нужна им. Ты знаешь, что должна делать». Уж не Эрон ли сам, бестелесный, но по-прежнему заботливый, шепнул ей на ухо эти слова? Нет, едва ли…
Она взглянула на мужа. Ссутулившийся в кресле человек крушил в пальцах злополучную пивную банку, придавая ей форму чего-то круглого и почти плоского. Его взгляд все еще был устремлен на окна.
Он был одновременно и удивительно красив, и невыразимо привлекателен. А ужасающая и постыдная правда состояла в том, что горечь и страдания делали его лишь еще более обольстительным. Переживания не только не портили его, но делали неотразимым. Теперь Майкл не казался невинным, столь не соответствующим своей истинной сущности, нет, его суть просачивалась через великолепную кожу и в конце концов изменила внешность: лицо приобрело едва заметную свирепость и при этом, как ни странно, некоторую мягкость.
Печальные оттенки… Он рассказывал ей когда-то о печальных тонах – во время сверкающего радостью медового месяца, прежде чем их дитя превратилось в чудовище. Он говорил, что в викторианское время люди красили дома в «опечаливающие» цвета, создавая нечто приглушенное, хмурое, неясное. Викторианские дома по всей Америке красили в такие цвета. И он любил их – эти красно-коричневые, оливково-зеленые и серо-стальные оттенки. Однако сейчас следовало бы подумать о другом слове, более точно характеризующем пепельный сумеречный и глубокий мрачно-зеленый оттенки темноты, окутывавшей лиловый дом с ярко окрашенными ставнями.
Теперь она задумалась. Был он «опечален»? Вот о чем думала она сейчас. «Опечаливал» ли он все сам? Повлияло ли на него таким образом все случившееся? Или ей следовало бы найти другое слово для помрачневшего, но все равно дерзкого взгляда, для лица, теперь почти всегда остававшегося замкнутым, однако ни в коей мере злым или угрожающим.
Майкл взглянул на нее, и этот взгляд ударил ее подобно молнии. Поразительно! Печаль и улыбка почти слились воедино. «Повтори это снова, – подумала она, когда он отвернулся. – Порази такими глазами меня еще раз. Сделай их большими и синими и хоть на миг по-настоящему ослепительными».
Роуан коснулась рукой едва заметной бороды на его лице. Провела рукой по его шее, а затем дотронулась до прекрасных черных волос и до недавно поседевших, более грубых, серых, и погрузила в них пальцы.
Он удивленно вскинул взгляд, словно был поражен ее жестом, потом медленно, не поворачивая головы, перевел глаза на нее. Она убрала руку и встала. Он встал рядом с ней.
Роуан ощутила биение пульса в его руке. Пока он отодвигал стул, стоявший у нее на пути, она позволила себе мягко прислониться к нему всем телом.
По лестнице они поднимались не спеша.
Спальня оставалась такой же, как и все последнее время: очень светлой и теплой. Кровать никогда не застилалась, а только аккуратно накрывалась, чтобы Роуан могла прилечь в любой момент.
Она затворила дверь и заперла ее на замок. Он уже снимал с себя пиджак. Она расстегнула блузку и бросила ее на пол.
– Операция, которую сделали, – сказал он. – Я думал, возможно…
– Я вполне здорова и хочу этого.
Он подошел ближе и, повернув Роуан лицом к себе, поцеловал ее в щеку. Она ощутила обжигающую грубость его бороды, силу рук, властно потянувших ее за волосы, когда она попыталась отклонить голову. Она выдернула из брюк его рубашку.
– Сними это.
Роуан расстегнула молнию на юбке, и та упала на пол. Как она похудела! Но ее мало заботило, как выглядит собственное тело. Ей хотелось видеть тело мужа. Она прикоснулась к черным вьющимся волосам на его груди и ущипнула его соски.
– Ах, это слишком сильно, – прошептал он.
Он прижал ее к груди. Ее рука поднялась между его ног и обнаружила, что он тверд и уже готов. Она притянула его к себе, откидываясь на постель, потом перевернулась и упала на холодящую поверхность хлопчатобумажной простыни. Майкл упал на нее всем весом. Боже, эти большие кости снова крушат ее, облако его волос щекочет шею… запах потной плоти и прекрасного одеколона… эта царапающая, толкающая, божественная грубость.
– Сделай это быстро, – прошептала она. – Мы помедлим во второй раз. Наполни меня…
Но он не нуждался в указаниях.
– Сильнее, сильнее, – шептала она сквозь стиснутые зубы.
Член вошел в нее, потрясая своим размером, причинял боль, царапал… Но эта боль была великолепна, исключительна, совершенна. Она сжала член в себе, собрав все силы, которые у нее оставались, но мышцы ослабли и не подчинялись командам – израненное тело предавало ее.
Не имело значения. Он жестоко сокрушил ее, и она кончила, не признаваясь в том ни стоном, ни вздохом, и застыла, опустошенная, с пылающим лицом, с распростертыми безвольными руками, а затем сжала его со всей силой, до боли… А он снова и снова входил в нее могучими рывками, которые резко вскидывали его вверх, а затем заставляли падать в ее объятия, – влажного, знакомого и безумно любимого. Майкл…
Он освободил ее. Он был не в состоянии сразу же начать снова. Этого можно было ожидать. Лицо его покрылось каплями пота, волосы прилипли ко лбу.
Роуан спокойно лежала в прохладе комнаты, нагая, и следила за движением лопастей вентилятора под потолком – странно медленным, почти гипнотическим.
«Лежи спокойно», – приказала она своему телу, своему лону, своему внутреннему «я». Она лежала в полудреме, мысленно обращаясь к воспоминаниям прошлого. Руки Лэшера… Неожиданно Роуан почувствовала, что страшится и одновременно желает его. Дикое, похотливое божество – да, он мог казаться таковым, – но он был человеком, грубым человеком, притом с громадным любящим сердцем Он был столь божественно груб и божественно прост – совершенно ослепительный, жестокий и простой.
Майкл выбрался из кровати. Роуан не сомневалась, что он вскоре уснет. А вот она не сможет.
Но он встал и снова оделся, достав чистую одежду из шкафа в ванной. Он стоял спиной к ней, и когда обернулся, свет из ванной озарил его лицо.
– Почему ты это сделала? Почему ты ушла с ним?
Слова прозвучали словно вопль души.
– Ш-ш-ш! – Она села и приложила палец к губам. – Не возвращайся к этому. Можешь возненавидеть меня, если тебе…
– Ненавидеть тебя? Господи, как ты можешь говорить мне такое? Днем и ночью я только и твердил, что люблю тебя! – Он подошел к кровати и оперся на нее руками. Он возвышался над ней, чудовищно прекрасный в своей ярости. – Как ты могла оставить меня подобным образом? – Он плакал. – Как?
Майкл обошел вокруг кровати и внезапно схватил Роуан за обнаженные руки, причиняя ей невыносимую боль.
– Не смей это делать! – вскрикнула она, пытаясь сдерживать голос, осознавая безобразность сцены, испытывая панический ужас… – Не смей бить меня, я тебя предупреждаю. Это то, что делал он, что он делал снова, и снова, и снова. Я убью тебя, если ты меня ударишь!
Ей удалось высвободиться, и она перекатилась на другую сторону кровати и бросилась в ванную, где холодные мраморные плитки пола словно обожгли босые ступни.
«Убить его? Проклятье! Если ты не остановишь себя, сама, собственной волей, ты со своей силой можешь убить Майкла!»
Сколько раз она пыталась сделать это с Лэшером, плюя на него, с жалкой ненавистью твердя себе: «Убей его, убей его, убей его», – а он только смеялся. А этот человек умрет, если она ударит его своей невидимой яростью. Он умрет, как умирали другие – грязные, жуткие убийцы, искалечившие ее жизнь.
Ужас. Тишина, покой в комнате. Она медленно повернулась, посмотрела сквозь дверь и увидела его, стоящего возле кровати, спокойно смотрящего на нее.
– Мне следовало бы опасаться тебя, – сказал он, – но я не буду. Боюсь только одного. Что ты не любишь меня.
– Ох, но я люблю тебя, – отозвалась она. – И всегда любила. Всегда.
Плечи его на миг опустились, всего на миг, и он отвернулся от нее снова. Он был жестоко ранен, но никогда больше она не увидит на его лице того беззащитного выражения, которое появлялось раньше. Никогда больше он не проявит к ней искреннюю нежность.
У окна, выходящего на веранду, стояло кресло, и он по привычке направился к нему и сел, все еще отвернувшись от нее.
«И я собираюсь ранить тебя снова», – подумала она.
Ей хотелось подойти, поговорить с ним, прикоснуться к нему еще раз. Поговорить так, как в первый день после того, как она пришла в себя, похоронив свою единственную дочь – единственную, которая у нее была, – под дубом. Ей хотелось открыть ему теперь свою абсолютную любовь и разгорающееся волнение, которое она чувствовала тогда, свою абсолютную любовь, бездумную и стремительную, без малейших предосторожностей.
Но, казалось, это совершенно недостижимо, после того как сказаны были последние слова.
Она подняла руки и с силой провела ими по волосам. Затем, скорее всего механически, потянулась к кранам душа.
Под струями воды мысли обрели четкость – возможно, впервые после произошедшего. Шум был приятен, а горячая вода ласкова.
Оказалось, у нее скопилось невероятное богатство платьев, из которых можно было выбрать подходящие на разные случаи жизни. Немыслимое количество одежды в стенных шкафах сбивало с толку. В конце концов она выбрала брюки из мягкой шерсти – старые брюки, которые носила вечность тому назад в Сан-Франциско. А поверх надела обманчиво тяжелый с виду, свободный хлопчатобумажный свитер.
Весенние вечера еще весьма прохладны. И было приятно ощущать себя снова в одежде, которую любила сама. Кто, подумала она, мог купить ей все эти красивые платья?
Она расчесала волосы, закрыла глаза и подумала: «Ты можешь потерять его, и на это есть причина, если не поговоришь с ним теперь, если не объяснишься с ним еще раз, если не постараешься побороть свой собственный инстинктивный страх перед словами и не подойдешь к нему».
Роуан отложила щетку. Майкл стоял в дверях. Она никогда не запиралась на замок. Не сделала это и теперь. Увидев на его лице спокойное, понимающее выражение, Роуан почувствовала огромное облегчение. И чуть не заплакала.
– Я люблю тебя, Майкл, – сказала она. – И готова прокричать это на весь мир. Я никогда не переставала любить тебя. Все дело в тщеславии и гордости, а молчание… молчание означало неудачу души при попытке вылечить и укрепить себя или, быть может, необходимое отступление, к которому стремится душа, как если бы она была неким эгоистичным организмом.
Он слушал внимательно, слегка хмурясь. Лицо оставалось спокойным, но уже не принимало выражения невинности, как прежде. Глаза, огромные и блестящие как всегда, смотрели жестко, и под ними залегли печальные тени.
– Не представляю, как мог бы обидеть тебя именно теперь, Роуан, – произнес он, – я в самом деле не могу, просто не могу.
– Майкл, но…
– Нет, позволь мне сказать. Я знаю, что с тобой случилось. Знаю, что он сделал. Поверь, знаю. Но я не имею права винить тебя, сердиться на тебя, обижать тебя так же. Не имею!
– Майкл, я все понимаю, – сказала она. – Не надо. Хватит, или ты заставишь меня плакать.
– Роуан, я его уничтожил. – Майкл понизил голос до шепота, как поступают многие, говоря о смерти. – Я уничтожил его, и это еще не все! Я… Я…
– Нет. Не говори ничего больше. Прости меня, Майкл, прости ради себя и ради меня. Прости меня.
Она наклонилась вперед и поцеловала его, намеренно лишив возможности вдохнуть, чтобы он не смог ничего сказать. И на этот раз, когда он сжал ее в объятиях, они были исполнены прежней нежности, былого драгоценного тепла и огромной заботы. Она снова ощутила себя защищенной – защищенной, как это было при их первом любовном свидании.
Должно быть, сейчас происходило нечто более прекрасное, чем просто возможность чувствовать себя в его объятиях, нечто более драгоценное, чем просто ощущение близости к нему. Но она не могла задумываться сейчас об этом – конечно, дело было не в волнении страсти. Оно тоже присутствовало – очевидно, чтобы радоваться и наслаждаться снова и снова. Но здесь было еще нечто такое, чего она не познала ни с одним другим существом на земле, – вот, видимо, в чем дело!
Наконец он оторвался от нее, взял ее руки и поцеловал их, после чего ослепил ее снова открытой мальчишеской улыбкой, точно такой же, какую, как она думала, ей больше не удастся увидеть. А потом подмигнул и сказал:
– Похоже, ты действительно любишь меня по-прежнему, малыш.
– Да, – отозвалась она, – очевидно. Я однажды поняла это, и так будет вечно. А сейчас давай выйдем из дома и пойдем под дуб. Я хочу немного побыть вблизи их – не знаю почему. Ты и я – мы единственные знаем о том, что они там вместе.
Они проскользнули вниз по задней лестнице, через кухню. Охранник возле бассейна просто кивнул им. В саду стемнело, когда они нашли железный стол. Она прильнула к Майклу, и он прижал ее к себе. «Да, это только сейчас, а потом ты снова возненавидишь меня, – подумала она. – Да, ты станешь презирать меня».
Она целовала его волосы, щеку, терлась лбом о его колючую бороду, ощущая ответное дыхание, глубокое и мощное – полной грудью.
«Ты станешь презирать меня, – думала она. – Но кто еще может найти тех, кто убил Эрона?»
Глава 5
Самолет приземлился в Эдинбургском аэропорту в одиннадцать часов вечера. Эш дремал, отвернувшись от окна. Он увидел свет фар приближающихся машин, черных, немецкого производства седанов, которые по узким дорогам доставят его и его маленькую свиту в Доннелейт. Такое путешествие можно было раньше совершить только верхом на лошади. Эш радовался предстоящей поездке – не потому, что любил опасные путешествия по горам, но потому, что хотел доехать до долины без задержки.
Современная жизнь всех превратила в нетерпеливых, спокойно подумал он. Сколько раз за свою долгую жизнь выезжал он в Доннелейт, чтобы посетить место своих самых трагических утрат и вновь перебрать в памяти события жизни? Иногда путь в Англию и оттуда на северо-запад Шотландии, в высокогорье, занимал у него несколько лет. В другие времена на это уходило несколько месяцев. Теперь совершение такого путешествия стало делом нескольких часов. И он радовался этому. Ибо приезды сюда никогда не были для него делом трудным или только целительным. Скорее, это были визиты к самому себе.
Теперь он ждал, пока молодая, но уже опытная помощница Лесли, летевшая с ним из Америки, принесет пальто и уберет одеяло и подушку.
– Хотели поспать, моя голубушка? – спросил он ее с мягкой укоризной.
Слуги в Америке озадачивали его. Они совершали странные вещи. Он не удивился бы, увидев, что она переоделась в ночную рубашку.
– Это для вас, мистер Эш. Перелет продолжался почти два часа. Я думаю, они вам могут понадобиться.
Он улыбнулся, проходя мимо нее. «Что может значить для нее такая поездка? – подумал он. – Ночное путешествие по неизвестным просторам?» Шотландия для нее ничем не отличается от любого другого места, куда он иногда брал своих помощников. Никто из них даже не догадывается, что значит Шотландия для него.
Едва они ступили на стальную лестницу, неожиданно налетел ледяной ветер. Здесь оказалось даже холоднее, чем в Лондоне. Похоже, это путешествие привело его из одного полюса холода в другой, а теперь еще и в третий. Ему нестерпимо захотелось снова оказаться в тепле лондонской гостиницы. Он подумал о цыгане, раскинувшемся на подушках, красивом, стройном, со смуглой кожей и с жестким ртом, с черными как уголь бровями и ресницами, загибающимися кверху как у ребенка.
Он прикрыл глаза тыльной стороной руки и заспешил вниз по металлическим ступеням – к машине.
Почему у детей всегда такие длинные ресницы? Почему позже они их утрачивают? Нуждаются ли они в такой дополнительной защите? И как это дело обстоит у Талтосов? Он не смог припомнить, было ли у него когда-либо детство. Хотя, несомненно, у Талтосов тоже существовал такой период.
«Утраченное знание…» Эти слова произносились при нем так часто, что, казалось, он слышал их с первых дней жизни.
Его возвращение, ощущение необходимости в горестной беседе с переполненной чувствами душой можно было сравнить со своего рода агонией.
Душа… «У тебя нет души», – так ему говорили.
Сквозь тусклое стекло он наблюдал за юной Лесли, проскользнувшей на пассажирское место впереди. Он был доволен, что заднее отделение целиком было предоставлено ему и что нашлись две машины, которые перевезут его со свитой на север. Было бы невыносимо теперь сидеть близко к человеку, слышать человеческую болтовню, ощущать запах здоровой человеческой женщины – такой милой и юной.
Шотландия. Запах лесов. Запах моря и морской ветер.
Машина идет плавно. Опытный водитель. Он почувствовал благодарность. Его не трясло и не бросало из стороны в сторону до самого Доннелейта. На миг он увидел отражение слепящих огней позади: охранники неуклонно следуют за ним, как всегда. Ужасное предчувствие охватило его. Зачем он решил пройти через это тяжелое испытание? Зачем отправился в Доннелейт? Зачем ему понадобилось вновь взбираться на гору и посещать святые гробницы прошлого? Он закрыл глаза и на секунду увидел сверкающие волосы маленькой ведьмы, в которую так глупо, словно мальчишка, влюбился Юрий. Он видел зеленые глаза, смотревшие на него с фотокарточки. Ведьма фальшиво улыбается, подвязав волосы яркой лентой, словно маленькая девочка. Юрий, ты глупец!
Машина набрала скорость.
Он не мог ничего увидеть сквозь густо тонированное стекло. Обстоятельство, достойное сожаления. Полное безумие. В Штатах в его собственных машинах стекла были светлыми. Конфиденциальность никогда его не беспокоила. Лучше видеть мир окрашенным в естественные цвета – это было ему так же необходимо, как вода и воздух. Быть может, ему стоит поспать немного, причем без сновидений.
Послышавшийся из динамика над головой голос молодой женщины испугал Эша.
– Мистер Эш, я звонила в гостиницу. Они готовятся к нашему прибытию. Не желаете ли остановиться где-либо сейчас?
– Нет, я хочу как можно быстрее попасть туда, Лесли. Расположитесь поудобнее, возьмите одеяло и подушку. Путь предстоит долгий.
Он закрыл глаза. Но сон не шел. Это будет одно из таких путешествий, когда он будет ощущать каждую рытвину на дороге.
Так почему не поразмышлять о цыгане снова: худощавое темное лицо, блеск зубов, белых и безукоризненных, как это свойственно современным людям… Возможно, он богат, этот цыган. «Богатый маг» – пришло ему в голову во время беседы.
Мысленным взглядом он расстегнул пуговицы и распахнул белую блузку на фотокарточке, чтобы увидеть груди. Вообразил розовые соски и дотронулся до голубых вен, проступающих под кожей…
Эш вздохнул, издал какой-то тихий звук и отвернулся в сторону.
Желание оказалось столь болезненным, что Эшу пришлось усилием воли заставить его исчезнуть. Затем он снова увидел цыгана, его длинную темную руку, лежащую на подушке. И вновь ощутил запахи леса и долины, неразрывно связанные с цыганом.
– Юрий… – прошептал он и представил, как склоняется над ним, поворачивает к себе и целует в рот.
Это ощущение было подобно пребыванию в раскаленной печи. Он сел и наклонился вперед, опершись локтями на колени, а лицом – на руки.
– Музыка, Эш, – сказал он себе спокойно, снова восстановив прежнюю позу, и повернулся к окну.
Напрягая зрение в попытке разглядеть хоть что-то сквозь жуткое темное стекло, он начал едва слышно напевать слабеньким фальцетом песню, которую не мог бы понять никто, кроме Сэмюэля, и даже Сэмюэль, возможно, ее не помнил.
Было два часа ночи, когда он велел водителю остановиться. Он не мог продолжать путь. За тонированным стеклом скрывался весь мир, который он жаждал увидеть. Он не мог ждать дольше.
– Мы почти приехали, сэр.
– Я это знаю. Город находится всего в нескольких милях впереди. Вы поедете прямо туда. Устройтесь в гостинице и ждите меня. А сейчас позвоните охранникам в машину позади нас. Скажите, чтобы они следовали за вами в город. Отсюда я пойду один.
Он не стал дожидаться неизбежных возражений и протестов, вышел из машины, стукнув дверцей, прежде чем водитель успел прийти ему на помощь, и, слегка взмахнув рукой с пожеланием доброго пути, быстро пошел по краю дороги, направляясь в глубь холодного леса.
Ветер уже стих. Луна, пробиваясь сквозь тучи, озаряла землю переменчивым слабым сиянием. Он ощутил вокруг себя запахи шотландских сосен, увидел темную холодную землю. Храбрые всходы ранней весенней травы сминались у него под ногами. Эш почувствовал слабый запах первых цветов.
Стволы деревьев были приятно шершавыми, когда он касался их пальцами.
Долгое время он продвигался все вперед и вперед, иногда оступаясь, иногда хватаясь за толстый ствол, чтобы удержать равновесие. Он не останавливался, чтобы перевести дыхание. Он знал этот склон. Он знал каждую звезду над головой, хотя облака старались укрыть их от его взгляда.