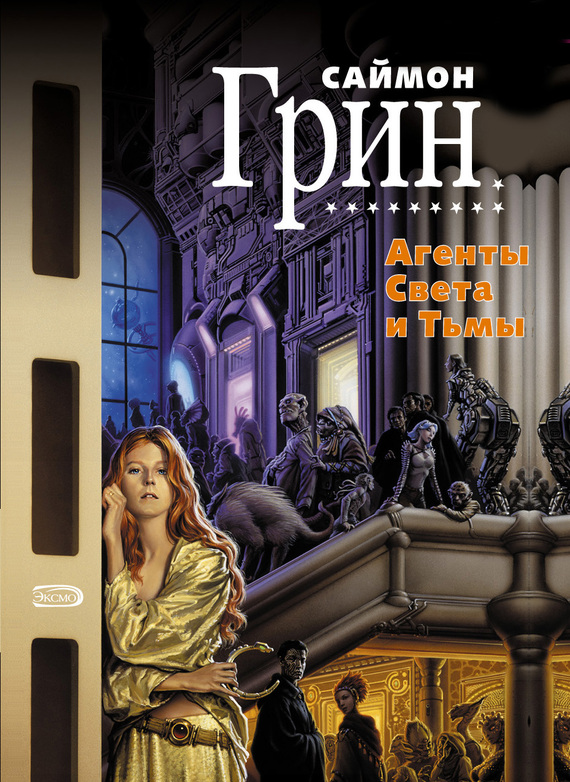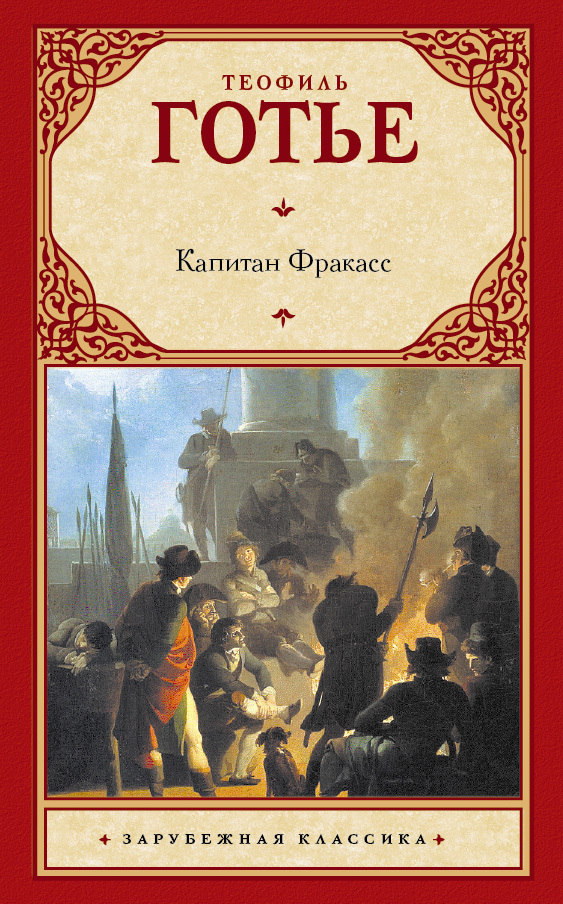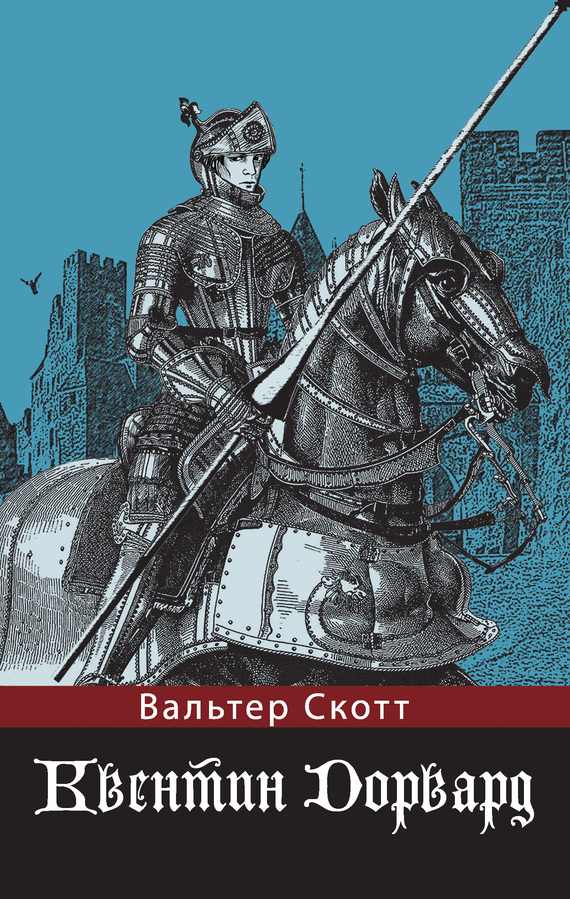Сердцедер Виан Борис
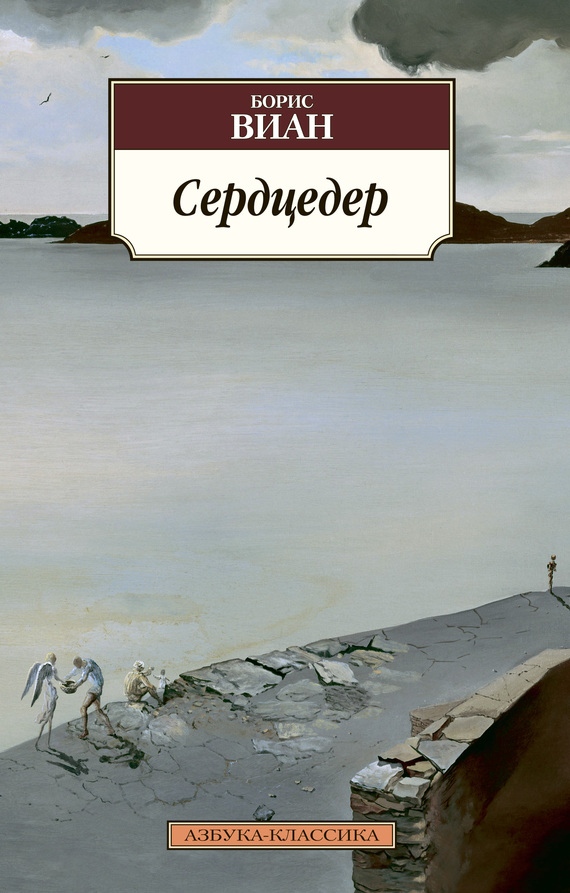
Она взглянула на него.
— Я больше не могу прикасаться к тебе, — сказала она, — но если бы только это… Может быть, и смогла бы. Но я даже не могу себе представить, что ты дотрагиваешься до меня, хотя бы на долю секунды. Какой ужас!
— Ты с ума сошла, — сказал Ангель.
— Нет, не сошла. Любой физический контакт с тобой мне омерзителен. Я к тебе очень хорошо отношусь… То есть… я бы хотела, чтобы ты был счастлив… только не такой ценой… только не это… Это слишком дорогая плата.
— Но ведь я ничего от тебя не хотел, — возразил Ангель. — Я просто повернулся и нечаянно тебя задел. Ты доводишь себя до такого состояния, что…
— Ни до какого, — перебила она. — Отныне это мое естественное состояние. Спи у себя в комнате… Прошу тебя, Ангель. Пожалей меня.
— Ты не в себе, — прошептал он, качая головой.
Он положил ей руку на плечо. Она задрожала, но сдержалась. Он нежно поцеловал ее в висок и стал собираться.
— Я пошел к себе, — сказал он. — Не волнуйся, моя дорогая…
— Послушай, — не успокаивалась она, — я… я не хочу… не знаю, как тебе это объяснить… я больше не хочу… и не думаю, что захочу когда-нибудь снова… Попробуй найти себе другую женщину. Я не буду ревновать.
— Ты меня больше не любишь, — грустно промолвил Ангель.
— Как раньше — нет, — сказала она.
Он вышел. Она по-прежнему сидела в кровати и не сводила глаз с вмятины на подушке Ангеля. Во сне голова мужа всегда съезжала на край.
Один из детей заворочался. Она прислушалась. Ребенок успокоился. Она выключила свет. Теперь ей принадлежала вся кровать, и ни один мужчина больше никогда к ней не прикоснется.
XXI
Потушил свет в своей комнате и Жакмор. Затихали далекие поскрипывания пружинного матраца начиненной на ночь служанки. Несколько секунд психиатр неподвижно лежал на спине. События последних дней проносились в головокружительном вальсе перед его глазами, сердце бешено билось в такт. Но постепенно он расслабился и заскользил в бессознательное, смыкая утомленные веки на сетчатке, исполосованной колючим чертополохом диковинных видений.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Далеко за садом, аж за разорванным мысом, чью бороду денно и нощно расчесывает море, над обрывом возвышался шлифуемый ветрами каменный исполин — ядреный мрачный гриб неправильной формы, с которым, кроме коз да папоротника, и водиться-то никто не хотел. Из дома его было не видать. Имя ему было Земляной Человяк — в пику Морскому Человяку, его покосившемуся влево братцу, что торчал из воды как раз напротив. Земляной Человяк представлялся легко доступным с трех сторон. Четвертая же, северная, готовила незваному гостю целую цепь почти непроходимых ловушек и западней, как будто специально придуманных каким-нибудь коварным корбюзьером, дабы сделать подъем на глыбу маловероятным.
Иногда таможенники приходили сюда тренироваться, и весь день напролет затянутые в полосатые бело-зеленые трико ветераны вколачивали в новичков науку скалолазания, незаменимую при борьбе с контрабандой, которая того и гляди превратится в стихийное бедствие.
Но в тот день место было пустынным. На руку Клементине, которая, вжимаясь в камень, очень осторожно и медленно продвигалась вверх.
Покорения вершины с восточной, западной и южной сторон в предыдущие дни вспоминались теперь как детские забавы. Сегодня ей придется выложиться до конца. А ухватиться не за что, рука лишь скользит по телу Человяка — гладкому и твердому граниту.
Она вплотную прижималась к почти вертикальному оледеневшему склону. В трех метрах над ней дразнился выступ, за который можно было бы зацепиться. Вот там-то и начнутся настоящие трудности: верхняя часть Человяка представляла собой одну большую нависшую блямбу. Но сначала нужно было преодолеть эти три метра.
Она висела над пустотой, носки сандалий втирались в длинную узкую трещину, бегущую по скату наискосок. Набившаяся в щель земля плодила какую-то мелкую поросль; живая зеленая полоска красовалась на сером граните, словно награда «За доблесть в посевную» на лацкане учительского сюртука.
Клементина дышала медленно и глубоко. Проползти мухой. Метра три. Не больше. Всего три метра. Два ее роста.
Присматриваясь к каменной поверхности, можно было различить какие-то шероховатости. Но смотреть на них следовало с расстояния достаточно близкого, чтобы различать, но не слишком близкого, чтобы не осознавать их очевидной ненадежности.
Она ухватилась за эти хлипкие выпуклости и подтянулась. Гранит ласкал колени через легкую ткань штанов. Ее ступни находились на тридцать сантиметров выше зеленой травяной полоски.
Она сделала глубокий вдох, оглянулась и снова полезла наверх. Через десять минут она уже отдыхала на узкой площадке перед последним этапом восхождения. Пот заливал лицо, волосы прилипали к вискам. Она чувствовала, как из нее испариной выходит растительный запах.
Она боялась пошевелиться, каждый сантиметр был на счету.
Она оглянулась; Морской Человяк предстал перед ней в непривычном ракурсе, да еще пенисто опоясанным. Высоко поднявшееся солнце разбрызгивало влажные блестки вокруг узловатых прибрежных рифов.
Нависшая над пропастью оконечность Земляного Человяка манила альпинистку: соблазн устремленного ввысь желобка-корешка, слегка наклоненного и чуть приоткрытого фолианта, острый и зыбкий угол нужного направления.
Клементина откинула назад голову, оглядела цель и нежно заурчала от удовольствия. Мокрое пятно расползалось по ее промежности.
II
Засранцы бегали на четвереньках по комнате, в которой их запирали до кормления в три-о-клок. Спали они теперь много меньше и с удовольствием осваивали различные позы и движения.
Ноэль и Жоэль дружно визжали. Ситроэн, не роняя своего достоинства, с важным видом ползал вокруг маленького низкого столика.
Жакмор разглядывал детей. В последнее время он часто приходил к ним; тройняшки становились все больше похожими на маленьких человечков, чем на личинки червяков. Благодаря климату и оказываемой заботе они развивались чрезвычайно быстро. Первенцы-двойняшки уже обзавелись светлыми гладкими волосенками. Третий — последыш, курчавый и темноволосый, как и в день своего рождения, — казался старше своих братьев на целый год.
И конечно же, все трое пускали слюни. Каждая остановка маленького путешественника отмечалась на ковре влажным пятнышком, которое на какую-то долю секунды тянуло из слюнтявого рта длинную нить, хрустально хрупкую и призрачно прозрачную.
Жакмор наблюдал за Ситроэном. Тот, глядя себе под ноги, продолжал описывать круги, с каждым разом все медленнее и медленнее. Обессилев, остановился и сел. Поднял глаза и посмотрел на столик.
— О чем задумался? — спросил Жакмор.
— Ба! — ответил Ситроэн.
Он протянул руку к столику. Слишком далеко. Не вставая с пола, он потянулся и, уцепившись пальцами за край стола, встал.
— Молодец, — похвалил его Жакмор. — Вот так и надо.
— А! Ба! — ответил Ситроэн.
Он отпустил столик, сразу же плюхнулся на пол и удивленно посмотрел на Жакмора.
— Вот, — сказал тот. — Не надо было отпускать. Это же так просто. Через семь лет ты в первый раз причастишься, через двадцать — закончишь учебу, а еще через пять — женишься.
Ситроэн недоверчиво покачал головой и снова встал.
— Ладно, — произнес Жакмор. — Надо бы предупредить сапожника или кузнеца. Здесь, видишь ли, воспитание суровое. Хотя подковывают же лошадей, и ничего страшного с ними от этого не происходит. Пускай твоя мать решает.
Он потянулся. Ну и жизнь! И совершенно некого психоанализировать. Служанка по-прежнему не поддавалась. Никакого прогресса.
— Я вас, жеребятки, сам отвезу в деревню, — сказал он. — Я уже, наверное, месяц там не появлялся.
Ситроэн опять кружил вокруг столика, но теперь уже на своих двоих.
— Смотри-ка, — поразился Жакмор. — Быстро схватываешь. Даже не думал, что ты так вырвешься вперед. Ну что же, будет мне компания…
Жоэль и Ноэль забеспокоились, Жакмор посмотрел на часы.
— Ах да, пора. И уже давно пора. Что же делать, каждый может опаздывать.
Жоэль заплакал. Ноэль подхватил. Безучастный Ситроэн бросил на братьев высокомерный взгляд.
Клементина пришла в полчетвертого. Жакмор все сидел на том же самом месте и, казалось, не слышал рева двойняшек. Невозмутимый Ситроэн сидел на коленях у психиатра и дергал его за бороду.
— Наконец-то, — сказал Жакмор и принялся разглядывать Клементину. Левая штанина разодрана в клочья, на виске — огромный кровоподтек.
— Похоже, вы хорошо развлеклись, — произнес он.
— Да, неплохо, — холодно ответила она. — А вы? Спокойный, уравновешенный тон так не вязался с нервным состоянием, которое угадывалось во всех ее жестах.
— Какой бардак! — критически высказалась Клементина немного спустя.
— Они хотят пить, — сказал Жакмор. — Они, знаете ли, нуждаются в вас не меньше, чем какие-то булыжники.
— Я не могла прийти раньше, — ответила она. — Сначала возьмем самого спокойного.
Она сняла Ситроэна с колен психиатра и усадила в кресло. Жакмор тактично отвернулся; смотреть на кормление было неприятно из-за сети голубых вен, покрывающей белизну кожи. К тому же сам процесс, как ему казалось, полностью извращал истинное назначение женской груди.
— А вы знаете, он пошел, — сообщил психиатр.
Она вздрогнула и невольно вынула сосок изо рта ребенка. Тот безмолвно ждал.
— Пошел? — она поставила его на пол. — Ну-ка!
Ситроэн уцепился за ее штаны и выпрямился. В некотором замешательстве она снова взяла его на руки. Рыдающие двойняшки подползли к ней на четвереньках. .
— А эти? — спросила она.
— Эти — нет, — ответил он.
— Вот и хорошо, — сказала она.
— Похоже, вам не нравится, что он пошел? — подсказал психиатр.
— Ну, — прошептала Клементина, — далеко эти цыплята не уйдут.
Ситроэн закончил сосать. Она притянула Жоэля и Ноэля за рубашонки и усадила для кормления.
Жакмор встал.
— А вообще-то вы их все еще любите? — спросил он.
— Они такие славные, — ответила Клементина. — И потом, я им нужна. Вы собираетесь уходить?
— Мне надо размяться, — сказал Жакмор.
— Зайдите к кузнецу, — приказала Клементина, — по поводу Ситроэна.
— Почему вам так хочется, чтобы они росли как деревенские дети?
— А почему бы и нет? — сухо возразила Клементина. — Вам это не нравится?
— Не нравится, — ответил Жакмор.
— Ну и сноб! — сказала Клементина. — Мои дети будут воспитаны по-простому.
Он вышел из комнаты. Ситроэн проводил его взглядом; детское лицо было печально, как каменный лик святого в разрушенной после бомбежки церкви.
III
Появилась служанка.
— Вы меня звали? — спросила она.
— Перепеленай их и уложи спать, — сказала Клементина.
Затем внимательно посмотрела на девушку и заметила:
— Ты неважно выглядишь.
— Ой! — расстроилась та. — Госпожа так думает?
— По-прежнему спишь с Жакмором? — спросила хозяйка.
— Да, — ответила служанка.
— Ну и что он с тобой делает?
— Ну, он на меня залазит.
— А выспрашивает о чем-нибудь?
— А то! — возмутилась служанка. — И почувствовать-то толком ничего не успеешь, а он уже слазит, и давай выспрашивать.
— А ты не отвечай, — сказала Клементина. — И больше с ним не спи.
— Так ведь свербит, — возразила девушка.
— Фу, какая мерзость. Вот сделает он тебе ребенка, тогда увидишь.
— Пока еще не сделал.
— Дождешься, — прошептала Клементина, почувствовав озноб по всему телу. — Как бы там ни было, лучше с ним не спать. Да и вообще, все это выглядит так отвратительно.
— Так мы ж с задка; гляди — не гляди, мне все равно ничего не видно, — сказала девушка.
— Пошла вон! — цыкнула Клементина.
Белянка забрала детей и вышла. Клементина вернулась в свою комнату. Разделась, растерлась одеколоном, обмыла ранку на лице и легла на спину прямо на пол, чтобы сделать гимнастику.
После упражнений перебралась на кровать. В следующий раз она не опоздает на кормление. Дети не должны ждать. Дети должны есть точно по расписанию, а остальное не важно.
Ангель лежал на кровати в неимоверно скорбной позе. Услышав троекратный стук в дверь, он поднял глаза и произнес: «Да».
Жакмор вошел в комнату и сразу же пристыдил:
— Конечно же, опять бездельничаем.
— Опять, — ответил Ангель.
— Ну, а вообще-то как? — спросил психиатр.
— Так, — ответил Ангель. — У меня лихорадка.
— Ну-ка, — Жакмор подошел к Ангелю и пощупал его пульс. — Действительно, — подтвердил он и уселся на кровать:
— Ноги уберите.
Ангель забился в угол. Жакмор, устроившись поудобнее, начал поглаживать бороду.
— Что же наш больной еще натворил? — спросил он.
— Сами знаете, — ответил Ангель.
— Искал другую?
— Нашел другую.
— Переспал?
— Не смог, — сказал Ангель. — Как только я оказываюсь с ней в постели, меня сразу же начинает лихорадить.
— А Клементина больше не хочет?
— Нет, — ответил Ангель. — А от других меня лихорадит.
— Знать, совесть нечиста, — заключил психиатр.
Ангель улыбнулся, почувствовав подковырку.
— Видно, вас зацепило, когда я сказал вам то же самое, — заметил он.
— Еще бы, — согласился Жакмор, — еще бы не зацепило, особенно если совести и в помине нет.
Ангель ничего не ответил. Он чувствовал себя явно не в своей тарелке. Расстегнув воротник, жадно вдыхал майский воздух.
— Я только что виделся с вашей женой, — сообщил Жакмор, желая отвлечь Ангеля от него самого. — Малыши растут чертовски быстро. Ситроэн уже стоит на ногах.
— Бедняга, — промолвил Ангель. — В таком возрасте… ноги от этого пойдут вкривь и вкось.
— Да нет, — возразил Жакмор. — Если он сам встает, значит, в ногах достаточно силы, чтобы держать тело.
— Природе видней, — прошептал Ангель.
— Ваша жена послала меня к кузнецу, — сказал Жакмор. — Вас не пугает, что она воспитывает их слишком сурово?
— Что я могу сказать, — ответил Ангель. — Страдал ведь не я, а она. Это дает ей все права.
— Категорически возражаю, — возразил Жакмор. — Не может такое бесполезное чувство, как страдание, дать кому бы то ни было на что бы то ни было какие бы то ни было права.
— Она относится к ним действительно плохо? — спросил Ангель, не обращая внимания на тираду психиатра.
— Нет, — ответил Жакмор. — К себе самой она еще более сурова. Но это не повод. Все это притворство и дурное воспитание.
— Я думаю, что она их любит, ~ сказал Ангель.
— М-м… да, — ответил Жакмор.
Ангель замолчал. Ему было явно нехорошо.
— Вам следовало бы отвлечься, — посоветовал Жакмор. — Покатайтесь на лодке.
— У меня нет лодки…
— Постройте лодку.
— Ну и идеи же у вас, — проворчал Ангель.
Жакмор встал и объявил:
— Я пошел за кузнецом. Раз она так хочет.
— Сходите завтра, — попросил Ангель. — Дайте этому бедолаге еще один день.
Жакмор покачал головой.
— Даже не знаю. Если вы против, то так и скажите.
— Я — лицо подчиненное, — сказал Ангель. — А потом, мне кажется, что она права. Ведь она — мать.
Жакмор пожал плечами и вышел. Широкая лестница, выложенная кафелем, дрожала под его ногами. Он быстро пересек холл и оказался в весеннем саду. Оплодотворенную землю так и распирало; вызревшие волшебные семена разрывались то там, то сям тысячью огненных лепестков, которые выглядывали из зияющих прорех травяного бильярдного поля.
IV
На следующий день была среда, Жакмор, подходя к деревне, решил обойти стороной главную улицу с ярмарочной площадью. У околицы он свернул на тропу и стал пробираться огородами, где росли дико-зеленые уртикарии и куделябзии, окрещенные крестьянами кровьпивцей.
Развалившись на пристенках и подоконниках, вальяжно солнцевались кошки. Все было тихо и мертво. Несмотря на постоянно обгладывающую его тоску, психиатр смог расслабиться и даже почувствовать себя, клеточно выражаясь, функциональным.
Он знал, что за домами с правой стороны течет полнокровный ручей, который чуть дальше сворачивает влево. Поэтому нисколько не удивился, увидев, что и тропинка под тем же самым углом повернула влево, — психиатр внезапно подумал, что протяженность ферм представляет собой величину постоянную.
В нескольких десятках метров от него группа людей выполняла, судя по всему, какую-то сложную работу. Расстояние между Жакмором и местом действия быстро сокращалось; раздался душераздирающий крик. Истошный вопль — сочетание боли и легкого удивления — с ведущей нотой гнева и слабым отзвуком смирения, которые никак не могли ускользнуть от чуткого слуха психоаналитика.
Он ускорил шаг и пульс. На высоких воротах из неотесанного дуба крестьяне распинали коня. Жакмор подошел поближе. Шесть мужчин прижимали животное к деревянной двери. Двое приколачивали переднюю левую ногу. Огромный гвоздь с блестящей шляпкой прошел уже насквозь, по шерсти текла кровь. Так вот чей крик пронзил Жакмора.
Крестьяне продолжали трудиться, не обращая внимания на психиатра, как если бы он находился далеко отсюда, на Антильских островах, например. Только конь посмотрел на него большими карими глазами, заплывшими от слез, и оскалился, пытаясь изобразить что-то вроде жалкой виноватой улыбки.
— За что вы его? — тихо спросил Жакмор. Один из зевак равнодушно ответил:
— Так то ж жеребец-производитель. А он возьми и согреши!
— Ну и что в этом страшного? — спросил Жакмор.
Зевака плюнул на землю, но ничего не ответил. Тем временем приступили к прибиванию правой лошадиной ноги. Удар кувалды — и гвоздь ушел под шкуру, побледневшую от страха; Жакмора передернуло. Как и несколько минут назад, жеребец издал резкий, пронзительный крик. Плотно прижимая копыто к двери, палачи надавили так сильно, что суставы не выдержали чудовищного напряжения, затрещали и вывернулись в обратную сторону. Вздернутые вверх бабки образовали острый угол, начинающийся с выразительной морды. Привлеченные экзекуцией мухи уже успели облепить кровоточащие дыры.
Крестьяне, поддерживающие круп, разделились на две группы, по нижней конечности на каждую; теперь следовало прижать копыта к порогу двери. Остолбеневший Жакмор не упускал ни одной детали в производимой операции. Он почувствовал в горле набухающий колючий ком и с трудом его проглотил. Живот жеребца дрожал, грузный член, казалось, ужимался и прятался в складках кожи.
Со стороны дороги донеслись еле различимые голоса. Жакмор даже не заметил, как к бригаде присоединились огромный мужик и подросток. Мужчина держал руки в карманах, волосатая грудь вываливалась из шерстяной майки, подпаленный кожаный фартук хлопал по коленям. Хилый подросток — жалкий подмастерье — тащил тяжелый железный котел с раскаленными углями, из которого торчала рукоятка покрасневшего крюка.
— А вот и кузнец, — сказал кто-то.
— Вы все-таки поступаете жестоко по отношению к этой лошади, — не удержался, хотя и вполголоса, Жакмор.
— Это не лошадь, — сказал крестьянин. — Это осеменитель.
— Но он ничего плохого не сделал.
— Его никто не заставлял, — произнес кузнец. — Не надо было грешить.
— Но ведь это входит в его обязанности, — возразил Жакмор.
Подмастерье поставил котел на землю и с помощью мехов раздул огонь. Кузнец пошуровал в углях, посчитав температуру достаточной, вытащил крюк и повернулся к жеребцу.
Жакмор развернулся и побежал прочь. Он мчался, выставив локти вперед, зажимая кулаками уши, и кричал, пытаясь заглушить в себе отчаянные стенания лошади. Остановился он уже почти в самой деревне, на маленькой площади, от которой было совсем близко до церкви. Его руки опустились. Невозмутимо гладкий красный ручей, который он только что перешел по легкому деревянному мосту, даже не поморщился. Поодаль, к своей лодке, отфыркиваясь, плыл Слява; его зубы сжимали кусок блеклого расслаивающегося мяса.
V
Жакмор застыл в нерешительности и огляделся. Никто не обращал внимания на его самозабвенное бегство. Церковь стояла на своем месте — белое яйцо с синим отверстием — витражом для высасывания. Оттуда доносилось тихое пение. Жакмор обошел здание, неторопливо поднялся по ступеням и вошел внутрь.
Стоя перед алтарем, кюре отбивал такт. Десятка два ребятишек пели гимн для первого причастия. Поэтические изыски заинтриговали психиатра, он подошел ближе и прислушался.
Шип-шиповник — нам цветок,
Жир да шкварки — сало наше,
Счастье нам — говна кусок,
А Иисус — намного краше.
Травка — это для скотины,
Мяско — это для папаши,
Волосины — для лысины,
А Иисус — намного краше.
Иисус — сверхурочка,
Иисус — прибавучка,
Иисус — роскошнючка…
Тут психиатр догадался, что автором гимна был сам кюре, и перестал вслушиваться, посчитав, что получить экземпляр из первых рук не составит труда. Музыка немного успокоила его встревоженный рассудок. Не желая отвлекать кюре от репетиционных занятий, он тихонько сел на скамью. В церкви было прохладно, детские голоса резонировали в просторном помещении, эхо цеплялось за резьбу на стенах. Блуждая взглядом по церковным интерьерам, Жакмор заметил, что амвон с крышкой вернулся на свое место, а два мощных шарнира отныне позволяли всей конструкции безущербно откидываться назад. Он вдруг подумал, что со дня крещения засранцев не приходил сюда ни разу, что время бежит, а оно и вправду бежало, так как тень уже успела погасить синее пламя витража, затихали детские голоса; таково уж взаимовоздействие музыки и темноты, ибо их вкрадчивость елейно промывает и перевязывает душу.
Из храма он вышел умиротворенным и сразу же решил зайти к кузнецу, чтобы не навлечь на себя гнев Клементины.
Вечер наступал. Жакмор шел по направлению к деревенской площади, ведомый легким парящим запахом паленого рога. Он закрыл глаза, чтобы не сбиться с пути, и нюх привел его прямо к мрачной лавке, в глубине которой подмастерье раздувал мехами огонь в жаровне.
Перед дверью стоял мерин в ожидании последней подковы. Его к тому же только что остригли, всего, за исключением нижней части копыт, и Жакмор с восхищением рассматривал красивые округлые бабки, покатую спину, мощную грудь и вздыбившуюся густую жесткую гриву.
Из темноты появился кузнец. Жакмор узнал в нем мужчину, который час назад приходил пытать жеребца.
— Здравствуйте, — сказал Жакмор.
— Здравствуйте, — ответил кузнец.
В правой руке он держал клещи с зажатым в них куском раскаленного металла. В левой — тяжелый молот.
— Подними ногу, — приказал он мерину.
Тот подчинился и был вмиг подкован. Густой голубой дым от паленого копыта заклубился в воздухе. Жакмор кашлянул. Мерин опустил копыто и постучал им по земле.
— Ну как? — спросил кузнец. — Не жмет?
Мерин покачал головой — мол, в самую пору, — положил ее на плечо кузнецу. Тот погладил ему ноздри. После чего животное с достоинством удалилось. На земле остались клочки волос, как на полу в парикмахерской.
— Эй! — крикнул кузнец подмастерью. — Подмети-ка здесь!
— Слушаюсь, — ответил подмастерье.
Кузнец развернулся, но Жакмор удержал его за руку.
— Скажите…