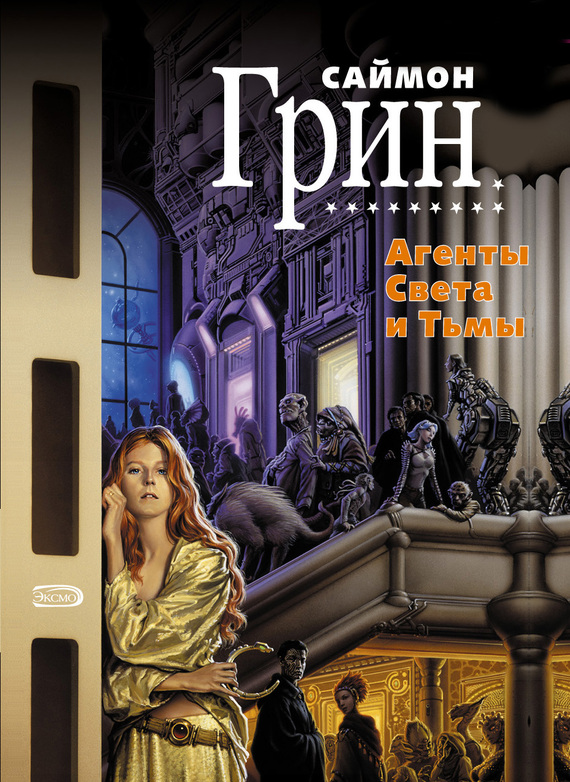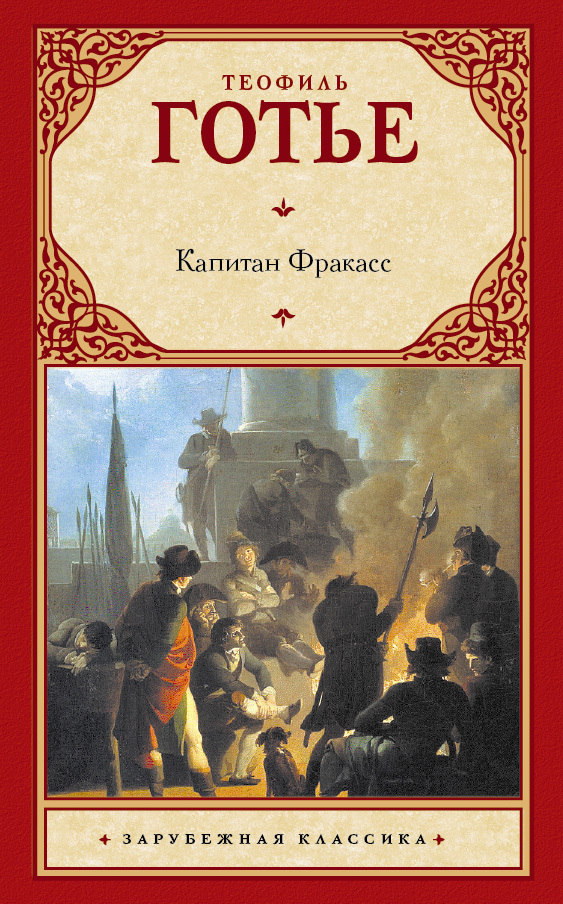Звездное наследие Саймак Клиффорд

— Мне стыдно. Я не буду об этом говорить.
— Спасибо, — сказала она и повернулась, чтобы идти дальше.
— Можно мне пройти с тобой немного?
— Я иду в эту сторону, — ответила она, — Ты идешь к дому.
— До свидания, — сказал он.
Она стала спускаться по склону. Когда она оглянулась, он все еще стоял на прежнем месте. Ожерелье из медвежьих когтей блестело на солнце.
Глава 5
Инопланетянин походил на клубок червей. Он съежился между валунов, у маленькой березовой рощицы, прилепившейся к краю ущелья; деревья клонились вниз и нависали над высохшим руслом ручья. Падающий сквозь листву солнечный свет пятнами ложился на словно плетеное тело инопланетянина; оно преломляло лучи, и казалось, он лежит в россыпи осколков радуги.
Джейсон Уитни прислонился к стволу молодого ясеня на поросшем мхом берегу. Вокруг стоял слабый тонкий запах опавших осенних листьев.
Он омерзителен, подумал Джейсон, и тут же постарался прогнать эту мысль. Инопланетяне бывали не так уж плохи, но этот хуже всех. Если бы он, по крайней мере, не двигался, подумал Джейсон, можно было бы как-то освоиться и привыкнуть к нему. Но клубок червей безостановочно шевелился, отчего делался еще отвратительнее.
Джейсон мысленно осторожно потянулся к нему, намереваясь дотронуться, затем, испугавшись, отпрянул и понадежнее упрятал сознание внутрь себя. Надо успокоиться, прежде чем пытаться разговаривать с этим существом. На своем веку он перевидал так много инопланетян, что должен был сохранять невозмутимость, однако этот выводил его из состояния равновесия.
Он сидел неподвижно, слушая глухую тишину, вдыхая запах опавших листьев, не позволяя себе думать ни о чем определенном. Именно так это и делается — подбираешься к нему тайком, притворяясь, будто вовсе не замечаешь.
Но инопланетянин не стал ждать. Он выбросил мысленный щуп и дотронулся до Джейсона твердо, спокойно и тепло, что так не соответствовало его внешнему облику.
— Приветствую тебя, — сказал он в ответ, — Надеюсь, что, обращаясь к тебе, я не преступаю никаких законов и не нарушаю границ чужих владений. Я знаю, кто ты. Я видел таких, как ты. Ты человеческое существо.
— Да, — ответил Джейсон, — я человек. Добро пожаловать. Ты не преступаешь никаких законов, ибо у нас их очень мало. И не нарушаешь границ чужих владений.
— Ты один из путешественников, — сказал клубок червей. — Сейчас ты отдыхаешь на своей планете, но, бывает, отправляешься очень далеко.
— Не я, — сказал Джейсон. — Путешествуют другие. Я не покидаю своего дома.
— Значит, я достиг цели. Планета путешественника, с которым я общался очень-очень давно. До сих пор я не был полностью уверен в этом.
— Это планета Земля, — сказал Джейсон.
— Да, такое название, — радостно ответило существо, — Я не мог его вспомнить. Тот, другой, описал ее мне, и я искал ее повсюду, лишь в общих чертах представляя себе направление, в котором она должна находиться. Но я не сомневался, когда сюда прибыл, что это та самая планета.
— Ты хочешь сказать, что искал нашу Землю? Ты не просто остановился отдохнуть здесь?
— Я явился сюда искать душу.
— Явился искать что?
— Душу, — ответило существо, — Тот другой, с которым я общался, сказал, что у людей были души и, возможно, они есть и сейчас. Хотя он не был уверен в этом и вообще проявил глубокое невежество. Я заинтересовался его рассказом о душах, однако он не смог мне объяснить, что же это такое. Я сказал себе, втайне конечно, что такую замечательную вещь стоит поискать. И поэтому пустился на розыски.
— Возможно, тебе интересно будет узнать, — сказал Джейсон, — что многие люди тоже искали свои души.
Какое странное стечение обстоятельств, подумалось ему. Кто из наших мог разговориться с этим существом об идее души? Маловероятная тема для беседы, и к тому же в ней таятся определенные опасности. Однако, скорее всего, разговор был несерьезным, или, по крайней мере, тот человек говорил не всерьез. Хотя этот клубок червей, похоже, принял его слова настолько близко к сердцу, что отправился на поиски.
— Я чувствую в твоем ответе что-то странное, — сказал инопланетянин. — Можешь ли ты мне сказать, что у тебя есть душа?
— Нет, не могу, — ответил Джейсон.
— Если бы она у тебя была, ты бы, конечно, знал.
— Необязательно.
— Ты говоришь, — сказало существо, — как говорил тот, с которым мы вместе просидели полдня на вершине холма на моей прекрасной планете. Мы беседовали о многом, но больше всего о душах. Он тоже не знал, есть ли у него душа, и не мог сказать с уверенностью, есть ли она у других людей или была ли в прошлом. И он не мог объяснить мне, что это такое, душа, и можно ли ее обрести. Похоже, он полагал, что знает преимущества обладания душой, однако говорил он об этом как-то очень туманно. Его объяснение во многих отношениях чрезвычайно неудовлетворительно, однако мне показалось, в нем есть зерно истины. Если я сумею найти дорогу к его родной планете, подумал я, кто-нибудь предоставит мне сведения, которые я ищу.
— Мне жаль, — сказал Джейсон. — Ужасно жаль, что ты проделал столь долгий путь и зря потратил столько времени.
— Ты ничего не можешь мне сказать? Здесь нет никого другого?
— Может быть, и есть, — сказал ему Джейсон и быстро добавил: — Я не уверен.
Он сказал лишнее и знал это. Он не мог знакомить Езекию с этим существом. Езекия и без того тронутый, а тут и подавно сойдет с ума.
— Но должны же быть другие.
— Нас только двое.
— Ты, несомненно, ошибаешься, — ответил инопланетянин, — Сюда приходили двое. Не с тобой. Они стояли и смотрели на меня, а потом ушли. Мне не удалось установить с ними связь.
— Они не могли тебя слышать, — сказал Джейсон. — И не могли ответить. Их мозг для другого. Но они сказали мне о тебе. Они знали, что я смогу поговорить с тобой.
— Но есть еще один, с кем я мог бы говорить.
— Да. Остальные находятся там, далеко среди звезд. С одним из них ты и разговаривал.
— С этим вторым?
— Не знаю, — сказал Джейсон, — Она никогда не говорила ни с кем, кроме своих. Она с ними здорово общается, независимо от расстояния.
— Значит, ты единственный. И ты ничего не можешь мне сказать.
— Послушай, это старая идея. Никогда не существовало никаких доказательств. Была одна лишь вера. Человек говорил себе: у меня есть душа. Он в это верил, потому что так говорили ему другие. Говорили властно. Без рассуждений и объяснений. Говорили это так часто, и он сам себе говорил это так часто, что никогда не задавался вопросом, есть ли у него душа. Но никогда не было никаких свидетельств. Не было никаких доказательств.
— Но, досточтимый сэр, — взмолился инопланетянин, — ты скажешь мне, что же такое душа?
— Многие полагают, — ответил Джейсон, — что она есть. Это часть тебя. Невидимая и неощущаемая. Не часть твоего тела. Даже не часть твоего сознания. После твоей смерти она продолжает жить и живет вечно. Или предполагается, что она живет вечно, и условия, в которых она оказывается после твоей смерти, зависят от того, каким ты был.
— Кто судит о том, каким ты был?
— Божество, — сказал Джейсон.
— А это божество?..
— Не знаю, — сказал Джейсон, — Я просто не знаю.
— Ты откровенен со мной. Я сердечно тебе благодарен за откровенность. Ты говоришь приблизительно то же, что и тот, другой, с которым я беседовал.
— Может быть, найдется еще один, — сказал Джейсон, — Если я разыщу его, я с ним поговорю.
— Но ты сказал…
— Я знаю, что сказал. Это не человек. Это другое существо, возможно более осведомленное, чем я. Но ты не сможешь с ним говорить. Придется предоставить это мне.
— Я тебе доверяю, — звучал голос из клубка червей.
— Пока же позволь пригласить тебя в гости, — продолжал Джейсон, — У меня есть жилище, и в нем найдется место для тебя. Мы были бы рады тебе.
— Ты испытываешь замешательство при виде меня, — сказал инопланетянин.
— Не стану лгать, — ответил Джейсон. — Но я говорю себе, что ты тоже, возможно, испытываешь его при взгляде на меня.
Лгать не было смысла, Джейсон это знал. Существу не требуются слова, чтобы понять, какие чувства он испытывает.
— Вовсе нет, — сказало существо. — Я ко всему отношусь терпимо. Однако, вероятно, нам лучше быть порознь. Я буду ждать тебя здесь.
— Тебе что-нибудь нужно? — спросил Джейсон.
— Нет, спасибо. Мне хорошо. Я ни в чем не нуждаюсь.
Джейсон встал, чтобы уйти.
— У тебя чудесная планета, — сказал инопланетянин, — Такое тихое, спокойное место. И исполнено странной красоты.
— Да, мы тоже так считаем. Чудесная планета.
Джейсон вскарабкался по узкой тропке, сбегавшей в ущелье. Солнце уже прошло зенит и клонилось к западу. Вдалеке громоздились темные грозовые тучи, готовые поглотить солнце. С появлением туч тишина, казалось, стала еще более глубокой. Он слышал, как тихо ложатся на землю падающие листья. Где-то далеко слева цокала белка. Сегодня — великолепный день, подумал он, совершенно великолепный, и, даже если пойдет дождь, он все равно будет великолепным во всех отношениях. Жаль, что его испортила эта свалившаяся на него проблема.
Чтобы сдержать слово, данное инопланетянину, Джейсону придется поговорить с Езекией, но что может выйти из разговора с этим самозваным роботом-аббатом, неизвестно. Хотя, может быть, и несправедливо называть его самозванцем. Кто теперь взялся бы утверждать, что роботы не вправе взять на себя эту задачу: поддерживать искру древней человеческой веры?
И насчет этой веры… Почему люди от нее отвернулись? В тот день, когда человечество было куда-то перенесено, вера еще существовала. Ее следы заметны в ранних записях, которые делал его дед в первой из своих книг. Возможно, она сохранилась в несколько ином виде среди индейцев, хотя никогда не проявляется в их общении с Джейсоном. Некоторые, а может, и все молодые люди устанавливают тайные связи с предметами окружающего мира. Сомнительно, однако, чтобы это можно было назвать верой. О ней никто не говорил вслух, и потому, естественно, Джейсон располагал лишь самыми скудными сведениями.
На Земле остались не те люди, подумал он. Если бы неведомая сила, что унесла куда-то человечество, сделала иной выбор, древняя вера могла бы процветать даже более, чем когда-либо раньше. Но в его семье и среди людей, которые находились в большом доме на мысе в ту роковую ночь, вера уже была подорвана, оставаясь не более чем цивилизованной условностью, которой они безразлично подчинялись. Возможно, когда-то она была исполнена смысла. Вера пережила период пышного расцвета, затем — увядания и упадка и наконец превратилась лишь в тень своего былого могущества. Она стала жертвой неверного поведения человека, его всепоглощающей идеи собственности и прибыли. Люди охотнее строили величественные здания, полные пышности и блеска, чем заботились о вере в сердце и в мыслях своих. И вот ее поддерживают существа, которые даже не люди, машины, которым придали сходство с человеком только развитие технологии и человеческая гордыня.
Джейсон добрался до вершины гряды; лес остался внизу, и в открывшейся перспективе он увидел грозовые тучи на западе. Они громоздились все выше и уже закрыли солнце. Джейсон зашагал чуть быстрее, чем обычно. Сегодня утром он раскрыл свою летописную книгу, она по-прежнему лежала открытой у него на столе, но он не записал в нее ни строчки. Утром еще нечего было записывать, однако теперь появилось так много нового: приход Горация Красное Облако, инопланетянин в ущелье и его странная просьба, желание Вечерней Звезды читать книги и то, что он пригласил ее пожить с ним и Мартой. Он успеет кое-что записать до обеда, а после вечернего концерта снова сядет к столу и завершит свой отчет о событиях дня.
Музыкальные деревья настраивались; один молодой побег заметно фальшивил. За домом робот-кузнец громко стучал по металлу — скорее всего, трудился над плугом. Тэтчер говорил, припомнил Джейсон, что все плужные лемеха снесены в дом, чтобы подготовить их к приходу весны и новому севу.
Открылась дверь внутреннего дворика, вышла Марта и двинулась по дорожке ему навстречу. Какая она красивая, подумал он, красивее, чем в тот далекий день, когда они поженились. Они хорошо жили вместе. В нем поднялась теплая волна благодарности за всю полноту жизни.
— Джейсон! — крикнула Марта, поспешая навстречу, — Джейсон, у нас Джон! Твой брат Джон вернулся!
Глава 6
Из записи в журнале от 2 сентября 2185 года:
…Я часто размышляю о том, как же случилось, что мы остались здесь. Если людей куда-то перенесли, то вследствие какой причуды судьбы или рока сила, вызвавшая их исчезновение, не тронула тех, кто находился в доме? Монахов из монастыря, что стоит в миле от нас по дороге, забрали. Людей с сельскохозяйственной станции, которая сама по себе являлась довольно крупным поселком, забрали. Большое поселение в пяти милях выше по реке, где жили рыбаки, было опустошено. Остались мы одни.
Порой я думаю, не сыграло ли здесь роль то социальное и финансовое положение, которое моя семья занимала в течение последнего столетия. Почему-то даже эта сверхъестественная сила не коснулась нас, как не затронули (мало того, даже принесли определенную пользу) нищета, нужда и всякого рода ограничения, что были вызваны перенаселением Земли. Видимо, это социальная аксиома — в то время как многие терпят все большую нужду и лишения, немногие обретают роскошь и комфорт, питаясь за счет нищеты. Возможно, даже не желая того — но живут.
Конечно, только обращенное в прошлое сознание вины заставляет меня так думать, и я знаю, что не прав. Многие семьи помимо нашей так же жирели на чужой нищете, но были наказаны. Если «наказаны» — верное слово. Мы не знаем, что означало это исчезновение. Оно могло означать смерть, а могло означать перемещение в другое место или во множество других мест, и тогда это перемещение могло быть благом. Ибо в то время большинство людей покинули бы Землю без сожаления. Вся поверхность суши, часть водного пространства и вся получаемая энергия использовались лишь для того, чтобы поддерживать простое существование огромных масс людей, населявших планету. Простое существование — не пустая фраза, ибо людям едва хватало еды, чтобы прокормиться, едва хватало места, чтобы жить, едва хватало одежды, чтобы прикрыть наготу.
То, что моей семье, равно как и другим подобным семьям, было позволено сохранить за собой то относительно большое жизненное пространство, которым они располагали задолго до того, как связанные с перенаселением проблемы достигли критической остроты, — только один из примеров несправедливости. То, что племя индейцев с озера Лич, тоже оставленное на Земле той сверхъестественной силой, жило на относительно большом и малонаселенном пространстве, объясняется иначе. Земли, куда столетия назад их вытеснили, по большей части были бросовыми, хотя с течением лет неумолимая сила экономической необходимости отнимала у них кусок за куском, и в недалеком будущем они оказались бы загнаны в безымянное всепланетное гетто. Впрочем, по правде говоря, они жили в гетто с самого начала.
В момент, близкий к исчезновению человечества, строительство этого дома и приобретение окружающих его земель были бы невозможны. Во-первых, не нашлось бы подобного участка, а если бы и нашелся, то такой дорогой, что даже самые богатые семьи не смогли бы купить его. Далее, некому и не из чего было бы строить дом. Мировое хозяйство было напряжено до предела, пытаясь содержать восемь миллиардов людей.
Мой прадед построил этот дом почти полтора века назад. Даже тогда он смог приобрести участок только потому, что монастырь по соседству переживал тяжелые времена и был вынужден продать часть своих земель, чтобы уплатить по неотложным обязательствам. При строительстве дома мой прадед пренебрег всеми современными направлениями в архитектуре и вернулся к основательности и простоте огромных сельских домов, которые люди строили несколько веков назад. Он часто повторял, что дом будет стоять вечно, и хотя это было преувеличением, несомненно, дом будет стоять, когда многие другие рассыплются в прах.
В нашем нынешнем положении большое счастье, что у нас есть дом, прочный и большой. Даже сейчас шестьдесят семь человек живут в нем, не испытывая особых неудобств. Хотя с ростом населения, видимо, придется искать и другие места. Можно рассчитывать на монастырские постройки (четыре робота, которые их сейчас занимают, вполне могут обойтись и меньшим пространством), а также, с некоторыми оговорками, на бывший рыбацкий поселок вверх по течению реки. Простояв пустыми все эти пятьдесят лет, его многоквартирные дома требуют ремонта, однако наши роботы, я полагаю, справятся с этой задачей.
У нас достаточно средств к существованию, нужное количество земли из той, что в прошлом обрабатывали рабочие сельскохозяйственной станции. Роботы вполне справляются с необходимыми задачами, и поскольку старые сельскохозяйственные машины пришли уже в полную негодность, мы вернулись к обработке земли лошадьми и к простому плугу, косилке и жатке. Наши роботы сделали их, растащив по частям более сложные орудия.
Мы теперь живем, как мне нравится это называть, манориальным хозяйством, производя в своем поместье все необходимое. Мы держим большие стада овец, с которых получаем мясо и шерсть, молочное стадо, коров мясной породы, свиней, дающих нам мясо, ветчину и грудинку, домашнюю птицу и пчел; мы выращиваем сахарный тростник, пшеницу, большое количество овощей и фруктов. Мы ведем простое существование, спокойное и чрезвычайно приятное. Поначалу мы жалели о прошлой жизни — по крайней мере кое-кто из молодых, — но теперь, я полагаю, мы все убеждены, что жизнь, которой мы живем, чрезвычайно хороша.
Лишь об одном я глубоко сожалею. Как бы мне хотелось, чтобы мой сын Джонатан и его милая жена Мэри, родители троих наших внуков, были живы и жили с нами. Им обоим, я знаю, наша нынешняя жизнь доставила бы истинное наслаждение. Ребенком Джонатан не уставал бродить по поместью. Он любил деревья и цветы, тех немногих диких существ, что обитали в нашем маленьком лесу, то свободное и спокойное чувство, которое дает даже небольшое открытое пространство. Теперь мир (или известная мне его часть, а может, и все остальное) возвращается в дикое состояние. На месте прежних полей растут деревья. Трава пробралась туда, где раньше ее никогда не было. Цветы выбираются из укромных уголков, живая природа возрождается и набирает силу. В речных долинах, теперь густо поросших лесом, во множестве водятся белки и еноты и порой можно встретить оленей, пришедших, вероятно, с севера. Я знаю пять перепелиных выводков, а на днях наткнулся на стаю куропаток. Перелетные птицы опять каждую весну и осень огромными клиньями летят по небу. Когда тяжелая человеческая рука перестала давить Землю, маленькие, робкие, незаметные существа стали вступать в свои древние права. С определенными оговорками нынешнюю ситуацию можно уподобить вымиранию динозавров в конце Мелового периода. Но динозавры вымерли все, а здесь горстка людей продолжает жить. Однако, возможно, мое сравнение несколько преждевременно. Трицератопы, как полагают, были последними из существовавших динозавров, и не исключено, что небольшие их стада встречались еще в течение полумиллиона или даже более лет. В таком свете факт существования нескольких сотен людей, жалких остатков когда-то могущественной расы, не имеет большого значения. Возможно, мы трицератопы человеческого рода.
Когда вымерли динозавры и другие рептилии, млекопитающие, существовавшие миллионы лет, хлынули в образовавшуюся пустоту и начали размножаться. Является ли нынешняя ситуация результатом уничтожения определенной части млекопитающих с целью предоставить другим позвоночным еще один шанс, отвести от них гибель от руки человека? Или же это побочный результат? Было ли человечество, или большая его часть, перенесено с Земли с целью дать дорогу дальнейшему эволюционному развитию? И если так, где же и что представляет собой это новое эволюционирующее существо?
Когда думаешь об этом, удивляешься странному процессу исчезновения. Изменение климатических условий, сдвиги в земной коре, эпидемии, смещение экономических параметров, факторы, ограничивающие количество производимых продуктов питания, — все это понятно с физической, биологической и геологической точек зрения. Исчезновение же, или почти полное исчезновение, человеческого рода — загадка. Медленное, постепенное угасание — это одно, мгновенное исчезновение — совсем другое. Оно требует вмешательства некоего разума и необъяснимо каким-либо естественным образом.
Если исчезновение — результат действия другого разума, мы вынуждены задаться вопросом: где он находится, что собой представляет и, что более важно, какую он мог преследовать цель?
Не наблюдает ли за всей существующей в Галактике жизнью некий могучий центральный разум, пресекающий преступления, которые нельзя допустить? Не было ли исчезновение человеческого рода наказанием, уничтожением, приведенным в исполнение смертным приговором за то, что мы сделали с планетой Земля и со всеми остальными существами, делившими ее с нами? Или же это просто устранение, очищение — действие, предпринятое с целью защитить ценную планету от окончательной гибели? Или даже более того, с целью дать ей возможность восполнить в течение последующего миллиарда лет истощенные природные ресурсы: могли бы вновь образоваться залежи каменного угля и месторождения нефти, восстановилось бы плодородие почв, появились бы новые рудные месторождения?
Бессмысленно и бесполезно, как мне думается, размышлять об этих вещах и задавать вопросы. Но человек, добившийся кратковременного владычества над планетой благодаря тому, что задавал вопросы, не откажется от размышлений.
Глава 7
В течение нескольких часов после полудня в небе росла гряда темных туч, и, глядя, как она увеличивается, Езекия сказал себе, что в небе словно висит лестница, по которой облака лезут вверх, делаясь все более грозными и впечатляющими. Он осудил себя за эти мысли — в небе нет никакой лестницы, на то воля Бога, чтобы тучи громоздились все выше. Он не понимал и стыдился этих взлетов фантазии, этого романтизма, который ему следовало обуздать давным-давно, но который в последние несколько лет (или так ему казалось) прорывался все чаще. Или же в последние годы он стал больше обращать на это внимания, неприятно пораженный тем, что никак не может избавиться от нелепых представлений, столь далеких от серьезных размышлений, которым должен себя посвящать.
Его братья сидели в кабинете, склонясь над книгами. Они просиживали так годами, сопоставляя и сводя к элементарным истинам все, что было написано живым существом, человеком, все, о чем он думал, рассуждал и размышлял — в сфере духа и религии. Из четверых лишь он, Езекия, не связал себя с написанным или печатным словом — так они решили много веков назад, когда задумали начать поиски истины. Трое изучали все когда-либо написанное — переписывая, перераспределяя, переоценивая, словно обо всем этом думал и все написал один человек, один-единственный, не многие, а один, который понял. Трое выполняли эту работу, а четвертый сопоставлял результаты их анализа и оценки, пытаясь разгадать смысл, ускользнувший от человека. Это была замечательная идея, вновь сказал себе Езекия; тогда она выглядела убедительной, она и сейчас разумна, однако путь оказался длинней и сложней, чем они полагали, и они по-прежнему были далеки от истины. С годами работа, которой они занимались, углубила и укрепила их веру, однако вера не вела к истине. Возможно ли, спрашивал себя Езекия, что вере и истине попросту нет места, что это два взаимоисключающих качества? От этой мысли его пробрала дрожь. Если это так, они столетия потратили ради ничтожной цели, в погоне за блуждающим огоньком. Должна ли вера непременно означать готовность и способность верить при отсутствии каких-либо доказательств? Если отыщутся доказательства, умрет ли вера? Что, собственно, им нужно — истина или вера? Может быть, подумал он, человек уже пытался делать то, что они пытаются сделать сейчас, и понял, что не существует истины, но есть вера, и, будучи не в состоянии принять веру без доказательств, отказался и от нее? Книги им об этом ничего не сказали, но, имея в своем распоряжении тысячи книг, они знали, что это не все книги.
Не лежит ли где-нибудь, превращаясь в прах — или уже превратившись, — книга (или несколько книг), которая открыла бы, что человек уже сделал или пытался, но не сумел сделать.
Езекия с полудня расхаживал по саду; это обычное занятие, он часто ходил здесь. Ходьба помогала ему думать, к тому же он любил сад — за красоту, за то, как распускается, меняет цвет и опадает листва, за цветы весной и летом, за чудо жизни и смерти, за пение птиц и их полет, за окутанные дымкой холмы по берегам реки и порой за звучание оркестра музыкальных деревьев, хотя он не сказал бы, что безусловно их одобряет. Однако едва Езекия достиг двери в здании капитула — разразилась гроза, мощные потоки дождя обрушились на сад, громко застучали по крышам, наполнили сточные канавы, почти мгновенно превратили дорожки в полноводные ручьи.
Он отворил дверь и нырнул внутрь, но задержался в передней, оставив дверь приоткрытой и глядя в сад, где потоки дождя хлестали траву и цветы. Старая ива у скамьи гнулась под ветром и тянула ветви, словно пытаясь оторваться от корней.
Где-то что-то стучало, он понял, что это. Ветер распахнул огромную металлическую калитку во внешней стене, и теперь она билась о камень, из которого была сложена стена. Если калитку не запереть, ее разобьет о камни.
Езекия шагнул за порог, прикрыв за собой дверь. Он шел по превратившейся в ручей дорожке, и его тоже хлестали ветер и дождь, который потоком скатывался по телу. Дорожка повернула за угол здания, и ветер ударил ему в лицо, словно огромная рука уперлась в его металлическую грудь. Коричневая ряса, хлопая на ветру, развевалась за его спиной.
Калитку рвало на петлях, она оглушительно стучала о стену, металл содрогался при каждом ударе о камень. Но не только калитка привлекла его внимание. Рядом, наполовину на дорожке, наполовину на траве, кто-то лежал. Даже сквозь плотную завесу дождя Езекия разглядел, что это был человек.
Он лежал лицом вниз, и, перевернув его, Езекия увидел неровный порез, начинавшийся у виска и пересекавший щеку, — лиловатая полоска рассеченной плоти, чистая, поскольку кровь смывало дождем.
Он обхватил человека руками, поднял его и пошел по дорожке, сопротивляясь напору ветра.
Езекия добрался до двери в здании капитула и вошел. Ногой захлопнул дверь, пересек комнату и положил свою ношу на скамью у стены. Человек еще дышал, грудь его поднималась и опускалась. Он был молод или казался молодым, обнаженный, если не считать набедренной повязки, ожерелья из медвежьих когтей и бинокля на шее: чужестранец, подумал Езекия, человек ниоткуда и милостью Божией искавший здесь убежища от грозы. Вырвавшаяся из рук под порывами ветра калитка сбила его с ног.
За все время, что роботы обитали в монастыре, впервые сюда пришел человек, ища приюта и помощи. И это, сказал себе Езекия, правильно, поскольку исторически в течение многих столетий подобные места давали приют нуждающимся. Он почувствовал дрожь в теле, дрожь волнения и преданности. Это ответственность, которую они должны на себя принять, долг и обязанность, которые должны выполнить. Нужны одеяла, горячая пища, огонь в камине, кровать — а здесь нет ни одеял, ни горячей пищи, ни огня. Их нет уже многие годы, роботы в них не нуждаются.
— Никодемус! — крикнул он, — Никодемус!
Его голос гулко ударился о стены, словно волшебным образом проснулось древнее эхо, молчавшее в течение долгих-долгих лет.
Он услышал топот бегущих ног, распахнулась дверь, и вбежали трое роботов.
— У нас гость, — сказал Езекия. — Он ранен, и мы должны о нем позаботиться. Один из вас пусть бежит к дому и найдет Тэтчера. Скажет ему, что нам нужны одеяла, еда и что-нибудь, чтобы развести огонь. Другой пусть разломает какую-нибудь мебель и сложит в камин. Все дрова снаружи намокли. Но постарайтесь выбрать что похуже. Старые табуретки, например, сломанный стол или стул.
Он слышал, как они вышли, как хлопнула входная дверь, когда Никодемус бросился сквозь грозу к дому.
Езекия присел на корточки у скамьи и не спускал глаз с человека. Тот дышал ровно, и лицо покидала бледность, видимая даже сквозь загар. Из пореза сочилась кровь, текла по лицу. Езекия подобрал конец промокшей рясы и осторожно отер кровь.
Он ощущал в себе глубокое, прочное чувство умиротворения, завершенности, сострадания и преданности человеку, лежащему на скамье. Может быть, подумал он, это истинное назначение людей — или роботов, — обитающих в стенах этого дома? Не тщетные поиски истины, но оказание помощи в трудную минуту людям — своим собратьям? Хотя он понимал, что это неверно. На скамье лежал не его собрат, он не мог быть его собратом; робот — не собрат человеку. Но если, думал Езекия, робот заменил человека, занял место человека, если он придерживается обычаев человека и пытается продолжать дело, которое человек забросил, разве не может он называться собратом человека?
И ужаснулся.
Как мог он помыслить, что робот может быть собратом человеку?
«Тщеславие!» — мысленно вскричал он. Чрезмерное тщеславие станет его погибелью — его проклятием; и он опять ужаснулся: разве робот достоин хотя бы проклятия?
Он ничтожество, ничтожество и еще раз ничтожество. И однако же подражает человеку. Он носит рясу, он сидит, не нуждаясь ни в одежде, ни в том, чтобы сидеть; он бежал от грозы, хотя ему незачем бежать от сырости и дождя. Он читает книги, которые написал человек, и он ищет понимания, которое человек не сумел найти. Он поклоняется Богу — и это, подумал он, быть может, самое большое кощунство.
Он сидел на полу возле скамьи, и его переполняли страдание и ужас.
Глава 8
Он не узнал бы брата при случайной встрече, сказал себе Джейсон. Стан был тот же и гордая, внушительная осанка, но лицо скрывала блеклая, с проседью, борода. И кое-что еще — холодное выражение глаз, напряженность в лице. С возрастом Джон не стал мягче; годы его закалили и сделали жестче и придали печаль, которой раньше не было.
— Джон, — проговорил он и остановился на пороге, — Джон, мы так часто думали… — и замолчал.
— Ничего, Джейсон, — сказал его брат, — Марта тоже меня не узнала. Я изменился.
— Я бы узнала, — отозвалась Марта, — Чуть позже, но узнала бы. Это из-за бороды.
Джейсон быстро пересек комнату, схватил протянутую руку, другой рукой обнял брата за плечи, привлек к себе и крепко прижал.
— Рад тебя видеть, — сказал он, — Так хорошо, что ты вернулся. Уж очень долго тебя не было.
Они отстранились и мгновение постояли, молча глядя друг на друга, и каждый старался разглядеть в другом того человека, которого видел в последнюю встречу. Наконец Джон произнес:
— Ты хорошо выглядишь, Джейсон. Я знал, что так и будет. Ты всегда умел о себе позаботиться. И еще о тебе заботится Марта. Мне говорили, что вы остались дома.
— Кто-то должен был остаться, — ответил Джейсон, — Здесь хорошо жить, мы были здесь счастливы.
— Я о тебе часто спрашивала, — сказала Марта. — Я всегда спрашивала, но никто ничего не знал.
— Я был очень далеко. У центра Галактики. Там что-то есть… Я подобрался к центру ближе, чем кто-либо. Мне говорили, что там — или, вернее, что там может быть. Хотя, что именно, они толком не знали. Мне нужно было туда добраться и посмотреть. Кому-то надо было отправиться, точно так же как кто-то должен был остаться дома.
— Давай сядем, — сказал Джейсон. — Тебе нужно многое нам рассказать, так расположимся поудобней. Тэтчер что-нибудь принесет, и мы поговорим. Джон, ты голоден?
Брат покачал головой.
— Может, выпьешь чего-нибудь? Из старых запасов ничего не осталось, но наши роботы неплохо делают нечто вроде самогона. Если его правильно выдерживать и хранить, он вполне хорош. Мы пробовали делать вино, но безуспешно. Почва не та, и тепла не хватает. Скверное получается.
— Потом, — сказал Джон, — Сначала я вам расскажу. Потом можно будет и выпить.
— Ты нашел то зло, — проговорил Джейсон. — Несомненно. Мы знаем, что там есть некое зло. Несколько лет назад до нас дошли слухи. Никто не знал, что это и зло ли это на самом деле. Единственное, что мы знали, — у него дурной запах.
— Это не зло, — сказал Джон, — Нечто худшее, чем зло. Глубочайшее безразличие. Безразличие разума. Разум, утративший то, что мы называем человечностью. Или никогда ее не имевший. Но это не все. Я нашел людей.
— Людей! — вскричал Джейсон. — Не может быть! Никто понятия не имел…
— Разумеется, никто не знал. Но я их нашел. Они живут на трех планетах, близко друг от друга, и дела у них идут очень здорово, пожалуй даже слишком здорово. Они не изменились. Они такие же, какими были мы пять тысяч лет назад. Они прошли до логического конца тот путь, по которому мы шли пять тысяч лет назад, и теперь возвращаются на Землю. Они на пути к Земле.
В окна неожиданно ударили потоки воды, принесенные ветром. Ветер завыл и загулял среди карнизов.
— Гроза началась, — сказала Марта. — Какая сильная.
Глава 9
Она сидела и слушала голоса книг — или, скорее, голоса людей, что написали все эти книги. Странные, серьезные, далекие, звучащие из глубин времени; то было будто отдаленное бормотание голосов мудрых людей, без слов, но полное значения и мысли. Она никогда бы не поверила, сказала себе девушка, что может быть так. Деревья говорили словами, цветы несли смысл, и маленький лесной народец тоже часто с ней разговаривал, и в журчании реки и бегущих ручьев улавливались музыка и очарование, превосходящее всякое понимание. Но это потому, что они живые, — да, даже реку и ручейки можно считать живыми существами. Возможно ли, чтобы книги тоже были живыми?
Столько книг, целая комната, от пола до потолка ряды книг, и во много раз больше, сказал ей маленький забавный робот Тэтчер, хранится в подвальных помещениях. Но самым странным было то, что она могла думать о роботе как о забавном существе — почти так же как если бы он был человеком. «Здесь вы сможете проследить и нанести на карту путь, который проделал человек из самой темной ночи к свету». Сказал с гордостью, словно сам был человеком и один, с тревогой и надеждой, прошагал от начала до конца этот путь.
Голоса книг все звучали в сумраке комнаты, под стук дождя — приветливое бормотание, которое не должно никогда умолкать, призрачные разговоры писателей, чьи произведения стояли рядами вдоль стен кабинета. Игра ли воображения, спросила она себя, или другие тоже слышат их — слышит ли их иногда дядя Джейсон, когда сидит здесь? Она знала, что никогда не сможет спросить об этом. Может, она одна их слышит, как услышала голос старого Дедушки Дуба в тот далекий летний день, когда ее племя отправилось в страну дикого риса, или сегодня, когда она ощутила, что поднялись огромные руки и на нее снизошло благословение?
Она сидела перед раскрытой книгой за маленьким столиком в углу комнаты (не за тем большим столом, где дядя Джейсон писал свои хроники), слушая, как гуляет в карнизах ветер, глядя, как хлещет дождь за окнами, на которых Тэтчер раздвинул шторы. И незаметно перенеслась в какое-то другое место. А может, ей это только показалось? Множество людей, или по крайней мере тени множества людей, и множество других столов, и далекие-далекие времена и места, хотя казались они ближе, чем им полагалось быть, словно бы завесы времени и пространства стали тонкими и готовы растаять; и она сидела, наблюдая великое чудо: время и пространство почти исчезли, не разделяя людей и события, но соединяя их, словно все когда-либо случившееся произошло одновременно и в одном и том же месте, а прошлое придвинулось вплотную к будущему в пределах одной крошечной точки существования, которую для удобства можно было назвать настоящим. Испуганная происходящим, она тем не менее увидела за одно страшное, величественное мгновение все причины и следствия, все направления и цели, всю муку и счастье, которые побудили людей написать те миллиарды слов, что хранились в комнате. Увидела это все, не понимая, не успев и не будучи в состоянии понять, осознав лишь, что нечто, побудившее людей создать все произнесенные, начертанные, пылающие слова, являлось не столько результатом работы многих умов, сколько результатом воздействия образа существования на умы всего человечества.
Наваждение (если это было всего лишь наваждением) почти сразу же рассеялось. В дверь вошел Тэтчер с подносом и, тихими шагами подойдя к девушке, поставил поднос на стол.
— С некоторым опозданием, — извинился он, — Из монастыря прибежал Никодемус и попросил горячего супа, одеял и много других вещей, требующихся для раненого паломника.
На подносе были стакан молока, баночка варенья из дикого крыжовника, ломтики хлеба с маслом и кусок медового пирога.
— Не слишком большое разнообразие, — продолжал Тэтчер. — Не столь изысканно, как вправе ожидать гость в этом доме, но, занимаясь нуждами монастыря, я не успел должным образом все приготовить.
— Этого более чем достаточно, — сказала Вечерняя Звезда. — Я не ожидала подобной заботы. Ты был так занят, что не стоило себя утруждать.
— Мисс, — проговорил Тэтчер, — в течение столетий на мне лежала приятная обязанность вести здесь домашнее хозяйство в соответствии с определенными нормами, которые за это время ни разу не менялись. Я лишь сожалею, что заведенный порядок впервые был нарушен в первый же день вашего пребывания здесь.
— Ничего страшного, — ответила она, — Ты говорил о паломнике. Паломники часто приходят в монастырь? Я никогда о них не слыхала.
— Он — первый, — сказал Тэтчер. — И я не уверен, что он паломник, хотя именно так его назвал Никодемус. Несомненно, просто странник, хотя само по себе и это примечательно, поскольку прежде никогда не было странников — людей. Молодой человек, почти обнаженный, как говорит Никодемус, с ожерельем из медвежьих когтей на шее.
Она застыла, вспомнив мужчину, которого встретила утром на вершине утеса.
— Он серьезно ранен? — спросила она.
— Не думаю, — ответил Тэтчер. — Он хотел укрыться в монастыре от грозы. Открыл калитку, ее рванул ветер, и она его ударила. Ничего особенного с ним не случилось.
— Это хороший человек, — сказала Вечерняя Звезда, — и очень простой. Он даже не умеет читать. Считает, что звезды — всего лишь крошечные огоньки, светящиеся в небе. Но ему дано чувствовать дерево…
И замолчала, смутившись, потому что о дереве рассказывать нельзя. Нужно научиться следить за тем, что говоришь.
— Мисс, вы знаете его?
— Нет. По-настоящему не знаю. Сегодня утром я совсем недолго говорила с ним. Он сказал, что направляется сюда. Он что-то искал и полагал, что может найти это здесь.
— Все люди что-нибудь ищут, — произнес Тэтчер, — Мы, роботы, совершенно иные. Мы довольствуемся тем, что служим.
Глава 10
— Сначала, — рассказывал Джон Уитни, — я просто путешествовал. Это казалось чудесным всем нам, но мне почему-то думается, что мне — больше всех. Что человек может свободно передвигаться во Вселенной, что он может направиться, куда пожелает, казалось волшебством и было выше всякого понимания. А то, что он может делать это без каких-либо механизмов и инструментов, посредством силы, заключенной в нем самом и дотоле никому не известной, было просто невероятно, и я использовал эту силу, чтобы снова и снова доказать самому себе, что могу это делать, что это постоянная, неисчезающая способность, которой можно пользоваться по своему желанию, и что она наша по праву принадлежности к человеческому роду, а не дана откуда-то извне и не может быть отнята в мгновение ока. Вы никогда не пробовали, Джейсон, ни ты, ни Марта?
Джейсон покачал головой:
— Мы нашли кое-что иное. Возможно, не столь волнующее, но дающее глубокое удовлетворение. Любовь к Земле и чувство целостности, неразрывности, ощущение непрерывности жизни земной, житейской определенности.
— Пожалуй, я могу понять это, — сказал Джон. — То, чего у меня никогда не было, и, подозреваю, именно отсутствие его гнало меня все дальше и дальше, даже когда удовольствие от путешествия от звезды к звезде несколько потускнело. Хотя новое место по-прежнему способно взволновать меня — ибо нет двух похожих друг на друга мест. Что меня изумляло, что продолжает меня изумлять — так это огромное разнообразие, которое существует на свете, даже на планетах, геология и история которых очень похожи.
— Но почему, Джон, ты так долго ждал? Не давал знать о себе. Ты говорил, что встречался с другими и они тебе сказали, что мы по-прежнему на Земле.
— Я думал об этом, — ответил Джон. — Я много раз думал о том, чтобы вернуться домой и встретиться с вами. Но я бы прибыл с пустыми руками. Речь не о вещах, мы теперь знаем, что они не в счет. Но не было ничего, что бы я узнал, ничего нового, что бы я понял. Горстка рассказов о том, где был и что видел, только и всего. Блудный сын…
— Но тебя всегда ждал радушный прием. Мы тебя ждали и спрашивали о тебе.
— Я не понимаю одного, — сказала Марта. — Почему о тебе не было никаких известий? Ты говоришь, что встречался с другими, и никто о тебе не слышал, никогда, ничего. Ты просто бесследно исчез.
— Я был очень далеко, Марта. Гораздо дальше, чем большинство остальных. Я бежал со всех ног. Не спрашивайте почему; я сам себя спрашивал и не нашел ответа. Вразумительного ответа. Те же, с кем я встречался — всего двое или трое, да и то совершенно случайно, — мчались так же, как и я. Как стайка ребятишек, попавшая в незнакомое чудесное место, где так много интересного, что страшно что-нибудь упустить. И бегут во весь дух, и говорят себе, что, когда посмотрят все, вернутся в то единственное место, которое лучше всех; и, возможно, знают, что никогда не вернутся, поскольку им кажется, что самое лучшее место всегда чуть впереди; и они одержимы мыслью, что, остановившись, не найдут его. Я понимал, что делаю, и знал, что это глупо, и утешался только тем, что я не один такой.
— Однако, — сказал Джейсон, — ты нашел людей. Потому что забрался так далеко.
— Верно, — ответил Джон, — но у меня не было такой цели. Я на них наткнулся случайно. Я их не разыскивал. Я ощутил Принцип, который искал.
— Принцип?
— Даже не знаю, Джейсон, как вам рассказать, — в языке, думаю, не существует нужных слов. Я просто не в состоянии точно объяснить… Возможно, никому не дано знать, что это такое. Помнишь, ты сказал, что ближе к центру Галактики находится зло. Это зло и есть Принцип. Люди, которых я там встречал, тоже его ощущали и, видимо, кое-что рассказали другим. Однако слово «зло» неверно; в действительности это не зло. Если его ощутить, почуять, почувствовать издалека…
Принцип имеет запах зла, нечеловеческий, безразличный. По нашим стандартам он слеп и не наделен разумом. У него нет ни цели, ни единого мыслительного процесса, который мог бы быть приравнен к деятельности человеческого мозга. В сравнении с ним паук является нашим кровным братом, и разум его на одном уровне с нашим. Принцип знает все, что только можно знать. И знание его выражается в столь нечеловеческих терминах, что мы не смогли бы даже приблизительно понять самый простейший из них. Он находится там, зная все, и знание его столь леденяще верно, что ты бросаешься прочь. Он не ошибается ни на йоту. Я назвал его нечеловеческим, и, возможно, именно эта способность быть всегда совершенно правым, абсолютно точным и делает его таковым. Ибо, как бы ни гордились мы своим разумом и пониманием, никто из нас не может искренне и со всей уверенностью сказать, что прав всегда и во всем.
— Но ты говорил, что нашел людей и что они возвращаются на Землю, — сказала Марта. — Не расскажешь ли ты нам о них? И когда они вернутся…
— Дорогая, — мягко произнес Джейсон, — я думаю, прежде чем перейти к людям, у Джона есть еще много о чем рассказать нам.
Джон поднялся из кресла, подошел к залитому дождем окну и выглянул наружу, затем вернулся и остановился перед Джейсоном и Мартой, сидевшими на кушетке.
— Джейсон прав, — сказал он, — Я так долго ждал возможности кому-нибудь рассказать, с кем-нибудь разделить мои мысли. Возможно, я не прав. Я так долго об этом размышлял, что, может, и сам запутался. Я бы хотел, чтобы вы оба меня выслушали, — Джон снова сел в кресло, — Попробую изложить все предельно объективно. Вы понимаете, что я никогда не видел эту штуку, этот Принцип. Возможно, я даже рядом с ним не был. Но был достаточно близко, чтобы знать, что он есть, и чтобы почувствовать, что это за штука. Конечно, я его не понял, даже не пытался понять, для этого я слишком мал и слаб. Это-то меня больше всего и мучило — сознание своей малости и слабости, и не только собственной, но и всего человечества. Нечто, уравнивавшее человека с микробом, даже с чем-то меньшим, нежели микроб. Понимаешь, что тебя, отдельного человека, он не в состоянии заметить, хоть есть свидетельства, по крайней мере мне так кажется, что он способен заметить и действительно заметил человечество.
Я подобрался к нему так близко, как только мог. Я съеживался перед ним. Все это припоминается как-то смутно. Возможно, я был слишком близко. Но мне надо было знать, понимаете? И теперь я уверен: он там, и он наблюдает, и он — знает. Он может действовать, хотя я склонен думать, что торопиться он бы не стал.
— Как действовать? — спросил Джейсон.
— Не знаю, — ответил Джон. — Ты должен понять, все это только впечатление, мысленное. Ничего зрительного. Ничего, что бы я видел или слышал. Именно поэтому его так трудно описать. Как описать реакции человеческого мозга? Как передать эмоциональное воздействие этих реакций?
— До нас доходили слухи, — Джейсон обратился к Марте: — Кто-то говорил… Ты не помнишь, кто это был? Кто-то, кто находился так же далеко, как Джон, или почти так же…
— Не стоило забираться так далеко, — сказал Джон, — Можно ощутить с гораздо большего расстояния. Я намеренно старался подобраться поближе.
— Не помню, кто это был, — ответила Марта. — Говорили двое или трое. Не сомневаюсь, это сведения из вторых рук. Слух, передаваемый от одного к другому, многих ко многим. О том, что в центре Галактики находится некое зло, что кто-то на него натолкнулся. Но его никто не исследовал. Наверное, боялись.
— Что верно, то верно, — отозвался Джон, — Я очень боялся.
— Ты называешь его Принципом, — сказал Джейсон. — Странное название. Почему Принцип?
— Так мне подумалось, когда я был с ним рядом, — ответил Джон. — Он со мной не общался. Возможно, он меня даже не замечал, не знал, что я существую. Крошечный микроб…
— Но — Принцип? Это же предмет, существо, организм? Довольно странно называть так существо или организм.
— Я не уверен, Джейсон, что это существо или организм. Это просто нечто. Возможно, сгусток разума. А какую форму может принять сгусток разума? На что он похож? Можно ли его увидеть? Это облако, или поток газа, или триллионы крошечных пылинок, танцующих в свете солнц, находящихся в центре Галактики? Почему я назвал его Принципом? Я не могу сказать. Тут нет логики. Просто я чувствовал, что это. Основной принцип Вселенной, ее направляющая сила, ее мозговой центр, то, что делает Вселенную единым целым и приводит ее в действие, — сила, заставляющая электроны вращаться вокруг ядра, а галактики — вокруг их центров, сила, удерживающая все и вся на своих местах.
— Ты мог бы точно указать его местоположение? — спросил Джейсон.
Джон покачал головой:
— Это невозможно. Ощущение Принципа, казалось, было везде. Оно исходило отовсюду. Смыкалось вокруг. Окутывало и поглощало. Не было никакого направления. И там столько солнц и столько планет. Битком набито. Солнца друг от друга на расстоянии меньше одного светового года. В большинстве своем старые, и большая часть планет мертва. На некоторых из них развалины того, что когда-то, видимо, было великими цивилизациями, но все они погибли…
— Может быть, это одна из тех цивилизаций…
— Может быть, — сказал Джон. — Я поначалу так и думал: одной из этих древних цивилизаций удалось выжить. И разум ее превратился в Принцип. Но для проявления и развития Принципа нужно больше времени, чем весь период существования Галактики. Я не знаю, как это объяснить. Только силой этого разума или тем, насколько он нам чужд. В космосе повсюду встречаются формы разумной жизни, отличные от нас, и эти отличия делают их чуждыми нам. Но Принцип нам страшно чужд. И это наводит на мысль о том, что зародился он вне Галактики и во время, предшествующее ее появлению. Зародился во времени и месте, столь разнящихся с нашей Галактикой, что постичь его невозможно. Я полагаю, ты знаком с теорией стационарной Вселенной?
— Да, конечно, — сказал Джейсон, — Вселенная не имеет ни начала, ни конца, она находится в состоянии непрерывного созидания, образуется новая материя, появляются новые галактики, старые погибают. Однако специалисты по космологии еще до исчезновения людей установили, что эта теория несостоятельна.
— Я знаю, — сказал Джон. — И все же одна надежда… Люди из философских соображений упрямо цеплялись за эту концепцию. Она была столь красива, столь величественна и внушала такое благоговение: предположим, что Вселенная гораздо больше, чем кажется, что мы видим лишь малую ее часть, крошечный прыщик на коже этой большой Вселенной, и этот крошечный прыщик находится в стадии, которая заставляет нас думать не о стационарной Вселенной, а о развивающейся.
— И ты считаешь, что они были правы?
— Возможно. Стационарное состояние дало бы Принципу время, необходимое для его появления. До этого Вселенная, возможно, находилась в состоянии хаоса. Принцип мог быть той созидающей силой, которая все расставила по своим местам.
— Ты в это веришь?
— Да, верю. У меня было время подумать, я собрал все воедино. Теперь я в этом убежден. Не имею ни малейших доказательств. Ни крупицы информации. Но эта мысль укрепилась в моем сознании, и я не могу от нее избавиться. Я говорю себе, что ее внедрил Принцип, внушил ее мне. Только так я могу это объяснить. Но Принцип, вне всякого сомнения, понятия не имел обо мне.