Все лики смерти (сборник) Точинов Виктор
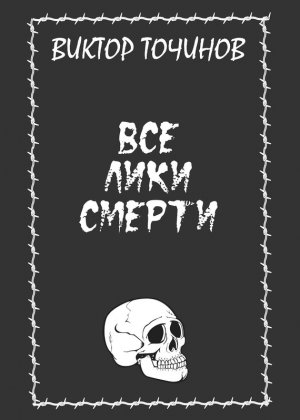
© Точинов В., 2014
© Северо-Запад, 2014
* * *
Необходимое разъяснение
Давным-давно – если быть точным, то одиннадцать лет назад, – на литературном семинаре Бориса Стругацкого обсуждали мой роман «Царь Живых». И прозвучал вопрос:
– Виктор, а почему в вашей книге так много внимания уделено смерти во всех ее проявлениях?
Много воды утекло с тех пор. Много книг написано. И я давно уже покинул семинар, и Борис Натанович покинул всех нас… А все тот же вопрос мне по-прежнему задают время от времени. Формулировки отличаются, но суть одна. И слова на обложке этой книги – новый повод услышать тот же самый вопрос.
Ответ у меня имеется лишь один. Тот же, что услышала на том давнем обсуждении писательница Елена Первушина, вопрос задавшая.
– Лена, жизнь человеческая очень коротка, – растолковывал я, изумляясь, как такое может не понимать писательница. – Коротка, и людей поэтому очень интересует не только вопрос: что там, за гранью? Но и сами две грани, два перехода, два пограничных состояния между быть и не быть.
Зачатие и смерть.
На этих двух опорах стоит все здание мировой литературы. Все, целиком и полностью, от величайших творений мэтров и грандов до опусов литературных поденщиков, наполненных порнухой и мокрухой…
У классиков, разумеется, эти две опоры столь явно не выступают, куда богаче декорированы, чем у Васи Пупкина, ваяющего очередную нетленку про Слепого, Хромого, Бешеного (нужное подчеркнуть), бодро марширующего от очередного трупа врага к очередной ждущей секса красотке. На то они и классики. На то он и Пупкин.
Но если разобрать на винтики и пружинки хоть пьесу Шекспира, хоть роман Льва Толстого – сюжет двигают те же пружины, те же конфликты, что и у Пупкина.
Смерть и зачатие.
Все остальное – или мемуары, воспоминания о себе, любимом, или научпоп, лишь замаскированный под художественную литературу: Бианки и прочие природоописатели занимались популяризацией птичек и зайчиков, «твердые» научные фантасты – технических новинок и т. д., и т. п. Сейчас тем же самым гораздо успешнее занимается канал «Дискавери».
Все вышесказанное не означает, что для достижения успеха у читателей достаточно нагромоздить горы трупов на страницах романа, повести или рассказа. Труп – объект достаточно скучный, гораздо интереснее то, что происходит с людьми и внутри людей на краю, на грани, в момент смертельной опасности, когда монета судьбы застывает на ребре: жить или умереть…
Не столь уж важно, кто или что выступает вестником смерти – неодолимая природная сила, маньяк с бензопилой или странное и опасное нечто, чуждое нашему миру и неведомо как туда проникнувшее. Или даже кровожадные демоны, существующие лишь в душе персонажа.
Впрочем, не будем далее занимать бумагу разъяснением тривиальных вещей в ущерб самим историям. Приступим к делу. Заглянем в лицо смерти, во все ее многообразные лики. Только помните: оттуда, из-за грани, тоже смотрят на вас…
Виктор Точинов, октябрь 2013 г.
Повести и рассказы (1998–2013)
Уик-энд с мертвой блондинкой
Александру Щеголеву, певцу ужасов ночи, шалопаю, думающему о вечном, но хотящему странного, посвящается.
Глава 1
Плохой мальчишка
Его передернуло: да, труп…
А. Щеголев «Ночь, придуманная кем-то»
1
Людям не дано прозревать свое будущее, но очень хочется. И стараются они, как могут: раскидывают Таро и обычные карты, вглядываются в бобы и в кофейную гущу, обращаются к профессиональным шарлатанам… Иногда успешно, чаще всего нет.
Но порой будущее вполне очевидно – без всяких хиромантов и гороскопов. Например, если на полу вашей кухни лежит свежий труп человека, умершего насильственной смертью от вашей же руки… Тут гадать о дальнейшем не приходится: арест, суд, приговор, долгие годы за решеткой. Незачем мусолить наполненные оккультными знаниями фолианты. Достаточно заглянуть в тоненькую книжечку Уголовного кодекса.
Так Паша Шикунов и поступил.
Развернул дрожащими руками кодекс – на статьях, повествующих о всевозможных убийствах. Цифры не обнадеживали. Самая маленькая – шесть лет. Шесть бесконечно кошмарных лет среди очень плохих людей. Человеком после такого не останешься. На свободу выйдет навеки запуганное и забитое животное.
Лющенко даже после смерти сохранила ехидное выражение лица. И, по крайней мере так казалось Паше, ехидный взгляд мертвых открытых глаз. Словно радовалась: теперь-то, дескать, получишь свое сполна, пло-х-х-х-хой мальчиш-ш-ш-ш-ка…
«Плохой мальчишка» – слова вроде и не особо оскорбительные – Лющенко умела произносить с воистину змеиным шипением. Отшипела свое, сучка…
Паша с ненавистью посмотрел на нее, на расползшуюся из-под головы темную лужицу. Попробовал пересесть – мертвый взгляд, казалось, переместился вслед за ним… Оборвав петельку, Шикунов рванул со стены кухонное полотенце. Издалека, не приближаясь, накинул на мертвое лицо. Брезгливо подумал, что полотенце придется потом выбросить. И оборвал сам себя: какое еще «потом»…
НИКАКИХ «ПОТОМ» ДЛЯ НЕГО НЕ БУДЕТ.
Потом совсем другие люди подберут тряпку и приобщат к делу…
Стерва, стерва, стерва-а-а-а!!!
Ну почему он должен губить жизнь из-за какой-то гадины?
Которая к тому же сама во всем виновата? Сама на все напросилась?!
Нет, надо что-то придумать…
Он вновь сел к столу, закурил очередную сигарету. Стал думать. Кран на кухне подтекал, капли падали, отсчитывали что-то занудным метрономом… За окном светало – первые солнечные лучи пронизали затянувшее кухню табачное марево.
2
Лющенко носила красивое имя Ксения, но так ее никто из общих с Пашей знакомых никогда не называл. И уменьшительно – Ксюшей – тоже.
Говорили: «Лющенко». Иногда и того хуже: «Наша отмороженная Лющенко».
Отчасти тому причиной стала старая школьная привычка называть всех по фамилиям (Шикунов с Лющенко когда-то были одноклассниками и жили по соседству). Но только отчасти. Во многом вину за такое обращение несли некоторые свойства характера Лющенко – весьма стервозного, прямо скажем, характера. Еще Андрюшка Кутузов, сидевший с ней в шестом классе за одной партой, вечно ходил с исцарапанными руками, – пускала в ход когти по любому поводу. И без повода тоже…
Годы шли, но характер вздорной девки не изменился. Разве что царапалась реже. Впрочем, Паша несколько лет с ней не виделся – долго жил и работал в Казахстане. Вернувшись, случайно встретил на улице минувшей осенью. И подумал: годы все-таки меняют людей, вот и Лющенко к своим двадцати восьми на человека стала похожа. Как же он ошибался…
Но в общении – так показалось тогда – действительно изменилась. Спокойно, без издевочек-ухмылочек, поздоровалась, назвала по имени, Павлом, а не прошипела, как бывало раньше: Ш-ш-шикуноф-ф-ф-ф…
Постояли, поговорили. Расспросила – отнюдь не комментируя ответы язвительно – чем занимался после института (в студенческие времена доводилось порой встречаться); где пропадал последние годы, чем занят сейчас…
Паша отвечал лаконично, сначала даже несколько настороженно. По его воспоминаниям, Лющенко вполне способна была напустить на себя сочувственно-доброжелательный вид, прежде чем сказать расслабившемуся человеку особо выдающуюся гадость.
Не сказала.
Вместо этого поведала кое-что о себе: работает в сфере недвижимости, зарабатывает неплохо, вполне современная деловая женщина, семьей не отягощена. Хоть и понимает: пора бы, дольше гулять вольной казачкой не стоит, и мужчина есть подходящий на примете – более чем обеспечен и готов хоть завтра узаконить отношения, да что-то она все никак не может решиться – избранник на двадцать пять лет старше…
Звучало все спокойно, доброжелательно. И столь же доброжелательно прозвучал ее вполне естественный вопрос: а у тебя как на семейном фронте?
Паша ответил коротко: женат, двое детей, все в порядке.
И – соврал.
Но не объяснять же отмороженной Лющенко, что ничего у него не в порядке, что шесть лет брака идут псу под хвост по вине… Черт его знает, по чьей вине, оба, наверное, хороши, но он-то все осознал, понял и не повторит былые ошибки, а вот Лариска с ее попавшей под хвост вожжой… В общем, не предмет для уличных обсуждений.
Он соврал, но это ничего не изменило. Лющенко, как выяснилось позже, была в курсе всего. Умением вынюхивать сплетни отличалась феноменальным.
Однако вида не подала. И ничем информированности не выдала. Восхитилась: ну ты молодец! А кто: мальчики или девочки? Ах, сын и дочка? А как зовут? А сколько лет? Кстати, не надо ли – есть два билета в Дом кино, на фестиваль старых советских мультфильмов, самых лучших… Сводил бы старшенькую, а то на штатовских мультсериалах, что нынче экраны заполнили, детей грех воспитывать.
Паша клюнул.
С деньгами по возвращении было негусто, побаловать дочку лишний раз хотелось… И он клюнул. Заглотил крючок, как глупый, прельстившийся червяком карась.
Так все и началось. А закончилось здесь, на прокуренной кухне…
3
Вопрос в следующем: видел ли кто-нибудь, как эта тварь шла к нему в квартиру?
Ответ: а хрен его знает.
В доме девять этажей, на каждой площадке семь квартир. Народу по лестнице ходит и в лифте ездит много, все жильцы друг друга и в лицо-то не помнят. Могли не заметить, не обратить внимания. Шансы неплохие.
Вопрос номер два: а кто, собственно, вообще знал, куда и к кому идет Лющенко?
С этим сложнее. Надо подумать. Живет (в смысле, жила до этой ночи) Лющенко одна. Родители съехали на оставшуюся от бабушки-дедушки квартиру, дабы не мешать обустраивать личное счастье доченьке… Хотя какое там счастье с таким стервозным характером, но это вопрос уже другой. Короче – жили раздельно. Перезванивались, надо полагать. Но едва ли Лющенко подробно и ежедневно докладывала, кого собирается осчастливить визитом.
Друзья, подруги? Даже не смешно. Исключаются по определению. Разве что случайно встретила кого-то знакомого по пути к Паше… Ну допустим, встретила… И что? Тут же выпалила, что идет ночевать к Шикунову? А ведь могла, кстати. Вполне в ее духе. Особенно если надеялась, что как-то сказанное дойдет до Ларисы…
Но – ходьбы между их подъездами в соседних домах минуты три, максимум четыре. А в одиннадцатом часу вечера на улицах уже не так оживленно. Многие их общие знакомые – былые соученики – поразъехались из родного микрорайона. Кто остался – люди теперь солидные, семейные, с гитарами в сумерках не шатаются.
Можно допустить с большой вероятностью: никто в целом свете не знает, что Лющенко сейчас лежит и медленно остывает на кухне Паши Шикунова.
А это значит…
Это значит, что никто и не должен узнать. Мало ли людей выходят из дома и никогда не возвращаются? Газеты и стенды так объявлениями и пестрят: ушла из дому и не вернулась…
Почему он, Паша, должен долгие годы расплачиваться за несчастный по большому счету случай? Даже нет, за самоубийство! Точно. Только желающая свести счеты с жизнью личность могла вести себя таким образом… Как дожила-то до своих лет – непонятно.
Вердикт ясен: самоубийство. Суицид. Неважно, что суду это никогда не докажешь. Доказывать ничего не придется, если…
ЕСЛИ АККУРАТНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЕЛА.
М-да, легко сказать…
Практического опыта в таких делах Шикунов не имел. Откуда? Но, по счастью, подобным вопросом часто озадачивались персонажи детективов, которые Паша любил полистать на досуге. Придется вспомнить прочитанное. Хорошенько вспомнить…
Наиболее простой путь – вновь дождаться темноты и эвакуировать Лющенко на лестницу. Или сбросить с балкона. Самый простой путь и самый глупый. Исчезновение ее наверняка заметят уже сегодня, на работе уж точно… А если труп обнаружится завтра в непосредственной близости от шикуновской квартиры… Наверняка ведь хоть кому-то да проболталась о своем романчике с Пашей…
Нет, пусть уж Лющенко обнаружат где угодно, лишь бы не рядом с его домом. Тогда и перед людьми в погонах отрицать факт возобновления отношений незачем: ну да, провели пару ночей вместе, вспомнили детство золотое – и разошлись тихо-мирно, ничего друг другу не обещая. Ни конфликтов, ни общих дел не имели, ищите, дескать, в другом месте…
Но – для этого Лющенко должна покинуть квартиру незаметно. И обнаружиться должна чем дальше и позже, тем лучше. А еще лучше – вовсе не обнаружиться. Точно. Идеальный вариант. Дела об исчезновениях распутывают отнюдь не с тем тщанием, как дела об убийствах. Если бы удалось распустить слух, что она увлеклась черноусым красавцем из далеких краев… Ладно, это уже излишества. Достаточно надежно спрятать тело. Нет тела – нет и дела.
Перед глазами последовательно, как слайды на экране, пробегали картинки.
Вот Паша накачивает свою резиновую лодку и выплывает в предрассветной тьме на середину водоема – самого глухого, безрыбного, отравленного сточными водами, где нечего опасаться рыбаков с сетями или аквалангистов. Вот он аккуратно переваливает через борт длинный сверток, утяжеленный камнями… Пахнущая мазутом вода беззвучно раздается и так же беззвучно смыкается. Все кончено. Да и не было ничего. Можно пойти домой и напрочь забыть привидевшийся кошмар…
Или – грезилось ему дальше – уединенная полянка где-нибудь в перелесках, примыкающих к Южной ТЭЦ. Он аккуратными пластами срезает и откладывает в сторону дерн, затем роет могилку, выбрасывая комья на заботливо подстеленный брезент. Опускает тело, засыпает, излишки земли – в припасенные мешки, дерн – на место… Без гроба уже через несколько месяцев можно будет откопать лишь скелет, не поддающийся опознанию. Хотя… Царскую семью вроде идентифицировали генными методами. Но там был случай особый, с найденными на пустыре мослами никто так дотошно возиться не станет.
Еще вариант – безлюдная по ночному времени стройка, Паша у бетономешалки (благо обращаться с подобными агрегатами научился в стройотрядах), длинный сверток ложится в опалубку… Нет. Стройка отпадает. Ночью недолго напороться на сторожа с собаками, да и наметанный глаз прораба утром сразу заметит неладное. Лес или водоем вполне подойдут.
Но сначала надо туда попасть. Вместе с трупом. Как-то проскользнуть, проскочить мимо сотен окон, за каждым из которых может скрываться пара глаз, с любопытством взирающих на улицу.
4
Мультфильмы, на которые он сводил Натусика, оказались так себе – отнюдь не самые лучшие. Но дочка была довольна, а Паша поневоле испытывал к Лющенко некое чувство благодарности. И при следующей случайной встрече (случайной? ну-ну…) как-то само собой получилось – пригласил в гости. Не то чтобы официально, в конкретный день и час, просто предложил заскочить как-нибудь по-простому, по-соседски… Идиот.
Она не стала откладывать в долгий ящик – дня через три-четыре позвонила, напомнила, пришла. Ничего компрометирующего в визите не было – Лариса и дети оказались дома. Посидели втроем на кухне, отправив играть Натусика и Пашку-младшего. Попили чаю с принесенным Лющенко вафельным тортиком. Поговорили о том о сем – основными темами стали воспоминания о школе да рассказы о Казахстане.
Выглядели тогда Паша с Ларисой – точнее, старались выглядеть при посторонних, – вполне благополучной семейной парой. Сор из избы не выносили. Конечно, политика страусиная: когда пресловутый сор уже подбирается к горлу и к окнам и дверям сквозь него не протиснуться, поневоле разнесешь избу по бревнышку, лишь бы вырваться на свежий воздух… Сор, граждане, лучше все-таки выносить – ночью и маленькими порциями.
Но тогда, полгода назад, им казалось, что за лакированным фасадом их семейной жизни никаких глубоких трещин Лющенко не заметила. Зря казалось.
Ей замечать нужды не было, она (Паша только потом понял) все знала.
Но, надо отдать Лющенко должное, дурой она не была. Прекрасно понимала, что соваться сейчас в семейную усобицу совсем даже не стоит. Она и не совалась. Просто держалась неподалеку, поддерживала дружеские отношения, не давала о себе забыть. Выжидала…
И дождалась.
Как-то само собой получилось, что, когда Лариса ушла вместе с детьми и он понял: навсегда – и сходил с ума в пустой квартире, – позвонил Паша именно Лющенко. Без особых мыслей и планов, просто нужен был человек рядом, чтобы не дать скатиться в разверзшуюся у ног черную бездонную пропасть…
Она пришла.
И в тот же вечер они оказались в постели.
5
Машины у Шикунова не было, и это сильно осложняло дело.
Права имелись, но свою тачку он продал, уезжая из Казахстана, чтобы не перегонять за тысячи километров и не возиться со всеми таможенными формальностями. Хотя, может, особенных препон на российско-казахской границе и не существовало, он просто не узнавал, решив сразу: тут продам, там куплю – и все дела. Не сложилось.
Для начала выяснилось, что цены на авторынках Питера и Караганды несколько отличаются – и не в пользу Питера. Чтобы приобрести что-то равноценное, надо было хорошенько поискать… Но деньги, отложенные на покупку, как-то незаметно начали рассасываться – когда есть двое малолетних детей, а постоянной работы пока нет – вариант вполне закономерный.
В общем, машины у Шикунова не было. И денег на немедленную покупку тоже не было.
Такси?
Смешно… Сюжет для черненькой комедии – он волочит из подъезда Лющенко, якобы вусмерть упившуюся, и говорит таксисту: нам куда-нибудь за город, в местечко побезлюднее да полесистее; но вы подождите, я сейчас за мешками да за лопатой схожу…
Какие еще возможны варианты? Выбор широкий. Купить по дешевке самую развалюху – прогнивший «москвич» или раздолбанный «запорожец». Взять напрокат. Воспользоваться транспортом кого-то из знакомых – по доверенности. Угнать, наконец.
Развалюха – вполне реально, но опасно. Сломается на полпути – и что дальше? Да и гаишники такой транспорт останавливать любят – знают, что найдут, к чему прицепиться. Не пойдет.
Прокат? Это в Америке легко и просто взять в аренду тачку. Как подступиться к такому делу у нас, Паша не имел понятия. И отложил вариант про запас.
Знакомые? Никто из знакомых ни ключей, ни доверенностей Шикунову не давал. Разве что обзвонить всех, кого только можно, сочинив какую-нибудь убедительную историю. Но рискованно. Это же сколько народу узнает, что ему вдруг срочно потребовался транспорт… А если люди в форме проявят интерес к Паше? Нет, доверенность – на самый крайний случай.
Вариант с угоном он не стал обдумывать. Понятия о ремесле угонщика были у Паши более чем приблизительные.
Значит – начать с проката. Полистать «Желтые страницы», узнать, какие фирмы этим занимаются, позвонить, спросить об условиях… Но это чуть позже, когда откроются конторы и офисы.
А сейчас стоит продумать главное – как труп преодолеет двадцать метров от дверей парадной до стоящей на подъездной дорожке машины (допустим, у него будет машина). Лестница и лифт – не так страшно, можно выбрать такое время суток, когда там никто не встретится. С вероятностью девяносто девять процентов не встретится – но рискнуть придется.
Главное – эти злосчастные двадцать метров. Почему-то Паше казалось, что именно тут он и погорит. Случайный прохожий на улице или страдающая бессонницей бабулька за окном – и все, конец. Самое главное – не будет ведь покоя: видел кто? нет?
Тюк? Длинный сверток? Слишком подозрительный груз, и запоминающийся… Здоровенная коробка из-под холодильника, завалявшаяся в кладовке? В легковую машину не влезет, да и ворочать одному несподручно… Влюбленный несет на руках свою подругу? Ну-ну… А она обмякла и не шевелится…
Черт возьми! Любому нормальному человеку ясно, что убивать надо подальше от дома, на лоне природы, – чтобы труп добирался туда своим ходом!
Да что уж теперь. Как получилось, так и получилось…
6
Как-то так получилось, что в тот же вечер они оказались в постели.
И ведь не было такого, чтобы к Лющенко его влекло и лишь Лариса мешала. Не было. Истосковаться от недостатка женской ласки Паша тоже не успел, хотя, конечно, радости семейного секса остались в прошлом задолго до ухода жены. Но были, были у Паши связи на стороне – легкие, ни к чему не обязывающие. Поначалу – когда пошла семейная жизнь трещинами – покончил со всем этим; потом увидел: не помогает, и осторожно принялся за старое.
В общем, он и сам не знал, как очутился с Лющенко на нерасстеленном диване. Вернее – зачем? Защитная реакция организма? Может быть… Страх, что сейчас она уйдет – и снова навалится одиночество? Еще вероятнее…
Самое смешное, что в тот раз у него ничего не вышло. Не отошел от шока потери. Потому что жену любил по-настоящему, и интрижки на стороне тому не мешали – наоборот, считал, что такое разнообразие вносит свежую струю, не дает браку иссохнуть, окаменеть, покрыться плесенью.
И детей любил – без всяких оговорок.
…Лющенко и тогда повела себя достойно – ни издевок, ни попреков. Хотя могла и умела, ох как умела… Но она метила выше. Собиралась не просто развлечь себя парой-тройкой обыденных случек. Закреплялась всерьез и надолго.
Утешила: перенервничал, с каждым может случиться, все наладится и поправится. И точно – на следующую ночь у Паши получилось.
Так у них и пошло – каждый вечер Лющенко приходила, и не просто на романтическое свидание… Обживалась. Готовила и мыла посуду, по-своему переложила все кухонные принадлежности, повесила новые занавески. Наверное, она была Паше нужна в те первые дни. Наверное, без нее он падал бы и падал в беспросветную яму тоски, и кто знает, каких чудовищ там бы встретил…
Но через четыре дня, когда потрясение сгладилось, у Шикунова словно открылись глаза. Он спросил сам себя: а что, собственно, здесь делает эта женщина? Очень мало знакомая и совсем его не интересующая?
И сам ответил себе: Лющенко здесь уже живет. Вот так, не больше и не меньше.
Глава 2
Прикладные аспекты хирургии и патологоанатомии
Он поднял голову и посмотрел на нее…
А. Щеголев «Ночь, придуманная кем-то»
1
Солнце поднималось все выше. Перевалило через стоявшую напротив девятиэтажку, залило ярким светом прокуренную кухню. Пора звонить, узнавать все, что можно, о прокате автомобилей – но Паша не спешил. Незачем – пока не решен вопрос с транспортировкой трупа от подъезда до машины…
Хотя, если честно, решение имелось. Но Шикунов старательно обходил его, пытался найти какой-то иной, изящный и выигрышный вариант. Но таковых не оказалось. И мысли поневоле вновь и вновь сворачивали к нехитрому выводу:
ЦЕЛЫЙ ТРУП НЕЗАМЕТНО НЕ ВЫНЕСТИ. ЗНАЧИТ, НАДО ВЫНОСИТЬ ПО ЧАСТЯМ.
Он наклонился над телом. Сдернул полотенце с лица. Долго всматривался и уговаривал себя: это уже не человек, это груда мяса, костей и требухи. Куча мертвой органики. Какая разница – одна мертвая куча или две? Или четыре? Или восемь? Никакой.
Хотя есть, есть, есть разница. Если куча останется целой и неделимой, Паше придется долго об этом жалеть – несколько лет, каждый день. Жалеть в очень нехорошем месте.
Надо оттащить ее в ванну, подумал он. Оттащить и все подготовить. Может, за это время придет другая идея. Хотя в глубине души понимал прекрасно: не придет. Труп придется РАСЧЛЕНЯТЬ. Впервые Шикунов мысленно произнес это слово – и ему стало легче. Словно рухнул какой-то невидимый внутренний барьер…
Он ухватил Лющенко за лодыжки, показавшиеся странно теплыми, – и тут же выпустил. Пятки стукнули о пол. Паша торопливо рылся в выдвижном ящике кухонного стола, вываливая всевозможный ненужный, но отчего-то не выброшенный хлам: огарки свечей, консервный нож с обломанным лезвием, давно севшие батарейки, старый безмен, показывавший на полкило больше истинного веса… Наконец обнаружил искомое – пару резиновых перчаток.
Натянул, снова взялся за ноги трупа, потащил. Коротко и модно стриженные волосы Лющенко растрепались, собирали пыль и сор с пола. «Я у мамы вместо швабры…» – вспомнил Паша дразнилку, с которой в его школьные годы обращались к сверстникам, мало дружившим с расческой. Что-то там было еще, вроде даже в рифму, он не мог вспомнить и твердил про себя, как заведенный: «Я у мамы вместо швабры, я у мамы вместо швабры…» И – помогало. Странным образом низводило все до уровня какой-то игры. Страшноватой, но все же игры.
…Пол в ванной был сантиметра на три-четыре ниже, чем в прихожей. Порожек казался совсем невысоким, обычно Шикунов его не замечал, перешагивал совершенно автоматически, но сейчас показалось: затылок Лющенко ударился о плитки пола с громким треском – словно кто-то сломал о колено толстую сухую ветку. Он на несколько секунд замер, сам не очень понимая – отчего. Потом выругал себя: все только начинается, впереди большая работа, если так будешь шарахаться от каждой тени и каждого шороха – лучше сразу пойти и набрать «02».
В ванне стоял таз с грязным бельем, пришлось аккуратно, вдоль стенки, обходить труп и выставлять емкость в прихожую. Вернулся, попробовал перевалить Лющенко в ванну, подхватив за плечи, – не вышло, тело оказалось неподатливым и громоздким. Тогда он взялся за середину – там, где, по его расчетам, должен был находиться центр тяжести. На сей раз все получилось как надо.
Затылок трупа снова издал мерзкий сухой звук, еще более громкий – теперь треснувшись об эмаль ванны. Паша почти не обратил внимания. Он обдумывал, каким инструментом лучше воспользоваться.
Следующие двадцать минут были посвящены поискам – за пять лет подзабыл, что и где лежит в квартире, да и привезенные из Казахстана вещи по приезде он распихал кое-как, без особого порядка.
…Пила-ножовка оказалась в приличном состоянии – зубья наточены, разведены. А вот нож для разделки мяса – скорее даже не нож, а тесак – отыскался с большим трудом и выглядел плачевно: тупой, на потемневшем металле проступили пятнышки ржавчины. Похоже, никто не брал тесак в руки после смерти отца – у того изредка случались кулинарные порывы, причем никаких полуфабрикатов Шикунов-старший не признавал, лишь парное, принесенное с рынка мясо. Но Паша с Ларисой питались проще: покупали котлеты или фарш, варили готовые пельмени…
Он механическими движениями гонял тесак по бруску – вжик, вжик, вжик, – а сам думал, как дико для него звучит прошедшее время: покупали, варили… Нет, к черту! Надо разделаться с этим кошмаром – и непременно помириться с Лариской. Она же умная баба, она поразмыслит и поймет, что в наше время остаться одной с двумя детьми – значит поставить крест на своей личной жизни… Поймет и вернется. Наверное, все будет по-другому, придется выстраивать отношения заново, осторожно и медленно, но…
«Но сначала надо избавиться от этой гадины!» – резко и зло оборвал Паша свои мысли. Иначе все их с Ларисой проблемы сведутся к одной-единственной: будет или нет она носить передачи в Кресты.
Он в очередной раз опробовал заточку на ногте – на совесть отточенное лезвие легко, почти без нажима срезало тончайшую стружечку. Честно говоря, и предыдущая проба была вполне удовлетворительна – но Паша продолжал точить тесак последние две-три минуты лишь для того, чтобы оттянуть момент, когда его придется пустить в ход.
Теперь надо позвонить насчет машины, потом подумать про тару и упаковку, потом… Он поймал себя на том, что придумывает новые и новые предлоги, чтобы не идти в ванную, чтобы не начинать… Разозлился, подхватил инструменты, пошел – от кухни до ванной каких-то восемь шагов, но он делал каждый следующий медленнее, чем предыдущий. С радостным облегчением вспомнил: нужен фартук или халат! К сожалению, долго искать спецодежду не пришлось…
Затем он неторопливо размышлял о необходимых размерах фрагментов. Затем – о местах разрезов и распилов. Все решил и продумал, пора, нечего оттягивать, кто-то и где-то наверняка уже заметил отсутствие Лющенко, время работает против Паши… Он всматривался в мертвое лицо – и накручивал себя, вспоминая, как кривились губы гадины, когда…
2
…Когда она прошипела:
– Пло-х-х-х-хой мальчиш-ш-ш-ш-ка…
Разговор имел место минувшим вечером на Пашиной кухне. Началось все безобидно. Лющенко сказала, что в воскресенье к ней заедут родители – повидаться, поговорить… И – пригласила Пашу принять участие в семейном ужине. Он отказался – возможно, резче, чем следовало. Но решение к тому моменту созрело: порвать раз и навсегда с Лющенко и предпринять все возможное для восстановления семьи.
Это был не первый его отказ – пару раз за минувшие дни она уже приглашала Шикунова к себе, побыть вдвоем. У него находились предлоги, чтобы отклонить приглашение. Ненадуманные – он устроился наконец на подходящую работу, начальником отдела в небольшую, но бурно растущую фирму. Оформился буквально за три дня до ухода Ларисы и с головой ушел в проблемы налаживания производства и сбыта – пытаясь этим заполнить звенящую пустоту.
Помогало.
Днем – а рабочий день затягивался у Шикунова до позднего вечера – боль потери притуплялась. А вечером наготове была Лющенко – как таблетка-антидепрессант. Но идти к ней домой отчего-то не хотелось. Казалось: тут какой-то рубеж, какая-то граница. Одно дело – она приходит к нему. Совсем другое – он к ней.
Но вчера вечером отговорки, касающиеся работы, пригодиться не могли – предстоял уик-энд. Да и вообще пришла пора расставить точки над i.
Паша расставил: сказал ей прямо, что не видит смысла в развитии отношений. И в затягивании – не видит. Поскольку люди они разные, и даже поговорить им толком не о чем: ну вовсе не интересно ему слушать, какие у Лющенко были шикарные кавалеры на «вольво» и «мерседесах», как они делали ей дорогие подарки, возили по клубам и ресторанам, но все получили от ворот поворот, ибо по тем или иным причинам не оказались достойны своей избранницы.
Шикунов не преувеличивал. Других тем для разговора у Лющенко не имелось. Вообще. Последнюю книгу она прочитала лет десять назад, с друзьями-подругами не общалась за их отсутствием. Если же ей доводилось выезжать за пределы Питера, то все впечатления, которыми Лющенко была способна поделиться, сводились к сценарию очередного эпизода бесконечного любовного сериала – в декорациях Прибалтики или Крыма.
Возможно, позиция Паши – попользоваться женщиной как таблеткой от стресса и выбросить по истечении надобности – не блистала благородством. Но дальнейшие события показали, что благородство с Лющенко – дело ненужное, глупое и даже опасное.
– Пло-х-х-х-хой мальчиш-ш-ш-ш-ка… – прошипела она, мгновенно сбросив все маски. И стала тем, кем и была все эти годы – расчетливой стервой-падальщицей.
Паша разозлился.
– Замуж невтерпеж? – поинтересовался он, стараясь произносить слова холодно и равнодушно.
И – с трудом увернулся от выплеснутого в лицо обжигающего кофе. Не совсем удачно увернулся – несколько горячих капель попали на шею и щеку. Вместе с болью он, как ни странно, почувствовал облегчение. Нынешняя Лющенко – до сегодняшнего вечера – была какая-то неправильная. Но теперь все встало на свои места.
– Импотент сраный! – выплюнула Лющенко.
Ухватила за край скатерть – и смахнула на пол со всем, что на ней имелось. Взгляд стервы скользнул по кухне – явно в поисках новых объектов для разрушения.
Паша оказался на ногах. Сказал со спокойным удовлетворением:
– Или ты уйдешь сама, собрав вещи. Или – выкручу руку и отволоку к двери. Потом вышибу пинком по заднице. А шмотки будешь подбирать под балконом. Выбирай.
Это стало ошибкой. Надо было сразу выкручивать руку.
– Думаешь, твоя краля вернется? Размечтался… – резанула по живому Лющенко. – Она сейчас с Машкой Гусевой спит, чтоб ты знал. И это ей куда больше нравится, чем твои импотентные потуги!
Про Машу Гусеву он знал. Надеялся, что это мимолетное увлечение Ларисы было лишь призвано заставить Пашку остановиться, задуматься, пересмотреть отношение к семье и жизни. И он остановился, задумался, пересмотрел. Но Лющенко… Ей-то как стало…
– Откуда… – начал Паша.
– Ты идиот, Ш-ш-шикуноф-ф-ф… Слепой как крот. И с членом такой же длины. Мы с Машкой работаем в одной фирме. И если женщина не желает изменять мужу с мужчинами, никто лучше…
Дальше он не слушал. Все ясно и понятно. Его семейная катастрофа вовсе не стала сцеплением нелепых случайностей – но работой стервозной интриганки. Нет, огонек тлел и до ее появления на горизонте, однако вовсе не грозил обернуться большим пожаром. Лющенко же щедро плеснула пару ведер бензина.
Шикунов с трудом подавил острейшее желание вмазать суке со всего размаха по лицу, чтоб рухнула на пол, и бить, бить, бить ногами…
Не стоит. Она и без того проиграла. Просчиталась в главном – Паша на ее удочку не попался. Почти заглотил крючок, но в последний момент выплюнул. Значит, и ее домыслам о серьезности отношений Ларисы и Маши Гусевой нечего верить.
Он разогнул пальцы, уже сжавшиеся в кулаки. Сказал коротко и, как ему казалось, с ледяным спокойствием:
– Уходи.
– Х-х-хорош-ш-ш-шо, Ш-ш-ш-шикуноф-ф-ф-ф-ф… – зашипела Лющенко вовсе уж по-змеиному. – Я уйду…
Она двинулась якобы в сторону прихожей, Паша посторонился, давая дорогу, и… И, наверное, подсознательно он ждал чего-либо подобного. Каким-то чудом сумел уклониться от ее руки – острые когти прошли в считаных миллиметрах от Пашиного лица. Тут же мысок туфли ударил Шикунова по ноге – по голени, по кости, прикрытой лишь кожей.
О-у-у-у!!! Больно-о-о!
Паша отреагировал рефлекторно. От души врезал Лющенко по скуле. Она отлетела, не устояла на ногах. Падая, ударилась виском об угол плиты. Шикунову показалось: вскользь, несильно. Однако, упав, осталась лежать неподвижно. Он подумал, что гадина притворяется, что стоит нагнуться над ней – снова пустит в ход когти…
Но Лющенко не притворялась.
3
По суставам, обязательно по суставам, подумал Паша. Разрезать, что разрежется, потом твердое – пилой.
Он наклонился над ванной, занес тесак… И снова распрямился. Опять забыл про перчатки, которые снял, пока искал и точил инструмент. Сходил на кухню, надел, но вся решимость за эти недолгие секунды куда-то подевалась. Шикунов снова наклонился, приложил лезвие к коленке…
В этот момент запиликал домофон.
Паша бросил взгляд на часы и застонал. Лариса! Как он мог забыть про нее! Вчера позвонила на работу, сказала, что в субботу с утра заскочит, заберет кое-какие детские вещи… Он пообещал, что будет дома.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Не открывать? А потом объяснить, что появилось какое-то срочное дело? Вариант неплохой, свои ключи Лариса брякнула на стол, уходя. Но…
Но имелся еще один комплект, запасной. Хранился на всякий случай он у тещи, жившей неподалеку – в пяти автобусных остановках. К матери-то и ушла Лариса. И как раз сегодня обещала принести и отдать ту связку.
Мысли метались в голове. Шикунов метался по квартире. Бросился на кухню, торопливо стал подтирать полотенцем засохшую лужицу крови – не доделав, помчался в ванную.
Домофон продолжал пиликать.
Куда же оттащить, куда же запихать тело? Лариса – чистюля невероятная, придя с улицы, тут же отправится мыть руки…
В крохотной «двушке» Шикунова подходящих мест не было. По крайней мере быстро ничего не придумывалось. Да и неизвестно, по каким углам-шкафам будет Лариса собирать вещи. А если не только детские? Если откроет платяной шкаф и увидит труп?
Домофон смолк. Паша издал слабый скулящий звук. Едва ли Лариса развернулась и ушла. Либо кто-то вошел или вышел, впустив ее, либо воспользовалась принесенными с собой ключами…
Так ничего и не придумав, Шикунов задернул пластиковую занавеску, скрыв из виду ванну вместе с содержимым. И тут же мелькнула спасительная идея. Щелкнул выключателем, привстал на цыпочки и схватился за висевшую в ванной лампочку. Раскаленное стекло обожгло сквозь тонкую резину, но Паша, матерясь, вывернул-таки лампочку на пол-оборота. Щелкнул выключателем снова – свет не зажегся.
До того, как простуженной канарейкой запиликал дверной звонок, Шикунов успел покончить с кровавым пятном на кухне. Совсем оно не исчезло, но выглядело теперь достаточно безобидно – словно тут разлили и небрежно вытерли кетчуп…
4
– Оттягиваешься на свободе? – без особого попрека спросила Лариса, кивнув на открытую дверь кухни.
Валяющуюся на полу скатерть и разбитую посуду Шикунов убрать не успел, кофейную лужицу тоже не вытер. Он проглотил комок в горле, попытался что-то ответить – и не смог.
– Не особо эстетично, но вполне логично, – продолжила она. – Я, пожалуй, разуваться не буду.
И – угадал, угадал Паша! – потянула дверь ванной, одновременно нажав клавишу выключателя.
– Что у тебя со светом, Шикунов? Вверни новую лампочку, есть же запасные…
Он наконец справился с речевым аппаратом. И голос прозвучал достаточно уверенно:






