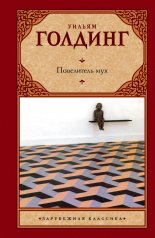Дар нерукотворный (сборник) Улицкая Людмила

Лиля Жижморская меланхолически стягивала плотный резинчатый чулок и все поглядывала на открытку со змееупорным старцем. Слабый режиссерский позыв шевельнулся в ней:
– А Плишкина пусть будет волшебником!
Алена возмутилась:
– Какая Плишкина? При чем тут Плишкина? Волшебником будет Колыванова, она самая длинная!
Это прозвучало убедительно, но Колыванова, вцепившись в большую красную юбку, полыхала смущением и никак не могла решиться.
Кукол отодвинули. Та прежняя игра, едва тронувшись в рост, увяла. Разложенные по краю кровати открытки приглашали к новой. Акт переодевания был уже состоявшимся прологом, но условия были неизвестны, и наступила заминка.
Жижа, все еще в одном чулке, некрасиво выглядывающем из-под сладко-розового шелка, обернулась к книжному шкафу и прицелилась обещающим близорукость взглядом в корешки.
С Колывановой содрали юбку и напялили сине-зеленый халат с большим горящим драконом на спине. Два других дракончика, поменьше, были вышиты спереди, и втроем они вполне заменяли отсутствующую змею. На голову Колывановой надели меховую ушанку Алениного отца, обмотав ее оранжевой пижамой и елочной канителью. Малиновые пижамные штаны, преобразованные в шальвары, выглядывали из-под халата. Неподвижно и величественно стояла Колыванова, пока Алена рисовала ей усы и бороду, макая тонкую кисточку в квадратные фарфоровые отделения с жирной мягкой краской, изъятой из материнского туалетного стола. Усы получились, а борода не удавалась. Пришлось прилепить к подбородку кусок новогодней ваты.
Прозрачная коробка с дешевыми украшениями – девочки называли их блестяшками – была вывернута на стол, и все пошло в ход. Алена, сверкая большим красным стеклом, сползающим со лба на короткий веснушчатый нос, щедро раздавала в протянутые руки колье и клипсы.
Все завертелось пестро и стремительно, и само время, дрогнув, отступило. Последующие три часа расстелились вечнозеленым знойным островом в океане равномерных минут и часов обыденности.
Прижимая к животу толстую большеформатную книгу в картонно-жидком переплете, Лиля выскользнула из комнаты и приткнулась в кухне, на табурете, уютно уложив под зад голую ногу.
Книга раскрылась на случайном месте, и Лиля прочла:
«Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный…» Ей понравилось.
Вслед ей из комнаты выплеснулось немного скрипучей патефонной музыки, но Лиля уже ничего не слышала.
Растопырившую острые колени Колыванову усадили на кровати. Она сидела болван болваном. Вата лезла в рот, головное сооружение валилось то на одну сторону, то на другую, и от него было жарко. Пирожкова стояла над ней с голым животом и делала какие-то маленькие движения, которые еще не были танцем, но собирались им стать.
Сестры Оганесян распустили свои конского волоса косы, окончательно зачернили нимало в том не нуждающиеся могучие армянские брови и накрасили густо кровавым рты, отчего сразу возмужал детский пушок над верхней губой.
Вика сверилась с открыткой, заключительным движением провела бордовые жирные стрелы от наружных углов глаз к вискам и твердо сказала:
– Ты, Ир, танцуй, ты, Колыванова, сиди, а мы будем жених и невеста.
– Ты дурочка, что ли? – добродушно удивилась Плишкина. – Кто невеста, тот в белом платье.
Пирожкова уже растанцевалась: выламывала крылышки, задирала свои куриные ноги выше головы и не обращала никакого внимания на интересную дискуссию.
– Тебе нравится, ты и надевай белое, а мы так будем. Ты что, не понимаешь, здесь же все турецкое! – объяснила снисходительно Челышева.
При слове «турецкое» Гайка с Викой переглянулись: про турецкое они кое-что слыхали, и то было дело не сказочное, не шуточное, а страшное и тайно-домашнее, о чем с чужими не говорят.
Плишкиной все-таки была выдана белая простыня – в сундуке не нашлось ничего белого, кроме двух теннисных юбок такого маленького размера, какой Плишкиной никогда не суждено было носить.
Невест, следовательно, образовалось три, да и Алена уже стягивала за подол расшитое платье, чтобы надеть что-нибудь невестинское.
– Ален, ты что? – забеспокоилась Челышева. – Ты посчитай, сколько невест получается? Четыре, да? А женихов? Я и Ирка, два!
– Я не буду женихом, я танцовщица! – крутя подбородком и выворачивая кисти, бросила Пирожкова.
Дед ее, воспитатель и тренер, не только веревчато-крепкие мышцы ей нарастил, но и в характер ей вплел такие нити, что любое дело она делала насмерть, дотла, до полного уничтожения. Случалось, он из тренировочного зала выносил ее на руках. Вот и теперь она ввинтилась в этот танец и все раскручивала свое тело, чтобы принять ту позу, которую держала девица на открытке и к которой она все приближалась, но не окончательно. Особенно не получались именно кисти рук.
– Что же я, одна на всех жениться буду? – возмутилась Челышева.
– Пусть, пусть, даже хорошо, – обрадовалась Алена, отпуская тяжелый подол. – Колыванова будет отец-шах, я шахиня, а они дочери, три сестры и невесты, и мы их разом за одного жениха и выдадим.
Вид у Алены был такой довольный, как будто она первой контрольную по математике написала.
– Нет, вы как хотите, а я так не хочу, я хочу себе отдельного мужа, – разрушила Вика стройный Аленин замысел.
– Да ведь все равно, Вик, играем же, – с глупой и милой улыбкой миротворила, как обычно, Плишкина.
– Раз тебе все равно, вот и будь женихом, а не невестой! – живо отреагировала Вика.
– Хорошо, – легко согласилась Плишкина и стала стаскивать обмотанную вокруг цилиндрического туловища с толстенькими бесполыми грудными складками простыню. – Я могу и женихом, пожалуйста.
– Отлично! – обрадовалась Вика. – Мой жених будет Челышева, а Гайкин – Плишкина!
Все уже почти сладилось, но Гайка, которая все искоса ловила в большом зеркале свое отражение в профиль, неожиданно взъерепенилась:
– Нетушки! Машка будет мой жених, а ты бери себе Плишкину!
– То есть как? – изумилась Вика.
– А так… – Гайка влажным взглядом посмотрела на сестру. – Я не хочу Плишкину.
– Это почему же? – угрожающе спросила Вика.
– Не хочу, – кротко, но окончательно заявила Гайка. – Сама бери себе Плишкину.
Плишкина замерла с простыней. Алена сосредоточенно занималась спадающей на нос диадемой. Страшное предчувствие коснулось Вики. Горло ее сжалось так сильно, что пришлось несколько раз глотнуть, чтобы прошло это ощущение замыкания и тесноты. Тень будущего упала в сегодняшнее существование, и тень эта была ужасна: у Гайки оказались какие-то дополнительные права, по которым она без усилий будет получать от жизни то, что Вика должна будет вырывать с боем….
– Нет, – твердо сказала Вика. – Плишкина мне не нужна.
– Значит, как я сказала, – обрадовалась Алена. – Мы трех дочерей выдаем замуж за одного жениха. Зато он королевский сын и зовут его… Мухтар!
– Только не Мухтар! – засмеялась Челышева. – У нас на даче овчарка Мухтар!
– Тигран, – мечтательным хором произнесли сестры. Был у них троюродный брат в Тбилиси, бровастый, сероглазый, с сиреневым румянцем, просвечивающим сквозь тринадцатилетний пух.
– Давай, давай, пусть Тигран, – согласилась Челышева.
– А мне чего делать? – робко спросила Колыванова, которой давно уже хотелось в уборную.
– А ты сиди. Я сейчас рядом с тобой сяду, – сказала Алена, и Колыванова, поерзав, снова замерла врозь коленями.
…Потом все опять сели за стол, налили остатки грушевой воды в высокие стаканы и, не найдя среди высыпанных на стол драгоценностей подходящего, стали катать из фольги и цветных ниток обручальные кольца. Стройный жених с кухонным ножом за поясом держал в горсти целых три, чтобы оделить каждую из сестер, а невесты стояли у стола в затылок друг другу.
– Горько! – закричала истошно Алена.
Все подхватили. Тигран обменялся кольцами с Викой, поцеловал ее и лихо выпил лимонаду. Далее последовали Гайка и Плишкина. Три толстых кольца из фольги украсили мужественную руку жениха. Лимонад допили до последней капли. Свадьба в общем прошла как-то неубедительно. Явно чего-то не хватало. Впрочем, и во взрослой жизни тех лет тоже отмечалась какая-то нехватка, заполнявшаяся обычно пьяным свадебным безобразием, выраставшим, как глухая крапива на пустоши.
Гайка же, не заметив незаполненного пространства, уже пеленала на кровати куклу Кити, по величине приближавшуюся к натуральному младенцу.
– А теперь у меня будет как будто дочка! – объявила Гайка.
– Как же, дочка! Быстрая какая! – заметила скептически Колыванова-шах. – А это самое? – И она просунула указательный палец правой руки в колечко, сложенное большим и указательным левой.
Все замолчали.
– Что? – переспросила Гайка.
– Это самое, от чего дети бывают, – уточнила Колыванова, работая указательным пальцем правой руки в означенном направлении.
Неукротимая Пирожкова, как заведенная, все продолжала танцевать руками, но уже перешла в партер. Она лежала на полу, прижав ступни к затылку, и крутила кистями в надежде их все-таки вывернуть.
– Тань, – просительно, умоляюще сказала Гайка, всей душой надеясь, что ей удастся переубедить Колыванову. – Ну, женятся мужчина и женщина, и от этого дети бывают…
– Ты что, не знаешь? – Колыванова покрутила пальцем у виска. – Маленькая совсем, да?
Плишкина засмеялась, Алена переглянулась с Челышевой.
– Единожды один – приехал господин, – эпически начала Колыванова, – дважды два – пришла его жена, трижды три – в комнату вошли, четырежды четыре – свет погасили…
– Да знаю я это, знаю, – перебила ее Гайка.
– Да ничего ты не знаешь, – сурово ответила Колыванова. Не так уж много чего она знала, но это уж она знала точно… И потому продолжала: – Пятью пять – легли на кровать, шестью шесть – он ее за шерсть…
– Не надо, – попросила Гайка, но Колыванова жестоко продолжала:
– Семью семь – он ее совсем, восемью восемь – доктора просим, девятью девять – доктор едет, десятью десять – ребенок лезет! Поняла, да?
– Это когда… это называется… – забормотала пораженная догадкой Гайка.
Алена была светским человеком и, почувствовав неловкость, сразу нашлась:
– Ты спроси у Лильки, как это называется. Она все знает.
Гайка, прижимая куклу к груди, пошла на кухню. Лиля сидела на табуретке, уже поменяв ногу, так что болталась теперь голая, и зрачки ее быстро-быстро бегали по строчкам.
– Лиль, – тронула ее за плечо Гайка, – скажи, только честно, как называется, от чего дети родятся?
Лиля подняла отвлеченный взгляд, немного подумала и сказала очень серьезно, немного охрипшим голосом:
– Косинус, – и снова уперлась в книгу. Бабушка ей все честно, по науке рассказала еще в прошлом году.
У Гайки немного полегчало на душе. Косинус – это все-таки косинус, а не то ужасно-ругательное заборное слово. Однако по дороге в комнату ее неприятно поразила мысль, что, пожалуй, и ее собственные родители, желая произвести их на свет, тоже делали этот косинус… Впрочем, может, есть какой-то более приличный способ, о котором и Лилька не знает…
Она вошла, когда Челышева, Плишкина и Вика барахтались втроем на кровати, изображая великий акт, а Колыванова, переминаясь с ноги на ногу и снисходительно улыбаясь, махала рукой и повторяла:
– Да не так, не так, и не похоже совсем! И ноги подымать надо!
…Училась Колыванова плохо, в школьной столовой сидела за отдельным столом, где кормили «бесплатников» дармовыми завтраками, форму ей покупал родительский комитет. И всегда у нее чего-то не хватало: то тапочек, то мешка для галош, то физкультурной формы. Последний, совсем последний человек была она в классе. И вдруг оказалось, что она знает о вещах взрослых и тайных, и знает как-то запросто, и таким бесстрашным ежедневным голосом об этом говорит. Из сонной верзилы-второгодницы она на глазах превращалась в очень значительную персону. Все смотрели на нее с выжидательным интересом. Но Колывановой так хотелось в уборную, что она даже не могла оценить своего неожиданного взлета.
– А как, Тань? – спросила Вика, стоящая на четвереньках на кровати.
– Да здесь вообще не годится, – критически постучала Колыванова рукой по кровати. – Слишком широко. Надо, чтоб место было узкое и тесное. И темно.
– Так под столом же! – обрадовалась Плишкина. Колыванова с сомнением подняла край скатерти, заглянула под стол.
– Две подушки надо, – наморщила она лоб. – Ну, и постлать там надо. И сверху чем прикрыть.
Организовали брачное ложе.
– Чур, я первая! – нетерпеливо подпрыгивая, закричала Плишкина.
Жених уже лежал в темном низком доме со стенами из шевелящихся сквозь скатерть полос света, движущихся ног и неподвижных ножек стола и черных стульев, и эта подстольная тьма обязывала его к чему-то страшному и таинственному.
А Плишкина, сдвинув могучим плечом Алену вместе со стулом, шумно лезла под стол. Затолкавшись туда, она тихо хихикнула:
– Эй, жених, где ты?
Своим глупым хихиканьем она сбила все, и жениху пришлось перестроиться:
– Ползи, ползи сюда.
Невеста приползла и полезла обниматься. Она любила всякие объятия, касания и тайные телесные движения. Был у нее некий малый, но приятный опыт. Она обняла жениха, сразу стало тесно и душно.
– Давай по-настоящему поцелуемся, как в кино, – предложила она, – как дяденьки с тетеньками, – и подставила раскрытый рот прямо к носу жениха.
Он пытался вывернуться, но изгородь ног и ножек не выпускала, и ему пришлось приложиться сухо обветренными зимними губами к горячему и мокрому плишкинскому рту. Наверху все было очень тихо.
– Я сейчас покажу тебе, как сделать очень приятно. Так горячо, горячо, – пообещала Плишкина.
Пригнув голову, она села на низкую перекладину, задрала простыню и, положив одну толстую ногу на другую, указательным пальцем влезла в самую середину треугольничка.
– Дай руку, я тебе покажу! – зашептала на ухо Плишкина.
– Дура ты, – фыркнула Челышева. Она про этот номер и сама знала. Только не знала, что и другим он известен.
Плишкина немного поколыхалась, попыхтела и сказала обиженно:
– Честное слово, я не вру, так хорошо там делается…
Но жених шарахнулся и выскользнул из-под стола. Плишкина, розовая и влажная, как искупавшийся поросенок, вылезла на поверхность.
– Гайка, полезай теперь ты! – пригласил жених, и Гайка, цепляясь широкими рукавами за спинки сразу двух стульев, нехотя полезла под стол. Жених протискивался с другой стороны.
– Это я, Тигран, – услышала Гайка хриплый шепот. И закрыла глаза. В прошлом году, в бабушкином саду в пригороде Тбилиси, они играли с Викой, а Тигран, пришедший в гости вместе с их общей теткой, смотрел с высокой веранды в их сторону. Вика сказала сестре тихонько, не поворачивая головы: смотри, на нас смотрит.
Гайка знала, что смотрит он именно на нее, и отвернулась. Вика ни с того ни с сего захохотала и, одернув юбочку, сделала «ласточку», высоко подняв крепкую ножку и растопырив руки.
Гайка лежала, сильно сжав веки. Он склонился над ней, опершись одной рукой о подушку возле ее головы и больно прижав прядь волос. Второй рукой он раздвигал колени.
Дыхание перехватило. Такой глубокий и полный ужас она испытывала только во сне, на выходе из младенчества, и, просыпаясь среди ночи с долгим припадочным криком, затихала на руках отца, который часами носил ее по комнате.
Тигран лег на нее сверху.
– Ты не бойся, тебе будет приятно и горячо, – прошептал он.
– Ты что, по правде? – ужаснулась Гайка. – Не надо, Тигран.
– Дура ты! Понарошке, конечно! – засмеялась Челышева, и тут только Гайка поняла, что никакого Тиграна и не было. И она тоже засмеялась.
Бахрома приподнялась, и просунулось криво повернутое лицо Вики.
– Ну, давай скорее, моя же очередь! – торопила она.
Пока жених осваивал последнюю невесту, Алена деловито привязывала к Гайкиному животу, под лимонную пижаму, большую куклу.
– Так? – уточнила она у Колывановой.
Колыванова кивнула.
«Ну все, сейчас обоссусь», – подумала в отчаянье Колыванова и, плотно сдвигая ноги, пошла к двери.
– Ты куда? – удивилась Алена.
– Домой, – лаконично ответила Колыванова, чувствуя, что у нее внутри все разрывается, и одновременно отметив про себя, что хоть ковра-то она теперь не испортит.
– Еще не доиграли, – растерянно сказала Алена.
– Мамка заругает, – сумрачно ответила Колыванова, почти не разжимая губ. Ей казалось, что, разожми она губы, так и польется. Спросить же, где уборная, ей и в голову не приходило.
– Самое интересное начинается, а ты… – разочарованно протянула Алена, огорченная потерей столь ценного эксперта.
Но Колыванова уже натягивала пальто, удачно оказавшееся поверх всей кучи. Шапка была в рукаве, а рукавицы и шарф она искать не стала. Оттянув легкий блестящий рычаг замка, она выскочила на площадку. Внизу урчал лифт. Наверху, полупролетом выше, была укромная тьма перед низкой чердачной дверью. Она поднялась туда и, чувствуя, что уже опаздывает, стянула с себя штаны и надетые поверх жгуче-малиновые шаровары, присела, и в тот же миг из нее брызнул лимонад, химически низложенный, но не изменивший своего соломенно-желтого цвета.
«Сейчас поймают», – мелькнуло у нее, и она хотела остановить поток, но это оказалось невозможным. Лифт щелкнул, хлопнул, снова загудел. Ручеек из-под ее подобранного пальто стекал по лестнице вниз, намереваясь предательски излиться на нижнюю площадку, но замедлился и стал растекаться грушевидной лужицей. Она проворно натянула штаны, обтерла ладонями мокрое от незамеченных слез лицо и, грохоча ботинками, понеслась вниз по лестнице легко и свободно, со странным ощущением стремительного движения вверх, а вовсе не вниз. Переживая остатки волнения, едва не состоявшегося позора и чудесной телесной радости, она вприпрыжку бежала домой, где мать ее вовсе не ждала, поскольку вышла сегодня в ночную смену.
И только дома, под ошалелыми взглядами старшей сестры и двух младших братьев, она опомнилась, что убежала в чужом, а сестрина красная юбка и ее новая ковбойка с приколотым на груди ангелком остались у Алены.
А дома, в их узкой комнате с половиной окна, пахло керосином, и старым ночным горшком, и свежими пирогами, которые перед работой напекла мать, и было так хорошо и так плохо, что Колыванова бросилась на материнскую кровать, пережившую на Таниной памяти четырех отчимов, и, сверкая золотым драконом на сине-зеленой спине, громко заплакала в подушку.
…Беременные жены лежали поперек кровати и собирались рожать.
– Вика и Плишка пусть мальчишек родят, а Гайка девочку, – высказал пожелание муж, но Алена неожиданно грубо отшила его:
– А ты иди коляску покупай, вот что!
– Ты что, я же принц! Какая коляска! – возмутился незаметным для себя самого способом свергнутый принц Тигран.
– У нас уже давно другая игра, а ты все принц! – дернула плечами Пирожкова, которой в конце концов надоело танцевать и она преобразилась в доктора.
Алена на большой тарелке раскладывала фруктовые ножички из серванта и какие-то неопределенного назначения щипчики.
– Это будут инструменты, – объяснила она, ставя на кровать тарелку. – Все стерильное.
Не так давно ей удаляли аппендикс, память была свежей.
– Да зачем инструменты? – удивилась Плишкина.
– Ты не знаешь? Лилька говорит, что, когда через пиписку не проходит, живот разрезают, – пояснила Пирожкова. – Операцию делают. Очень даже часто. А чего ты так лежишь, ты стони. Это же ужас как больно. Мне мама говорила.
Плишкина громко и очень удачно застонала. Басовито подхватила Вика. Гайке эта игра давно надоела. Придерживая на животе куклу, она вспоминала, как Тигран стоял на веранде и смотрел на нее. «Вырасту и выйду за него замуж», – решила она.
– Ну, давай скорее, надоело! – заныла Плишкина.
– Все, все готово! – докторским голосом сказала Пирожкова. – Штаны снимайте.
Роженицы стянули шелка пижам. Они уже забыли, с чего это они развели все это переодевание, и даже не замечали, что лежат заголенными задами на Лилькиных открытках.
– Ой! Ой! – очень натурально сказала Плишкина. Она была большой притворщицей и натренировалась на своей любвеобильной матери.
Пирожкова тупым фруктовым ножом раздвинула пухлую складку. Бледно-розово и влажно мелькнула моллюсковая изнанка. Плишкина захихикала – щекотно!
Алена стала потихоньку толкать вниз по животу куклу.
– Да нет, не так! Не похоже! – вмешался отосланный было за коляской разжалованный принц. – Лучше вот эту возьми, но откуда надо, по-настоящему! – Ему как отцу хотелось правдоподобия, и он сунул в руку Алене маленького целлулоидного голыша.
– Лилька говорит, они рождаются головкой вперед, – предупредила Пирожкова.
– А я как будто не могу родить, и вы мне делаете операцию, – попросила тщеславная Вика.
– Да подожди ты, сначала я! – рассердилась Плишкина, которую, как ей казалось, все время оттирали.
Пирожкова, под тонкое хихиканье Плишкиной, уже ввинтила голыша в нужное место, и маленькая его головка с парикмахерской прической торчала наружу, как розовый пузырь.
– А теперь схватывайся! Схватки должны быть! – посоветовала Алена, и Плишкина схватилась руками за свои бока.
– Ну, давай, что ли! – торопил врач. – Рожай!
Пирожкова потянула голыша за голову, но Плишкина как-то удержала его внутренним усилием. Тогда Пирожкова надавила на головку, так что она почти исчезла из виду, а потом дернула. Плишкина пискнула:
– Эй, ты чего, больно же!
Ребенок родился. Пирожкова положила его на тарелку рядом с инструментами, и Алена помогла ей совершить запланированную подмену – сунула ей в руки большую куклу, которая, собственно, и должна была родиться, но временно была отставлена.
Плишкина пеленала куклу и капризно требовала:
– Пап! Ну ты давай встречай! Ты должен меня встречать! Из роддома всегда встречают!
У Плишкиной тоже был кое-какой жизненный опыт.
Алена уже делала Вике кесарево сечение, проводя фруктовым ножом поперек живота.
Гайкина очередь так и не подошла, поскольку позвонила бабушка и спросила, не пора ли за ними прийти. Почти одновременно раздался звонок в дверь: за Челышевой пришла домработница Мотя, и Маша, у которой как раз разболелась голова, без всякого сопротивления дала себя увести – к большой неожиданности для Моти, собиравшейся долго и терпеливо выманивать противную девчонку из гостей.
Все вдруг почувствовали себя усталыми. Плишкина даже и проголодалась, доела последние бутерброды. Вилочки лежали на столе, никому не интересные.
Снова зазвонил телефон. Это была Бела Зиновьевна, Лилина бабушка. Лиля ее горячо уговаривала:
– Белочка! Ну еще полчасика, пожалуйста! Мне совсем немного осталось!
– Чего тебе немного осталось? – удивилась Бела Зиновьевна.
– Дочитать. «Старуху Изергиль»… Там совсем немного… так интересно… – умоляла Лиля, такая же розовая и возбужденная, как и все остальные.
Все гости разошлись почти одновременно, и Алене это было очень обидно.
…Пришедшие в половине двенадцатого Аленины родители были ошеломлены: дом был разгромлен, буквально вывернут наизнанку. Только что мебель стояла на прежних местах. Они молча переглянулись. Алена спала на их кровати в алькове, среди смятых открыток и серебряных фруктовых ножей, в старом вечернем платье матери. Отец поднял спящую девочку, и мать увидела, что лицо ее пылает. Она тронула ладонью лоб и покачала головой.
– Аспирин? – тихо спросил муж.
– Минуту погоди, я ей постелю. Потом сообразим. – Она была хладнокровной женщиной, не подверженной панике.
…И Плишкина заболела в ту же ночь. Она сильно металась, сбивая в ком одеяло. Мать простояла над ней до утра. Полупросыпаясь, девочка просила пить, и мать бережно подносила к ее губам синюю фарфоровую кружку с теплой кипяченой водой. Она выпивала и снова оказывалась в том же страшном сне: над ней угрожающе склонялся большой старик с острой черной бородой, дышал на нее горячим воздухом, и был он фининспектором, которого так сильно боялась ее мать, дорогая домашняя портниха, много лет работавшая без лицензии.
К утру Плишкина проснулась окончательно, улыбнулась матери всеми своими очаровательными ямочками и запятыми, выпила еще одну кружку воды. И лицо ее, и большое жидковатое тело было усеяно красными шершавыми звездочками. Она пописала над большим горшком. Внутри немного пощипало, но она не обратила на это внимания. Дефлорация была столь нежной, что самый факт ее никогда не был осознан, и ото всей этой истории остался у Плишкиной на всю жизнь мистический страх перед фининспектором, который склонялся над ней с неопределенной угрозой.
Девочки Оганесян заболели только через сутки, но высокой температуры у них не было, их ветрянка прошла в легкой форме. Высыпание было небольшим, и бабушка сразу же прижгла папулы луковым соком, а не зеленкой, как было тогда принято. Бабушка велела им лежать в постели и всячески ублажала и развлекала. Рассказывала о зоках, от которых происходила, и пела зокские уныло-прекрасные песни огромным и тонко вибрирующим на высотах голосом.
Мать девочек, как всегда, безучастно сидела в кресле.
Заболели также Маша Челышева и Ира Пирожкова. У Колывановой был иммунитет с младенчества.
Лиля Жижморская тоже не заболела. Но и ей в эту ночь снился неприятнейший сон: как будто за ней приехали родители, и почему-то не в городскую квартиру, а на дачу. И она сидит в какой-то телеге и странным образом, спиной, видит за стеклом террасы очень белые лица бабушки и дедушки и замечает, что терраса похожа на вольеру зоопарка – есть какая-то дополнительная железная сетка за стеклом, как в обезьяннике. Телега начинает двигаться сама собой, но это почему-то не вызывает удивления. Сама Лиля сидит между родителями. Мать придерживает ее крупной рукой, а рука ее покрыта жесткими колючими волосами, как щека небритого мужчины. Отец в военной форме. Лица его не видно.
Дорога же начинает углубляться, так что обочины делаются все выше, и Лиля с ужасом понимает, что дорога ведет под землю и что все это не сон. Последнее, что сохранилось в памяти, была шелковая толпа восточных красавиц, встречающих ее на въезде в сырую темноту. Они протягивают к Лиле светящиеся полупрозрачные руки, приглашая в свой шелестящий круг, и Лиля с облегчением догадывается, что спасена…
Вместе с ветрянкой кончились и каникулы, но начались сильные морозы, и младших школьников освободили от занятий. Когда девочки встретились в классе, казалось, что прошло не три недели, а три года и то, что происходило у Алены, было с ними в далеком детстве. Что-то сдвинулось и изменилось: они немного стеснялись друг друга, никогда не вспоминали о том вечере, будто дали обет молчания как соучастники страшного и тайного дела. К Колывановой же с тех пор относились с уважением.
Бедная счастливая Колыванова
Красная женская школа стояла напротив серой мужской, построенной пятью годами позже, как будто специально для того, чтобы оповещать о разумной парности мира, но также и для того, чтобы дух соревнования не разливался бессмысленно по всему району, а мог бы сосредоточенно явиться над двумя этими крышами и воссиять голубем над достойнейшей, а именно женской, и по успеваемости, и по поведению, и по травматизму в отрицательном, разумеется, показателе, всегда лидирующей.
Считалось, что в красной школе и педагогический состав лучше, и буфетчица меньше ворует, и дворник бойчее скалывает лед зимой и усерднее гоняет пыль по дорожке в летнее время.
Директорша Анна Фоминична тоже была известная, работала в двадцатых годах с самой Крупской и очень хотела, чтобы школе присвоили имя Надежды Константиновны, но его присвоили роддому, что был неподалеку. Голос у Анны Фоминичны был тихого металла, в стриженых волосах цвета пеньковой веревки она носила круглый гребень, а борт синего пиджака был по будням весь в дырочках, зато по праздникам в каждую дырочку вставлялось по ордену или по другому почетному знаку, тоже на винтике, а все остальное, то есть медали, прикалывалось скобочками.
Учительский коллектив она подбирала с тщательностью, но не только в общественные лица, тайными знаками проступающие из документов, она всматривалась, и человеческие достоинства, и профессиональные качества учителей учитывала Анна Фоминична при подборе кадров. В РОНО у Анны Фоминичны был такой авторитет, что ей многое дозволялось, о чем другие и не помышляли.
Все педагоги прекрасно знали о больших возможностях Анны Фоминичны, но и они были безмолвно удивлены, когда по выходе на пенсию старой немки Елизаветы Христофоровны, замученной грудной жабой и дерзкими старшеклассницами, Анна Фоминична представила им накануне первого сентября новую преподавательницу немецкого языка со скрыто воинственной фамилией. Эта новая Лукина была больше похожа на заграничную артистку, чем на советскую учительницу. Она только что вернулась из Германии, где много лет прожила с мужем-военным, и с головы до ног представляла собой сплошной вызов, и особенно ноги были вызывающими, какими-то непристойно голыми, – чулки она носила бесцветные, прозрачные и к тому же без шва, что было новомодной роскошью.
Педагогический состав, преимущественно женского пола, благодаря профессиональной выдержке кое-как вынес удар, но что должно было произойти со школьницами, не защищенными еще жизненным опытом, трудно было даже представить.
Год вообще обещал быть тяжелым: только что вышел указ о совместном обучении, мужскими и женскими оставались теперь только уборные в конце коридора, а не все школы в целом. Молоденькие учительницы, работавшие до этого исключительно в красной школе, были в большом смятении, более старшие коллеги, имевшие довоенный опыт работы в смешанных школах, отнеслись к этому новшеству хоть и неодобрительно, но без особого волнения. Слияние школ сопровождалось также введением мужской школьной формы, частично копирующей гимназическую. Старый математик Константин Федорович, начавший свою педагогическую деятельность еще до революции, прокомментировал предстоящую перемену кратко и загадочно: «Гимназическая форма внутренне организует». Он привык смолоду следить за своей дистиллированной речью и ничего лишнего не произносил.
Для пятого «Б» день того первого сентября был незабвенным: вместо двадцати переведенных в серую школу одноклассниц им влили пятнадцать бритоголовых хулиганов, набыченных и несколько растерянных. Плотным серым клубком они сбились в дальнем левом углу класса, держа круговую оборону, которую никто не собирался прорывать. Девочки изо всех сил делали вид, что ничего не происходит, обнимались, висли друг на дружке и разбивались на парочки, чтобы занять места на партах.
Безутешная Стрелкова сидела на парте одна, горюя о Челышевой, безвременно ушедшей в чуждый мир бывшей мужской школы. Выгоревшая на деревенском солнце Таня Колыванова, как обычно, устраивалась на задней парте и, хотя занятия еще как бы и не начинались, уже испачкала щеку лиловыми чернилами.
Зазвенел звонок, и на последнем его хриплом выдохе в класс вошла новая классная руководительница.
Онемели все – и старожилые девочки, и пришлые мальчики. Она была высока ростом и дородна. Сорок одна пара остановившихся зрачков пронзили учительницу, ни одна деталь ее внешнего облика не была упущена. Волосы ее блестели лаком, как крышка рояля в актовом зале, они и в самом деле были покрыты специальным лаком, о существовании которого еще не знала эта шестая часть суши; красная помада немного вылезала за линию небольшого рта; темно-зеленые плоские туфли с черным бантиком и темно-зеленая же сумочка являли собой неправдоподобное совпадение, а на руке было плоское обручальное кольцо, каких в ту пору вообще не носили. И так далее…
«Вырасту и обязательно сошью себе такой же костюм в клеточку», – немедленно решила Алена Пшеничникова, а остальные двадцать пять девочек, не умевшие так быстро принимать решения, потрясенно и бессмысленно таращились на это чудо.
Колыванова, которую природа наделила неизвестно зачем очень тонким обонянием, первой ощутила сложный и обморочный запах духов. Она втянула в себя побольше этого пряного и немного слезоточивого запаха, но не смогла его в себе удержать и громко чихнула. На нее все посмотрели.
– Будь здорова, – сказала учительница. Туго натянутая пауза обмякла. – Садитесь пока кто куда хочет, потом разберемся, – продолжала учительница важным и немного писклявым голосом.
Колыванова села на свою заднюю парту, покраснев так, что на густом румянце выступили светло-серые веснушки.
– Поздравляю вас с началом учебного года. Я ваша классная руководительница, меня зовут Евгения Алексеевна Лукина, – с выразительными растяжками произнесла она и уже к концу фразы поняла, что напрасно беспокоилась и что дети будут слушать ее и подчиняться ей так же, как и молодые военные, которым она преподавала прежде. – А теперь познакомимся, – продолжала она и, раскрыв свежий журнал, произнесла: – Алферов Александр.
Алферов Александр был самым мелким из мальчиков, но со взрослой мордочкой и смахивал на лилипута. Он стоял держась за парту и опустив глаза. Она молчала, ожидая, когда он посмотрит на нее. Он посмотрел.
Евгения Алексеевна была большим мастером взгляда, она умела смотреть кротко, колюче, многообещающе, загадочно и презрительно, вступая в молниеносные личные отношения. Она дочитала до конца весь список, подержала на крючке своего взгляда каждую из этих маленьких рыбок, запомнила фамилии двух девочек-близнецов, мальчика-лилипута, улыбающейся толстухи с передней парты и еще нескольких, с особыми приметами. Память у нее была профессионально цепкая, и она знала, что через неделю будет знать всех до единого. Она написала на блестящей мокрым асфальтом доске «Heute ist der 1. September» и приступила к обучению немецкому языку…
Эти первые дни сентября были в школе, особенно в старших классах, нервными и напряженными. Мальчики и девочки, приведенные вдруг в неожиданную близость, рассматривали друг друга новыми глазами, и даже те из них, кто давно был знаком по дворовым гуляньям, знакомились как бы заново. Быстро вызревали школьные романы, туго свернутые записочки летали с парты на парту, и траектории их полета были гораздо интереснее, чем траектория пули, пущенной со скоростью 45 м/сек из ствола под углом 30 градусов из бессмертного учебника физики Перышкина.
К концу сентября было доподлинно известно, кто в кого влюблен. В Алену Пшеничникову влюбился Костя Черемисов, и, как выяснилось впоследствии, на долгие годы; толстая Плишкина отдала свое просторное сердце спортивному второгоднику Васильеву и хорошенькому Саше Кацу одновременно; Багатурия и Конников ели друг друга глазами с первого по последний урок, и Леночка Беспалова уже видела их однажды у самого фонтана на Миусском скверике.
Были, конечно, и тайные симпатии, скрытые страсти и потаенная ревность, но самое пылкое чувство, идеальное и бескорыстное, было укрыто в сердце Колывановой. Предмет влюбленности был недосягаемо высок – сама божественная Евгения Алексеевна.
Два урока в неделю и минутные встречи в коридоре не насыщали колывановской страсти. Обычно во время перемены она вставала напротив двери учительской и ждала ее выхода, как ждут выхода примадонны, и каждый раз Евгения Алексеевна оказывалась прекрасней возможного, действительность ее несказанной красоты превосходила ожидаемое, Таня счастливо обмирала. Невзирая на столбняк счастья, мелкие детали не ускользали от восхищенного взгляда: новая брошка у ворота, край шелкового платочка, вдруг высунувшийся из верхнего мелкого кармашка ее костюма. Тане не приходило в голову, как, скажем, Алене Пшеничниковой, возмечтать о таком вот костюме в клеточку, когда-нибудь, в бесконечно удаленном времени «когда вырасту». Единственное, чего хотелось Колывановой, это иметь фотографию Евгении Алексеевны, и она заранее предвкушала, как в конце года сделают большую фотографию всего класса с классной руководительницей посередине и как она вырежет ножницами ее портрет, непременно круглый, и будет носить его в пенале, в маленьком отделении для перьев. Но до конца года было еще далеко.
Однажды в конце сентября, проводив на филерской дистанции Евгению Алексеевну до метро, она решилась спуститься вслед за ней и, сделав незамеченной пересадку на станции «Белорусская», вышла на «Динамо», следуя на приличном отдалении за ее светлым плащом. Плащ мелькал между деревьями, петлял по тропинке мимо ветхих дач бывшего Петровского парка, а Таня шла по красно-желтым кленовым листьям как по небу и готова была идти так всю жизнь, видя впереди себя этот складчатый плащ и блестящий античный узел, свитый на затылке. Потом учительница свернула куда-то и исчезла. Колыванова решила, что она вошла во двор единственного достойного ее дома, «генеральского», украшенного огромными гранитными шарами у входа.
Впоследствии выяснилось, что Евгения Алексеевна действительно жила в этом доме. Еще несколько дней спустя, когда тайные проводы учительницы стали ежедневным ритуалом, Колыванова увидела, как навстречу учительнице бросилась девочка лет пяти, в красной плиссированной юбочке и с обручем в блестящих черных волосах. Девочка гуляла с толстой хмурой старухой в шляпке с ушами и была, в сущности, некрасива: с высоким лобиком, длинным подбородком и толстой нижней губой. Тане она показалась необыкновенной.
«Заморская какая девочка», – подумала она восхищенно. К тому же заморскую девочку звали Регина. Девочка была так похожа на своего отца, что спустя некоторое время Колыванова узнала отца девочки в широком кургузом генерале с толстой нижней губой, который с недовольным лицом вылезал из черной машины возле подъезда Евгении Алексеевны.
Движимая ненасытным и невинным желанием видеть возлюбленную, Колыванова следовала за ней на известном отдалении, когда та отправлялась к своему зубному врачу на Трубную площадь, невидимо сопровождала ее, когда она навещала в больнице свою старшую сестру, поджидала возле парикмахерской, где ей мазали вишневым лаком большие ногти, и вдыхала дурманящий запах лака, пробивавший тонкие кожаные перчатки, когда та выходила на улицу. Даже самая тайная сторона жизни учительницы не ускользнула от Колывановой: по вторникам, без десяти три, Евгения Алексеевна выходила из школы и шла пешком в сторону, противоположную метро, доходила до кафельной молочной на углу Каляевской и Садового, останавливалась у витрины с гигантскими бутафорскими бутылками, и в ту же минуту подъезжала серая «Победа», из нее выскакивал высокий военный, огибал машину и распахивал перед ней дверцу. Она садилась на место рядом с водительским, он с непроницаемым лицом хлопал дверцей, и выворачивающая из-за угла в этот момент Колыванова еще успевала заметить в скругленном окошке машины мужскую руку на запрокинутом затылке.
Самоуверенная и беспечная Евгения Алексеевна, которая даже школьных учителишек, как сама говорила своей ближайшей подруге, смогла поставить на место, была близорука, лица в толпе у нее смешивались, а что касается Колывановой, то ей по ее детской и всяческой незначительности раствориться в толпе труда не стоило. Так и жила Евгения Алексеевна с невидимым эскортом изо дня в день, не исключая и выходных, которые Колыванова проводила по возможности в ее дворе с гранитными шарами, чтобы не пропустить, как она выходит из дома с дочкой или с мужем…