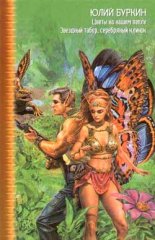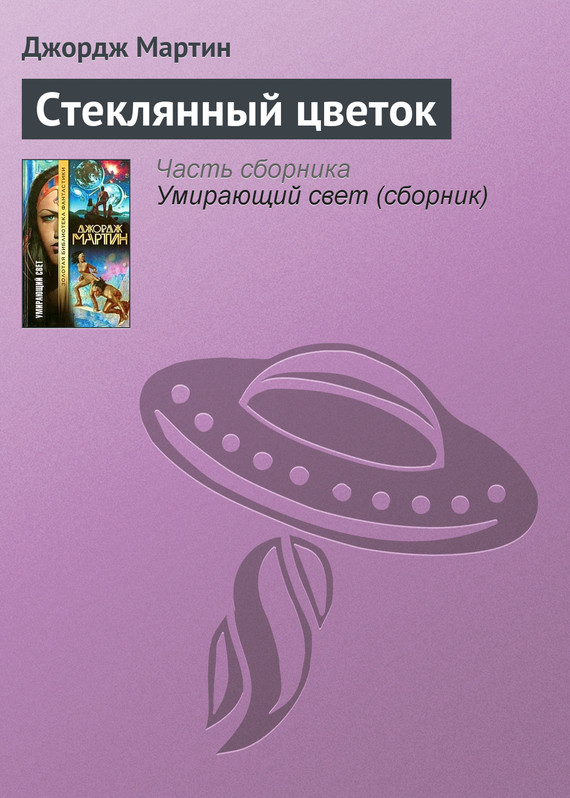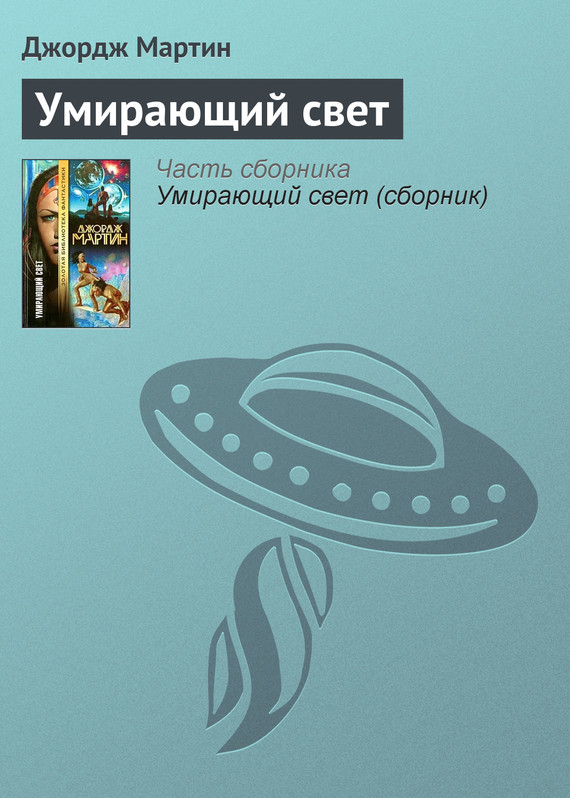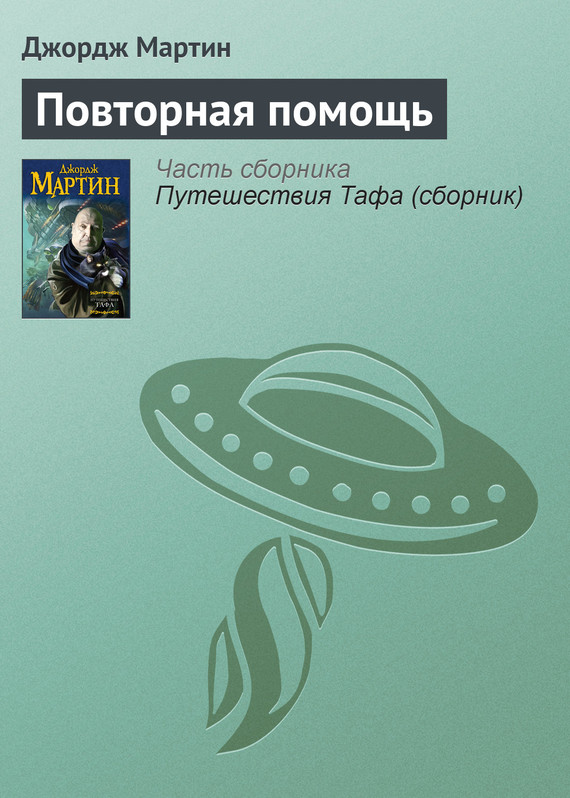Квентин Дорвард Скотт Вальтер
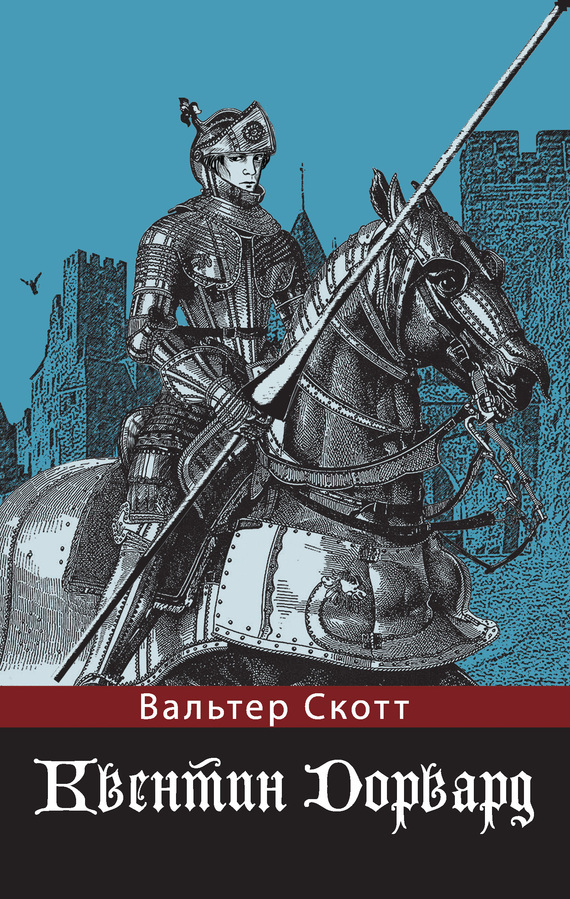
«Святой Денис с нами!» (Святой Денис считался покровителем Франции.)].
— В добрый час, государь, слава богу! — воскликнул воинственный Дюнуа.
А королевские стрелки, не в силах обуздать охватившую их радость, зашевелились на своих постах, так что по залу пронесся не громкий, но отчетливый звон оружия. Король поднял голову и гордо посмотрел вокруг; в этот миг он выглядел и думал, как его герой отец.
Но минутная вспышка уступила место политическим соображениям; при существующих условиях открытый разрыв с Бургундией был бы для Франции чрезвычайно опасен. В то время на английский престол взошел воинственный и храбрый король Эдуард IV66, лично участвовавший более чем в тридцати сражениях. Он был братом герцогини Бургундской и, весьма вероятно, ждал только явного разрыва между Людовиком и своим зятем, чтобы вторгнуться во Францию со своими войсками через всегда открытые ворота Кале67. Он одержал много блестящих побед в междоусобных войнах и теперь хотел самой популярной у англичан войной с Францией изгладить из народной памяти тяжелые воспоминания о внутренних распрях. К этому соображению у короля примешивались сомнения в верности герцога Бретонского68 и другие не менее важные политические расчеты. Поэтому, когда Людовик после долгого молчания опять заговорил, хотя тон его голоса не изменился, смысл речи был уже совершенно иной.
— Однако сохрани бог, — сказал он, — чтобы мы, христианнейший король, стали проливать французскую кровь без крайней необходимости, если мы можем избежать этого бедствия, не бесчестя нашего имени. Жизнь наших подданных мы ставим выше всех оскорблений, какие может нанести нашему достоинству какой-нибудь грубиян посол, который, быть может, даже преступил пределы своих полномочий. Впустить сюда бургундского посла!
— Beati pacific!!69 — сказал кардинал де Балю.
— Воистину! А те, кто смиряется, вознесутся — не так ли, ваше святейшество? — добавил король.
— Аминь, — сказал кардинал.
Но почти никто из присутствующих не повторил этого слова. Даже бледное лицо герцога Орлеанского вспыхнуло румянцем стыда, а Меченый не в состоянии был скрыть своих чувств: он чуть не выронил из рук бердыш, который глухо звякнул, задев концом об пол. За такую несдержанность ему пришлось выслушать строгий выговор от кардинала и наставление, как следует стоять на часах в присутствии государя. Сам король был, видимо, смущен воцарившимся кругом тяжелым молчанием.
— Ты о чем-то задумался, Дюнуа, — сказал он, — или ты осуждаешь нас за уступчивость перед этим дерзким послом?
— Нет, государь, — ответил Дюнуа, — я не вмешиваюсь в дела, которые не входят в круг моих обязанностей.
Я просто думал попросить ваше величество об одной милости.
— О милости, Дюнуа? Говори, что такое? Ты редко о чем-нибудь просишь и можешь заранее рассчитывать на наше согласие.
— В таком случае я прошу вас, государь, послать меня в Эвре управлять тамошним духовенством, — сказал Дюнуа с истинно военной прямотой.
— Вот действительно дело, которое не входит в круг твоих обязанностей, — с улыбкой заметил король.
— Во всяком случае, — ответил граф, — я был бы не худшим командиром для попов, чем его святейшество епископ или, если ему больше нравится, его святейшество кардинал — для солдат гвардии вашего величества.
Король опять загадочно улыбнулся и шепнул Дюнуа:
— Может быть, придет скоро время, когда мы с тобой подтянем попов… А пока будем терпеть это самодовольное животное епископа. По теперешним временам и он годится… Ах, Дюнуа, это Рим взвалил нам на плечи и его и другие тяжелые обузы! Но потерпим, мой друг: будем тасовать карты, пока не добьемся хорошей игры.
В эту минуту звуки труб во дворе возвестили о прибытии бургундского посла. Все присутствующие поспешили разместиться по старшинству вокруг короля и его дочерей, как того требовал этикет.
В зал вошел граф де Кревкер, известный своей храбростью. Вопреки обычаю, принятому у послов дружественных держав, он был в полном вооружении и только с непокрытой головой. На нем были великолепные стальные латы миланской работы, выложенные фантастическими золотыми узорами. С шеи, поверх блестящего панциря, спускался бургундский орден Золотого Руна — в то время один из почетнейших рыцарских орденов. Красивый паж нес за ним его шлем; впереди шел герольд с верительными грамотами, которые он, преклонив колено, протянул королю. Сам же посол остановился посреди зала, как будто для того, чтобы дать возможность присутствующим полюбоваться его величественной осанкой, решительным взглядом, гордыми манерами и спокойным лицом. Остальная свита стояла во дворе и в прихожей.
— Подойдите, граф де Кревкер, — сказал Людовик, бросив мимолетный взгляд на поданные ему бумаги. Мы не нуждаемся в верительных грамотах нашего кузена, чтобы принять столь славного воина, и не сомневаемся, что он вполне заслуживает доверия своего господина. Надеемся, что ваша прекрасная супруга, в жилах которой течет кровь наших предков, находится в добром здоровье. Если бы вы явились рука об руку с нею, граф, мы могли бы подумать, что вы надели ваши доспехи, чтобы отстаивать первенство ее красоты перед всеми влюбленными рыцарями Франции. Но сейчас мы положительно отказываемся понять, что означает ваш воинственный вид.
— Государь, — ответил посол, — граф де Кревкер оплакивает свое несчастье и просит прощения у вашего величества, но в настоящем случае он не может отвечать вам с той смиренной почтительностью, с какой он обязан говорить с государем, удостоившим его своей королевской милости. Но Филипп Кревкер де Корде говорит не от своего имени: устами его говорит его доблестный государь и повелитель герцог Бургундский.
— Что же скажет нам герцог Бургундский устами графа де Кревкера? — спросил Людовик с царственным достоинством. — Постой! Не забывай, что в эту минуту Филипп Кревкер де Корде говорит с государем своего государя.
Кревкер поклонился и, гордо выпрямившись, проговорил громким голосом:
— Король французский! Великий герцог Бургундский еще раз шлет вам письменный перечень обид и притеснений, совершенных на его границе чиновниками и гарнизонами вашего величества. Вот первый пункт, на который он требует ответа: намерены ли ваше величество дать ему удовлетворение за нанесенные ему оскорбления?
Король мельком взглянул на бумаги, которые держал перед ним коленопреклоненный герольд, и сказал:
— Это дело давно уже рассмотрено нашим советом. Некоторые из перечисленных здесь оскорблений были лишь возмездием за обиды, нанесенные моим французским подданным; другие ничем не доказаны, а третьи уже отомщены войсками и гарнизонами герцога. Если же найдутся еще и такие, которые не подойдут ни под одну из вышеуказанных рубрик, то, разумеется, мы, как христианский король, никогда не откажемся дать за них должное удовлетворение нашему соседу, хотя все незаконные поступки на нашей границе были сделаны не только без нашего ведома, но и вопреки нашим строжайшим повелениям.
— Я передам ответ вашего величества моему благородному господину, — сказал посол, — но осмелюсь заметить, что так как ответ этот ничуть не отличается от прежних уклончивых ответов вашего величества на справедливые жалобы моего господина, то я не думаю, чтобы он удовлетворил моего государя и мог восстановить мир и согласие между Францией и Бургундией.
— Да будет так, как угодно господу, — сказал король. — И если я даю столь сдержанный и умеренный ответ на дерзкие упреки, которые позволяет себе твой господин, то делаю это не из страха перед его оружием, а единственно из любви к миру. Продолжай!
— Второе требование, на котором настаивает мой государь: чтобы ваше величество прекратили тайные сношения с его городами Гентом, Льежем и Малином; чтобы вы немедленно отозвали оттуда своих тайных агентов, сеющих смуту среди его добрых фламандских граждан; чтобы ваше величество изгнали из своих пределов или, вернее, отдали бы для заслуженного наказания в руки их законного государя тех изменников, которые бежали от него, совершив свои вероломные поступки, и нашли надежный приют в Париже, Орлеане, Type и других французских городах.
— Передай герцогу Бургундскому, — ответил король, — что я ничего не знаю о тех тайных кознях, в которых он так дерзко меня обвиняет; что мои французские подданные действительно находятся в постоянных сношениях со славными городами Фландрии, но сношения эти чисто торгового характера, и не только мне, но и самому герцогу было бы невыгодно их прерывать; что многие фламандцы живут в нашем государстве по тем же причинам и пользуются покровительством наших законов, но, насколько я знаю, между ними нет ни одного скрывающегося изменника или ослушника герцогской воли. Продолжай! Ты слышал мой ответ.
— Как и первый, скажу с прискорбием, государь, — ответил граф де Кревкер, — он недостаточно ясен и прям, чтобы герцог, мой повелитель, счел его должным возмещением за целый ряд происков — тайных, но тем не менее существующих, хотя ваше величество и отказываетесь их признать. Но я продолжаю. Герцог Бургундский требует далее, чтобы король французский немедленно и под верной охраной выслал к нему Изабеллу, графиню де Круа, и ее родственницу графиню Амелину, той же фамилии70. Это последнее требование герцог основывает на том, что графиня Изабелла, состоящая под его опекой по законам страны и по положению своих феодальных владений, бежала из Бургундии и нашла тайный приют и покровительство у французского короля, который подстрекает ее к неповиновению герцогу, ее законному государю и опекуну, и тем нарушает все законы божеские и человеческие, признаваемые всей цивилизованной Европой. Еще раз жду ответа вашего величества.
— Вы хорошо сделали, граф де Кревкер, — сказал Людовик презрительно, — что потребовали аудиенции с утра, потому что если вы намерены спрашивать у меня отчета за каждого вассала, бежавшего от гнева моего взбалмошного кузена герцога, то перечень грозит затянуться до самого заката. Кто смеет утверждать, что эти дамы находятся в моих владениях? А если бы даже и так, кто смеет сказать, что я содействовал их побегу или взял их под свое покровительство? Где доказательства, что они во Франции и что мне известно их убежище?
— Государь, — сказал Кревкер, — вашему величеству известно, что у меня было это доказательство… был свидетель, видевший этих дам в гостинице под вывеской «Лилия», неподалеку от вашего замка; он видел их в вашем обществе, государь, хотя ваше величество и были переодеты в недостойный вашего звания костюм турского горожанина. В вашем присутствии, государь, этот свидетель получил от дам письма и устные поручения к их друзьям во Фландрию. То и другое было передано этим человеком герцогу Бургундскому.
— Где же он, этот свидетель? — спросил король. — Приведите его сюда. Посмотрим, осмелится ли он повторить в нашем присутствии свою гнусную ложь.
— Вы заранее торжествуете, государь, потому что знаете, что свидетеля этого больше нет в живых. Это был бродяга цыган по имени Замет Мограбин. Вчера, как я узнал, он был казнен людьми начальника полиции вашего величества… вероятно, затем, чтобы он не мог подтвердить здесь то, что сообщил герцогу Бургундскому в присутствии совета и моем — Филиппа Кревкера де Корде.
— Клянусь пречистой девой Эмбренской, — воскликнул король, — это обвинение так нелепо и совесть моя в этом деле так чиста, что я готов скорее смеяться, чем сердиться! Мой прево казнит ежедневно воров и бродяг, и это его прямая обязанность, но неужели слова какого-нибудь вора и бродяги, хотя бы они были сказаны самому герцогу Бургундскому в присутствии его мудрого совета, могут запятнать мою королевскую честь? Пожалуйста, граф, передайте от меня любезному нашему кузену, что если он так любит общество подобных людей, то пусть держит их при себе, ибо у меня им, кроме самой короткой расправы да доброй веревки, не на что больше рассчитывать.
— Мой повелитель не нуждается в таких подданных, ваше величество, — ответил граф таким непочтительным тоном, какого до сих пор еще себе не позволял, — ибо благородный герцог не имеет обыкновения гадать у колдунов и бродячих цыган о судьбе своих союзников и соседей…
— Всякому терпению наступает конец, — перебил его король. — А так как, по-видимому, единственная твоя цель — оскорблять нас, то мы сами пришлем кого-нибудь к герцогу Бургундскому для окончания переговоров: мы твердо убеждены, что своим поведением ты превышаешь данные тебе полномочия; каковы бы они ни были.
— Напротив, я далеко еще не выполнил их, — сказал Кревкер. — Слушай же, Людовик Валуа, король Франции!.. Слушайте, вельможи и дворяне, здесь присутствующие!.. Слушайте и вы все, честные и добрые люди!.. А ты, герольд Туасон д'Ор, повторяй за мной слова моего государя. Я, Филипп Кревкер де Корде, имперский граф71 и рыцарь почетного ордена Золотого Руна, именем моего могущественного государя и повелителя Карла — милостью божьей герцога Бургундии и Лотарингии, Брабанта и Лимбурга, Люксембурга и Гельдерна, графа Фландрии и Артуа, княжества Эно, Голландии, Зеландии, Намюра и Зутфена, маркиза Священной империи, владетеля Фрисланда, Салина и Малина, — во всеуслышание объявляю вам, Людовик, король Франции, что так как вы отказываетесь дать удовлетворение за все беззакония, обиды и вред, совершенные и нанесенные лично вами или при вашем содействии, с вашего ведома и по вашему подстрекательству, моему государю герцогу и его верным подданным, он, моими устами, отныне отказывается от всякого повиновения и подданства вашему престолу, объявляет вас вероломным лжецом и вызывает на бой как короля и человека! Вот вам залог и подтверждение того, что я сказал!
С этими словами граф снял с правой руки латную перчатку и бросил ее на пол.
До последней дерзкой выходки графа, во время этой необычайной сцены, в аудиенц-зале царило гробовое молчание. Но едва лишь раздался глухой стук ударившейся об пол тяжелой перчатки и вслед за тем громкий возглас Туасона д'Ора, герольда: «Да здравствует Бургундия!», как началось всеобщее смятение. В то время как Дюнуа, герцог Орлеанский, престарелый лорд Кроуфорд и еще двое-трое вельмож, которым их звание позволяло подобное вмешательство, спорили о том, кому поднять перчатку, все остальные кричали: «Бейте его! Рубите его! Он осмелился оскорбить, короля в его собственном замке!». Но король разом восстановил тишину, воскликнув громовым голосом, покрывшим шум и крики:
— Молчать! И чтобы ничья рука не смела прикоснуться ни к этому человеку, ни к брошенной им перчатке!.. А вы, граф… Чем обеспечена ваша жизнь? Или, быть может, вы считаете себя неуязвимым, что так опрометчиво рискуете собой? Да и ваш герцог, должно быть, сделан из какого-нибудь особого металла, если вздумал отстаивать свои воображаемые права таким необычайным способом!
— Это правда, он создан из другого, более благородного металла, чем все остальные европейские государи, — ответил бесстрашный граф де Кревкер. — В то время как никто из них не осмеливался дать вам приют… да, вам, король Людовик!., когда вы еще дофином были изгнаны из Франции, когда вы испытывали на себе всю горечь родительской мести и всю силу власти отца-короля, мой благородный государь принял вас и обласкал, как брата. И вот как вы отплатили ему за его великодушие! Прощайте, я кончил, ваше величество!
И граф де Кревкер, даже не поклонившись, вышел из зала.
— За ним! За ним! Поднимите перчатку и догоните его! — крикнул король. — Я говорю это не тебе, Дюнуа… И не вам, лорд Кроуфорд: вы слишком стары для такого дела… И не вам, кузен мой, герцог Орлеанский, вы для него слишком молоды… Ваше святейшество… господин епископ Оксерский, ваш прямой долг, ваша священная обязанность — мирить государей… Поднимите же перчатку и постарайтесь вразумить графа Кревкера, указав ему, какой страшный грех он совершил, оскорбив великого государя в его собственном замке и вынуждая его подвергнуть бедствиям войны свое и соседнее государства!
Не осмеливаясь ослушаться этого прямого приказа, кардинал де Балю поднял перчатку с такой осторожностью, точно дотронулся до ядовитой змеи (так велико было, по-видимому, его отвращение к этой эмблеме войны), и поспешно вышел из зала, чтобы исполнить приказание короля.
Людовик молча окинул взглядом собрание. За исключением тех, о ком мы уже упоминали, здесь были большей частью люди низкого звания, обязанные своим возвышением при королевском дворе отнюдь не доблестным подвигам на поле брани. Бледные от испуга после только что происшедшей сцены, они переглядывались в сильном смущении. Людовик презрительно посмотрел на них и сказал:
— А все-таки нельзя не сознаться, что, несмотря на всю дерзость и самоуверенность графа де Кревкера, герцог Бургундский имеет в его лице отважного и верного слугу. Хотел бы я знать, где мне найти такого же верного посла, чтобы отвезти мой ответ?
— Вы несправедливы к французскому дворянству, государь, — сказал Дюнуа. — Ни один из нас, я уверен, не откажется отвезти герцогу Бургундскому ваш вызов на конце своего меча.
— Вы обижаете также и шотландских джентльменов, которые служат вам, государь, — прибавил старый Кроуфорд. — Ни я и ни один из моих подчиненных, достойных того по своему званию, ни на минуту не задумались бы проучить этого гордого графа за его дерзость. Моя рука еще достаточно тверда, государь, только бы ваше величество соизволили дать мне свое разрешение.
— Но вашему величеству, — продолжал Дюнуа, — не угодно поручить нам такое дело, которое могло бы принести славу нам самим, нашему государю и Франции.
— Лучше скажи, Дюнуа, — ответил король, — что я не хочу давать волю вашей безумной отваге, которая из-за какого-нибудь пустого вопроса рыцарской чести готова погубить вас самих, французский престол и всю страну. Все вы знаете, как дорог сейчас каждый час мира, чтобы залечить раны нашей истерзанной страны, а между тем каждый из вас готов очертя голову ринуться в бой из-за, какой-нибудь выдумки бродячего цыгана или из-за бежавшей красавицы, которая, быть может, стоит немногим больше его… Но вот и кардинал — надеюсь, с мирными вестями… Ну что, ваше святейшество, удалось вам вразумить этого взбалмошного графа?
— Государь, — сказал де Балю, — вы задали мне нелегкую задачу. Я объяснил этому гордому графу, какое оскорбление он нанес вашему величеству своим дерзким упреком, прервавшим аудиенцию; я сказал ему, что его повелитель, во всяком случае, не мог уполномочить его на столь наглый поступок, который был вызван лишь его собственным необузданным характером, и объявил ему, что такое поведение отдает его в руки вашего величества и что теперь в вашей власти наказать его, как вы найдете нужным.
— Вы говорили правильно, — сказал король. — Что же он вам ответил?
— В ту минуту, когда я подошел к нему, граф уже занес ногу в стремя, чтобы сесть на коня, — продолжал кардинал. — Он повернул ко мне голову, выслушал мою речь, не меняя позы, и ответил: «Если бы я был за пятьдесят лье отсюда и мне сказали бы, что король французский оскорбил моего государя, я, не задумываясь, вскочил бы на коня и прискакал сюда, чтобы облегчить свою душу ответом, который я только что ему дал».
— Я говорил, господа… — сказал король, обращаясь к присутствующим без всяких признаков гнева или волнения, — я говорил, что в лице графа Филиппа де Кревкера герцог, наш кузен, имеет самого достойного слугу, когда-либо служившего государю… Но вы все-таки уговорили его подождать?
— Только двадцать четыре часа, государь, и на это время взять обратно свой вызов, — ответил кардинал. — Он остановился в гостинице «Лилия».
— Позаботьтесь о достойном для него приеме за наш счет, — сказал король.
— Такой слуга — драгоценный камень в венце государя… Двадцать четыре часа? — прошептал он, глядя прямо перед собой задумчивым взором, словно старался заглянуть в будущее. — Двадцать четыре часа?.. Не много времени!.. Впрочем, за двадцать четыре часа, употребленные с умом, можно сделать больше, чем за целый год, проведенный беспечным бездельником… Но что же я!.. На охоту! В лес, в лес, господа! Любезный родич герцог Орлеанский, отбросьте вашу скромность, хотя она вам очень к лицу, и не обращайте внимания на застенчивость Жанны. Скорее Луара перестанет сливаться с Шером, чем Жанна откажется от вашей привязанности… а вы — от ее, — добавил Людовик вслед бедному принцу, который медленно побрел за своей нареченной. — Запасайтесь копьями, господа, потому что мой доезжачий Аллегр выследил нынче вепря, который задаст работу нам всем: и людям и собакам… Дай мне твое копье, Дюнуа, и возьми мое: оно для меня тяжело, а ведь ты никогда еще не жаловался на тяжесть копья. На коней, на коней!
И охотники поскакали.
Глава IX. ОХОТА НА ВЕПРЯ
А я с мальчишками и с дураками
Чугуннолобыми водиться буду.
На что нужны мне те,
Кто с подозреньем
Следят за мной!
«Король Ричард»
Несмотря на то что кардинал имел возможность прекрасно изучить характер своего государя, на этот раз он сделал непоправимую ошибку. Ослепленный тщеславием, он вообразил, что, уговорив графа де Кревкера отложить свой отъезд, оказал королю такую услугу, какую не сумел бы ему оказать никто другой. А так как кардиналу было известно, какое важное значение придавал Людовик отсрочке войны с герцогом Бургундским, то он невольно давал ему понять, что вполне понимает всю важность своей услуги. Он держался ближе обыкновенного к особе короля и все время старался наводить разговор на утренние события.
Это было большой неосмотрительностью во многих отношениях: короли вообще не любят, чтобы подданные приближались к ним, всем своим видом показывая, что помнят об оказанных ими услугах и тем самым как бы требуют награды или благодарности. А Людовик, самый подозрительный из всех когда-либо живших монархов, положительно не выносил людей, ни слишком высоко ценивших свои услуги, ни пытавшихся проникнуть в его тайны.
Но, ослепленный своим успехом, как это иногда случается и с самыми осторожными людьми, кардинал, вполне довольный собой, продолжал ехать рядом с королем, при каждом удобном случае заводя разговор о Кревкере и о его посольстве; и хотя очень возможно, что в ту минуту этот предмет больше всего занимал мысли Людовика, именно о нем-то он меньше всего желал говорить. Наконец король, долго и со вниманием слушавший кардинала, хотя ни одним словом не поддерживавший разговора, сделал знак Дюнуа, ехавшему немного поодаль, чтобы тот приблизился к нему с другой стороны.
— Мы едем охотиться и развлекаться, — сказал он, — но его святейшеству очень хочется заставить нас начать совет о делах государства.
— Надеюсь, ваше величество, избавите меня от участия в нем, — сказал Дюнуа. — Я рожден сражаться за Францию, мое сердце и рука к ее услугам, но голова моя не годится для советов.
— А вот у кардинала голова точно нарочно создана для них, — ответил король. — Он исповедовал Кревкера у ворот нашего замка и передал нам всю его исповедь… Или, может быть, не всю? — добавил король с особым ударением на последнем слове и бросил на кардинала взгляд, сверкнувший из-под густых темных бровей, словно клинок обнаженного кинжала.
Кардинал вздрогнул и, пытаясь попасть в тон королевской шутке, сказал:
— Действительно, мой сан обязывает меня хранить тайны, открытые мне на исповеди, но нет sigillum confessionis72, которая не растаяла бы под дыханием вашего величества.
— А так как его святейшество, — продолжал король, — готов поделиться с нами чужими тайнами, то он, естественно, ожидает от нас такой же откровенности и выражает вполне разумное желание, чтобы мы пошли ему навстречу и сообщили, действительно ли обе дамы де Круа находятся в наших владениях. К сожалению, мы не в силах удовлетворить его любопытство, так как нам неизвестно точное местопребывание странствующих красавиц, переодетых принцесс и оскорбленных графинь, могущих скрываться в пределах наших владений, которые, благодарение господу богу и пресвятой деве Эмбренской, слишком обширны для того, чтобы мы имели возможность ответить на этот вопрос его святейшества. Но предположим, что местопребывание этих дам мне известно. Что бы ответил ты, Дюнуа, на повелительное требование нашего кузена?
— Я отвечу вам, государь, если вы откровенно скажете мне, чего вы желаете: войны или мира? — сказал Дюнуа с прямотой, свойственной его открытому, смелому характеру, благодаря которому он заслужил привязанность и доверие короля, ибо Людовик, как все коварные люди, настолько же любил читать в чужих сердцах, насколько не любил открывать свою душу.
— Клянусь честью, я охотно ответил бы на твой вопрос, Дюнуа, если бы знал, чего я хочу, — сказал король. — Но допустим, что я решился на войну… Как же мне тогда поступить с этой красавицей и богатой наследницей, если предположить, что она находится здесь, у меня?
— Выдать ее замуж за одного из ваших верных слуг, у которого есть сердце, чтобы любить, и рука, чтобы защищать ее, — ответил Дюнуа.
— Например, за тебя! — сказал король. — Клянусь богом, ты со своей прямотой более тонкий политик, чем я тебя считал.
— Все, что угодно, государь, только не политик, — ответил Дюнуа. — Клянусь Орлеанской девой, я так же прямо иду к своей цели, как смело сажусь на коня. Но ваше величество должны заплатить Орлеанскому дому хоть одним счастливым супружеством — вот что я хотел сказать.
— И заплачу, граф, заплачу, черт возьми! Взгляни вон туда: чем не счастливая парочка?
И король указал на несчастного герцога Орлеанского и принцессу Жанну. Не смея ни удалиться от короля, ни ехать порознь у него на глазах, они ехали рядом, но все-таки ярда на два друг от друга — расстояние, которое робость одной и отвращение другого не позволяли им уменьшить, а страх — увеличить.
Дюнуа взглянул по указанному направлению, и положение несчастного жениха и его нареченной невесты невольно напомнило ему двух собак на одной сворке, которые тянут в разные стороны, насколько позволяет веревка, но не могут разойтись. Он только покачал головой, но не посмел возразить лицемерному тирану. Однако Людовик, по-видимому, угадал его мысли.
— Прекрасная выйдет пара, мирный и спокойный брак, не обремененный детьми, я уверен73. Впрочем, не всегда дети бывают для нас утешением.
Быть может, воспоминание о собственной сыновней неблагодарности заставило короля замолчать; на один миг дрожавшая на его губах злая усмешка сменилась новым выражением, похожим на раскаяние. Но через минуту он продолжал совсем другим тоном:
— Откровенно говоря, Дюнуа, при всем моем уважении к святому таинству брака (тут он перекрестился), я бы предпочел, чтобы Орлеанский дом дарил нам таких доблестных воинов, как ты и твой отец, людей, в чьих жилах течет кровь французских королей, не давая им прав на французский престол, чем видеть нашу страну разорванной на клочки, как Англия, из-за междоусобных распрей законных претендентов на престол. Нет, льву никогда не следует иметь более одного детеныша!
Дюнуа вздохнул и промолчал, зная, что всякое противоречие самовластному государю не только не улучшило бы, а могло лишь ухудшить положение его несчастного родственника. Однако он все же не выдержал и спустя минуту сказал:
— Так как вы сами намекнули на происхождение моего отца, государь, то я осмелюсь заметить, что, откинув в сторону грех его родителей, мы можем назвать его счастливым, хотя он и родился от незаконной любви, а не от ненавистного законного брака.
— Какой же ты, однако, безбожник, Дюнуа! Ну, можно ли так говорить о святом таинстве брака! — шутливо заметил король. — Но к черту разговоры!.. Вон там, кажется, подняли зверя… Спускайте собак! Спускайте собак, во имя святого Губерта! Ату, ату его!
Веселые звуки королевского рога понеслись по лесу, и Людовик помчался вперед в сопровождении двух-трех стрелков своей гвардии, в числе которых был и наш друг Квентин Дорвард. Но замечательно, что даже в пылу увлечения любимой забавой король, уступая своему злорадному нраву, нашел время помучить кардинала Балю и поиздеваться над ним.
Одной из слабостей этого государственного мужа, как мы уже упоминали выше, было убеждение, что, несмотря на свое низкое происхождение и скромное образование, он все же ловкий кавалер и настоящий придворный. Правда, он не выходил, как Бекет74, на турниры, не командовал войсками, как Уолси, но рыцарская галантность, не чуждая и этим двум государственным деятелям, была положительно слабым местом кардинала. Между прочим, он всегда уверял, что обожает воинственную забаву — охоту. Но, каков бы ни был его успех у некоторых дам, в глазах которых его могущество, богатство и влияние в государственных делах искупали его внешние недостатки, благородные кони, которых он приобретал за огромные деньги, оставались совершенно нечувствительными к чести носить на себе столь влиятельного седока и оказывали ему не больше уважения, чем оказали бы его отцу — погонщику, мельнику или портному, который мог бы соперничать с сыном в искусстве верховой езды. Король отлично это знал. И вот, то принимаясь горячить своего коня, то натягивая поводья, он привел лошадь кардинала, которого он не отпускал от себя, в состояние такого раздражения против седока, что близость их неизбежной разлуки сделалась для всех очевидной. И в то время как взбешенное животное делало отчаянные скачки, то взвиваясь на дыбы, то начиная бить задом, царственный мучитель, невзирая на бедственное положение кардинала, продолжал расспрашивать его о серьезных делах и делал вид, что желает сообщить ему одну из важных государственных тайн, к которым кардинал еще так недавно проявил столь неумеренное любопытство.
Трудно представить себе что-либо нелепее положения государственного мужа, близкого советника короля, принужденного вести беседу со своим государем в то время, как каждый скачок его взбесившейся лошади грозит ему новой бедой. Фиолетовая ряса кардинала развевалась во все стороны, и лишь глубокое седло с высокой лукой спасало его от падения. Дюнуа хохотал как сумасшедший, а король, который по-своему наслаждался собственными шутками, сохраняя совершенно серьезный вид, мягко выговаривал своему служителю за его пылкую страсть к охоте, не позволяющую ему уделить даже нескольких минут для серьезного разговора.
— Впрочем, так и быть, не стану больше мешать вашему удовольствию, — добавил король, обращаясь к обезумевшему от страха кардиналу, и дал поводья своему коню.
Прежде чем Балю успел ответить хоть слово, его лошадь закусила удила и понеслась как вихрь, оставив далеко за собой короля и Дюнуа, которые ехали более умеренным галопом и весело смеялись над несчастным государственным мужем. Если кому-нибудь из наших читателей случалось кататься верхом (как случалось и нам в свое время), то он знает, что испытывает человек, которого понесла лошадь, и легко себе представит всю опасность, весь ужас и нелепость положения кардинала. Четыре ноги животного, над которым часто не властен не только седок, но и сам скакун, несущийся с такой быстротой, как будто задние хотят обогнать передние; две судорожно скорченные ноги всадника, которыми ему очень хотелось бы стоять на земле, но которые теперь только ухудшают его бедственное положение, стискивая бока лошади; руки, выпустившие узду и уцепившиеся за гриву; туловище, которое, вместо того чтобы держаться прямо, сохраняя центр тяжести (как советует старик Анджело75), или наклоняться вперед (как ездят ньюмаркетские жокеи), беспомощно лежит на шее у лошади, ежеминутно готовое свалиться, как куль с мукой, — все это вместе делает картину достаточно смешной для зрителей, однако далеко не приятной для исполнителя. Но прибавьте к этому какую-нибудь особенность в костюме или наружности бедного наездника — рясу священника или блестящий мундир да вообразите, что действие происходит где-нибудь на скачках, на параде или во время какой-нибудь торжественной процессии, в присутствии толпы зрителей, — и тогда, если несчастный не хочет сделаться всеобщим посмешищем, ему остается только сломать себе руку или ногу либо, что будет еще вернее, разбиться до смерти; только такой ценой его падение может вызвать искреннее сочувствие. В настоящем случае коротенькая фиолетовая сутана кардинала (которую он надевал для верховой езды вместо своей обыкновенной длинной мантии), пунцовые чулки и такого же цвета шляпа с длинными развевающимися завязками, в сочетании с полной беспомощностью прелата, еще усиливали смехотворность его попыток овладеть кавалерийским искусством.
Между тем конь, почувствовав себя полным господином своего хозяина, мчался во весь опор по длинной зеленой аллее и вскоре нагнал толпу охотников с собаками, которые неслись по следам вепря. Сбив с ног двух-трех ловчих, никак не ожидавших нападения с тыла, передавив нескольких псов и спутав всю травлю, бешеный скакун, еще более возбужденный криками испуганных охотников и лаем переполошившихся собак, вынес кардинала прямо на вепря. Рассвирепевший зверь, с клыками, покрытыми пеной, мчался как вихрь наперерез злополучному всаднику. Увидев себя в таком близком соседстве со страшным животным, Балю испустил громкий вопль о помощи. Этот ли крик или вид разъяренного зверя испугал его лошадь, но только она сделала неожиданный прыжок в сторону, и кардинал, державшийся раньше в седле только потому, что скакал все прямо, тяжело свалился на землю. Этот внезапный конец неудачной скачки произошел так близко от вепря, что, если бы животное не было в эту минуту поглощено своими собственным делами, его соседство могло бы иметь для упавшего гибельные последствия, как это произошло с Фавилой76, королем вестготов. Однако на этот раз могущественный прелат отделался только испугом; поднявшись на ноги, он поспешил убраться с дороги и видел, как вся охота пронеслась мимо, причем никто и не подумал оказать ему помощь. В те времена охотники были так же равнодушны к подобного рода несчастьям, как и в наши дни.
Король, проезжая, сказал Дюнуа:
— Вон где свалился его святейшество. Охотник он неважный, надо сознаться; зато как рыболов, когда надо выудить чужую тайну, мог бы поспорить с самим апостолом Петром77. Впрочем, сегодня он и на этом осекся.
Кардинал не слышал этих слов, но насмешливый взгляд, которым они сопровождались, помог ему разгадать их смысл. Недаром говорят, что дьявол всегда пользуется минутами слабости, чтобы искушать человека. Случай был как раз подходящий, ибо в душе Балю поднялась буря негодования против короля. Как только кардинал убедился, что падение не причинило ему никакого вреда, страх его прошел, но не так-то легко могли успокоиться оскорбленное самолюбие и обида.
Когда охота пронеслась мимо, к кардиналу подъехал всадник, который, по-видимому, был скорее зрителем этой забавы, чем ее участником. За ним ехали несколько слуг Всадник был очень удивлен, что застал кардинала одного, без лошади, без свиты и вообще в таком положении, которое ясно показывало, что за происшествие с ним только что случилось. Спрыгнуть с седла, предложить свою помощь, приказать одному из слуг спешиться и отдать кардиналу свою смирную лошадь и высказать удивление по поводу обычаев французского двора, дозволяющих покинуть в таком критическом положении мудрейшего государственного сановника, — все это для Кревкера было делом одной минуты, ибо всадник, пришедший на помощь упавшему кардиналу, был не кто иной, как бургундский посол.
Минута и настроение государственного мужа были как раз подходящими для того, чтобы испытать его верность или по крайней мере испробовать на нем действие тех соблазнов, к которым, как известно, Балю питал преступную слабость. Еще утром, как правильно заподозрил проницательный Людовик, между графом и кардиналом было сказано больше, чем его святейшество сообщил своему государю. Но, хотя Балю с удовольствием выслушал чрезвычайно лестное мнение герцога Бургундского о себе и о своих талантах, переданное ему графом де Кревкером, и не без зависти прислушивался к похвалам, с которыми граф отзывался о щедрости своего государя и о крупных доходах бенефиции во Фландрии, он все еще крепился до этого последнего случая на охоте, глубоко оскорбившего его. Теперь же, уязвленный в своем самолюбии, он в недобрую минуту решил доказать Людовику, что нет на свете опаснее врага., чем оскорбленный друг и поверенный.
Но сейчас, боясь, как бы их не увидели вместе, он ограничился тем, что наскоро распростился с Кревкером, назначив ему свидание в Type, в аббатстве святого Мартина, после вечерни; он сказал это таким тоном, который вполне убедил бургундца, что его государь сделал огромное приобретение, на какое вряд ли мог бы рассчитывать в другой, менее благоприятный момент.
Тем временем Людовик, который, хотя и был самым тонким политиком своей эпохи, подчас предавался страстям в ущерб благоразумию, увлекся и в этот раз и весело несся на своем скакуне вслед за спущенной сворой, настигающей зверя. В эту-то минуту, в самый разгар травли, случилось, что другой вепрь, подсвинок (как называли молодого, двухлетнего зверя) пересек дорогу первому и сбил со следа не только собак (кроме нескольких самых старых и опытных), но и почти всех охотников. Король с тайной радостью видел, как Дюнуа вместе с другими пустился по ложному следу, и заранее торжествовал победу над этим искусным охотником, ибо в то время охота считалась почти таким же доблестным занятием, как война. У Людовика была прекрасная лошадь, и он скакал, не отставая от собак, так что, когда измученный зверь остановился посреди небольшого болотца, готовясь к схватке с врагом, король оказался с ним один на один.
Людовик показал себя опытным и смелым охотником. Презирая опасность, он подъехал к страшному зверю, свирепо защищавшемуся от собак, и ударил его копьем; но в эту самую минуту лошадь его, испугавшись, шарахнулась в сторону и тем ослабила силу удара, который не только не повалил вепря, но даже не ранил его. Король никак не мог заставить лошадь повторить нападение; ему пришлось спешиться и идти самому на разъяренного зверя с коротким прямым мечом, какие в то время употребляли охотники. Вепрь тотчас же бросил собак и кинулся на нового врага. Король остановился и спокойно ждал его приближения, упершись одной ногой в землю, наклонившись вперед и прицеливаясь, чтобы ударить его в горло или в грудь, под переднюю лопатку. В случае меткого удара быстрота разгона животного и сила его нападения только ускорили бы его гибель. Но как раз в тот момент, когда король собирался нанести этот тонко рассчитанный и опасный удар, нога его поскользнулась на мокрой земле и меч не вонзился в грудь зверя, а только слегка задел его плечо, коснувшись твердой щетины и не причинив ему ни малейшего вреда, и сам Людовик упал ничком на землю. Это падение его спасло, потому что вепрь, в свою очередь, промахнулся и, проскочив мимо короля, только разорвал клыком полу его охотничьего камзола, даже не задев бедра. Но, пробежав с разгону несколько шагов, зверь повернулся, собираясь повторить нападение. Жизнь короля, который в это время поднимался с земли, висела на волоске. В эту критическую минуту вдруг подоспел Квентин Дорвард, который отстал от остальных охотников по вине своей лошади, но ехал по следам короля, прислушиваясь к звукам его рога. Он подскакал к вепрю и пронзил его копьем.
Людовик, успевший тем временем подняться, в свою очередь бросился на помощь Дорварду и прикончил животное, погрузив ему в горло свой меч. Ни слова не сказав, он прежде всего тщательно измерил рост убитого зверя, потом обтер свой потный лоб и окровавленные руки, снял охотничью шапочку, повесил ее на куст, набожно помолился украшавшим ее оловянным образкам и наконец, взглянув на Дорварда, сказал:
— Так это ты, мой юный шотландец? Ты недурно начинаешь свою карьеру. Придется, видно, дядюшке Пьеру угостить тебя таким же вкусным завтраком, как тот, каким он накормил тебя на днях в гостинице «Лилия»… Но что же ты молчишь? Или растерял свою развязность и пыл при дворе, где другие их набираются?
Квентин, один из самых сметливых малых, какие когда-либо дышали воздухом Шотландии, давно уже понял, что с Людовиком, внушавшим ему больше страха, чем доверия, шутить нельзя, и теперь у него хватило благоразумия не позволить себе той вольности обращения, на которую король как будто сам его вызывал. В немногих, старательно обдуманных словах он ответил, что если бы и осмелился обратиться к его величеству, то разве лишь для того, чтобы испросить у него прощения за ту дерзость, с какой он вел себя, когда не знал, с кем он имеет честь говорить.
— Ладно, приятель, — ответил король, — я прощаю тебе эту дерзость за твою храбрость и сообразительность. Мне очень понравилось, как ты почти угадал профессию моего куманька Тристана. С тех пор, я слышал, ты чуть было не отведал его мастерства. Советую тебе держать с ним ухо востро: у него короткая расправа — затянул узел, и готово… Помоги мне сесть на коня. Ты мне нравишься, и я хочу тебе добра. Рассчитывай на меня и ни на кого больше — ни на дядю, ни на лорда Кроуфорда… Да смотри, ни слова о том, что ты меня выручил из беды, потому что, если ты станешь хвастаться, что спас короля, это будет уже вполне достаточной наградой за твою услугу.
И король затрубил в рог, на звуки которого вскоре прискакал Дюнуа с другими охотниками. Они рассыпались в поздравлениях его величеству с одержанной им блестящей победой над благородным животным, и король без всякого смущения выслушал их поздравления, даже не пытаясь объяснить, каково было его участие в этом подвиге. Правда, он упомянул о помощи Дорварда, но лишь мимоходом, как обыкновенно делают знатные охотники, которые, распространяясь о количестве убитой ими дичи, редко вспоминают о помощи, оказанной им на охоте ловчим. Король приказал Дюнуа присмотреть, чтобы туша убитого вепря была отослана братии аббатства святого Мартина Гурского в подспорье к их праздничной трапезе. «Пусть почаще поминают короля в своих молитвах», — добавил он.
— Кстати, не видел ли кто его святейшество кардинала? — вскоре спросил Людовик. — Мне кажется, мы поступили бы невежливо по отношению к нему и проявили бы неуважение к святой церкви, оставив его одного в лесу, да еще без коня.
— Осмелюсь доложить вашему величеству, — сказал Квентин, видя, что все молчат, — я видел, как его святейшество кардинал получил другую лошадь и выехал из лесу.
— Небо печется о своих слугах, — заметил король. — А теперь в замок, господа! Охота кончена на сегодня… А ты, господин оруженосец, — обратился он к Квентину, — поищи-ка мой охотничий нож, который я обронил в этой схватке… Ступайте вперед, Дюнуа, я вас сейчас догоню.
Таким образом, Людовик, малейшее движение которого было иной раз рассчитано не хуже маневров искусного стратега, выискал минуту, чтобы поговорить с Квентином наедине.
— Я вижу, у тебя зоркие глаза, мой добрый шотландец, — заметил он ему. — Не можешь ли ты мне сказать, кто дал кардиналу коня? Должно быть, кто-нибудь из посторонних, потому что вряд ли кто из моей свиты поторопился бы оказать его святейшеству эту услугу, когда я проехал мимо, не остановившись.
— Я только мельком видел этих людей, государь, — ответил Квентин, — потому что, к несчастью, я в ту минуту сбился со следа и торопился нагнать ваше величество. Но, кажется, это был бургундский посол со своей свитой.
— Вот как! — воскликнул Людовик. — Ну что ж! Франция их не боится. Посмотрим, чья возьмет.
Больше в тот день не случилось ничего замечательного, и король со своей свитой возвратился в замок.
Глава X. ЧАСОВОЙ
С земли иль с неба этот звук донесся?
«Буря»
Я превратился в слух,
Внимая звукам, что живую душу
Могли бив тело мертвое вдохнуть.
«Комус»
Едва Квентин вернулся в свою каморку, чтобы переменить платье, как туда явился его почтенный родственник и принялся расспрашивать обо всех подробностях происшествия на охоте.
Юноша, давно уже смекнувший, что у дядюшки ум много слабее руки, дал ему самый обстоятельный отчет, причем постарался оставить всю славу победы за королем, который был, видимо, не прочь ее присвоить. Меченый пожурил племянника за то, что тот не поспешил на помощь королю, находившемуся в смертельной опасности, и не преминул распространиться о том, как поступил бы он сам на его месте. Но юноша был настолько благоразумен, что даже и тут не стал оправдываться, а только заметил, что, по правилам охоты, считается непорядочным перебегать дорогу охотнику и соваться со своей помощью туда, где ее не просят. Едва лишь кончился разгоревшийся было по этому поводу спор, как Дорварду представился случай убедиться на деле, что он поступил правильно, не посвятив своего родственника в подробности утреннего происшествия. Послышался легкий стук в дверь, и в комнату вошел новый гость. Это был не кто иной, как сам Оливье ле Дэн, иначе Оливье Негодяй, или Оливье Дьявол.
Мы уже описывали наружность этого замечательного, но безнравственного человека. Все его движения напоминали домашнюю кошку, когда, свернувшись клубочком, она как будто дремлет или когда тихонько, бесшумно пробирается по комнате, но в то же время не сводит глаз с норы какой-нибудь несчастной мышки. То она так нежно, так доверчиво ластится к вам, то вдруг бросается на свою жертву или внезапно царапнет руку, которая ее ласкает и гладит.
Оливье вошел сгорбившись, со смиренным, скромным видом и так почтительно раскланялся с «господином Лесли», что всякому постороннему свидетелю этой сцены невольно пришло бы в голову, что он явился просить шотландского стрелка о какой-нибудь милости. Он поздравил Лесли с прекрасным поведением его племянника на охоте и сказал, что юноша обратил на себя особое внимание короля. Сделав это сообщение, он умолк и стоял, смиренно потупившись в ожидании ответа, что, впрочем, не помешало ему раза два украдкой бросить взгляд на Квентина. Меченый выразил глубокое сожаление, что подле его величества случился в ту пору его племянник, а не он сам, потому что, уж разумеется, будь он на его месте, он пропорол бы насквозь негодного зверя, тогда как из рассказа Квентина видно, что этот молокосос предоставил покончить с вепрем самому королю.
— Впрочем, это послужит уроком его величеству: не давать вперед таких кляч людям моего роста и сложения, — добавил стрелок. — Ну что я мог сделать, скажите на милость, с моим фламандским ломовиком? Мог ли я угнаться за нормандским скакуном его величества? Я так шпорил своего коня, что у него, наверно, теперь раны на боках… Нет, господин Оливье, таких вещей нельзя допускать. Вы непременно должны поговорить об этом с его величеством.
В ответ на это заявление Оливье только бросил на смелого говоруна один из тех загадочных взглядов, которые, Когда они сопровождаются легким движением руки или головы, могут одинаково сойти и за утвердительный ответ и за предостережение не касаться больше щекотливого вопроса. Гораздо выразительней был тот испытующий взгляд, которым он окинул Квентина, обратившись к нему с двусмысленной усмешкой:
— Итак, молодой человек, у вас в Шотландии, как видно, в обычае оставлять своего государя без помощи даже в тех случаях, когда ему грозит такая опасность, как сегодня?
— У нас в обычае, — ответил Квентин, решив больше не распространяться на эту тему, — не лезть со своими услугами туда, где в них не нуждаются. Мы считаем, что в отъезжем поле и король должен подвергаться опасности наравне с другими, затем он и ездит на охоту. А что же за охота без риска и усталости?
— Нет, вы только послушайте этого сорванца! — воскликнул его дядя. — Вот он всегда так, у него на все готовый ответ и объяснение. Просто удивительно, где он так навострился! Я никогда в жизни не умел объяснить, почему я поступаю так, а не этак, кроме тех случаев, когда я ем, потому что голоден, или делаю перекличку, или выполняю другую служебную обязанность.
— А позвольте вас спросить, почтеннейший господин Лесли, — сказал королевский брадобрей, бросив на стрелка взгляд из-под полуопущенных век, — чем вы объясняете свое поведение, когда, например, делаете перекличку?
— Приказанием своего ближайшего начальника, — ответил Меченый. — Клянусь святым Эгидием, чем же еще прикажете мне руководствоваться? Получи это приказание Тайри или Каннингем, и они поступили бы точно так же.
— Вполне разумное объяснение с военной точки зрения, — заметил Оливье. — Но, вероятно, вам будет приятно услышать, что его величество не только не осуждает поведение вашего племянника, но уже сегодня желает дать ему поручение.
— Ему? — воскликнул Меченый в великом изумлении. — Вы, верно, хотели сказать — мне, господин Оливье?
— Я хотел сказать именно то, что сказал, — ответил брадобрей кротким, но решительным тоном. — Король желает дать поручение вашему племяннику.
— Как?.. Что?.. Почему? — вскричал Меченый. — Отчего он предпочел мне этого мальчишку?
— Единственное объяснение, какое я могу вам привести, господин Лесли, то самое, которым и вы всегда руководствуетесь: таков приказ его величества. Но если бы мне было дозволено делать предположения, — добавил Оливье, — то я подумал бы, что государь выбрал его потому, что поручение, которое он намерен ему дать, более подходит такому юнцу, как ваш племянник, чем такому старому и опытному воину, как вы… Итак, молодой человек, берите ваше оружие и ступайте за мной, да захватите с собой мушкетон, так как вы будете стоять на часах.
— На часах! — воскликнул Меченый. — Но уверены ли вы в том, что говорите, господин Оливье? Внутренние посты в замке доверяются людям, прослужившим, как я, не менее двенадцати лет в нашей почетной дружине.
— Я совершенно уверен, что именно таково желание короля, — ответил Оливье, — и не могу дольше медлить с исполнением его приказания.
— Но мой племянник еще даже не вольный стрелок, — продолжал Меченый, — он только оруженосец и служит под моим началом.
— Простите, вы ошибаетесь, — возразил Оливье, — с полчаса назад его величество потребовал списки и изволил внести имя вашего племянника в число стрелков своей гвардии. Будьте же добры, помогите ему приготовиться к исполнению своих обязанностей.
Меченый, который был по природе не зол и не завистлив, сейчас же принялся снаряжать племянника и читать ему наставления, как он должен вести себя на посту; однако он не мог удержаться, чтобы еще несколько раз не вернуться к прежней теме и не выразить удивления по поводу того, какое счастье вдруг привалило этому молокососу.
— Такого никогда еще не случалось в шотландской гвардии, по крайней мере на моей памяти, — говорил он. — Впрочем, его, наверно, поставят сторожить попугаев и индийских павлинов, недавно присланных в подарок королю венецианским послом. Ну да, наверно так… Самое подходящее дело для такого безусого молодца… (Тут он гордо покрутил свой грозный ус.) От души радуюсь, что выбор пал на моего дорогого племянника!
Но Квентин, одаренный быстрым умом и пылким воображением, придавал гораздо больше значения приказанию короля, и сердце его сильно билось при мысли об этом отличии, сулившем ему быстрое повышение в будущем. Он решил внимательно следить за каждым словом и движением своего провожатого, так как ему казалось, что действия этого человека часто следует понимать в обратном смысле, вроде того, как гадальщики толкуют сны. Не мог он также не порадоваться в душе, что никому не проболтался о приключении на охоте, и тут же принял твердое и весьма благоразумное для такого молодого человека решение — держать свои мысли при себе, а язык на привязи все время, пока он будет дышать воздухом этого мрачного, таинственного замка.
Сборы его были скоро окончены, и с мушкетоном на плече (в шотландской гвардии было очень рано введено огнестрельное оружие вместо большого лука, которым шотландцы никогда не владели в совершенстве) он вышел вслед за Оливье из казармы.
Дядя долго смотрел ему вслед с удивлением и любопытством; хотя мысли честного воина были свободны от зависти и всяких злобных чувств, однако в душе его все-таки было смутное ощущение обиды и задетого самолюбия, смущавшее его искреннюю радость по поводу столь благоприятного начала карьеры племянника.
Но вот он многозначительно покачал головой, открыл потайной шкафчик, достал большую фляжку крепкого, старого вина, встряхнул ее, чтобы определить, насколько убавилось ее содержимое, налил полную чарку и выпил залпом; потом развалился в большом дубовом кресле, еще раз покачал головой и, видимо, получил от этого такое удовольствие, что продолжал сидеть, качая головой, как игрушечный мандарин, пока не погрузился в сладкий сон, из которого его вывел только сигнал к обеду.
В то время как Меченый предавался своим размышлениям, Квентин Дорвард шел за Оливье, который повел его не обычной дорогой, через двор, а неизвестными ему внутренними ходами по сводчатым коридорам, галереям и лестницам, сообщавшимся между собой в самых неожиданных местах потайными дверями. Таким образом они добрались до широкой и длинной галереи, которая по своим размерам могла бы быть названа залом. Стены ее были сплошь увешаны коврами, замечательными скорее своей древностью, чем красотой; на них висело несколько холодных, сумрачных, похожих на призраки портретов того стиля, который предшествовал блестящей эпохе возрождения искусств. Портреты изображали рыцарей времен Карла Великого, игравшего такую видную роль в романтическую эпоху французской истории, а так как громадный портрет знаменитого Роланда78 занимал здесь главное место и больше других бросался в глаза, то и комната эта получила название Роландовой галереи, или зала Роланда.
— Вот здесь вы будете стоять на часах, — сказал Оливье шепотом, как будто боялся, что его голос потревожит суровых рыцарей на стенах или разбудит отголоски, дремавшие под высокими сводами и готическими украшениями этого огромного и мрачного покоя.
— Какие будут приказания и пароль? — так же тихо спросил его Дорвард.
— Заряжен ли ваш мушкетон? — спросил Оливье вместо ответа.
— Сейчас заряжу — это минутное дело, — ответил Квентин, заряжая ружье и зажигая фитиль (который должен был быть всегда наготове на случай выстрела) у догоравшего огня в огромном камине, таком высоком, что он напоминал скорее комнату или готическую часовню, чем камин.
Когда ружье было заряжено, Оливье сказал, что Дорварду еще неизвестна одна из важнейших привилегий его дружины, а именно: каждый ее член может получать приказания, помимо своего начальника, прямо от короля или от великого коннетабля Франции.
— Вы здесь поставлены по приказанию его величества, — добавил Оливье, — и скоро узнаете, для какой цели. Можете пока прогуливаться вдоль галереи или стоять смирно, как вам будет угодно. Но вы не смеете ни садиться, ни выпускать из рук оружие. Ни в коем случае вы не должны ни петь, ни свистеть. Вы можете, если хотите, читать вполголоса молитвы или что-нибудь в этом роде, но только потише… Прощайте и хорошенько исполняйте ваш долг.
«Хорошенько исполняйте ваш долг»! — подумал юный воин, когда его проводник отошел от него своей бесшумной, крадущейся походкой и исчез где-то в боковой двери, скрытой под коврами. — Хотел бы я знать, какой это долг? В чем он заключается? К кому и к чему относится? Здесь, кажется, нельзя ожидать никаких врагов, кроме крыс да летучих мышей, если только угрюмые представители отжившего человечества на этих стенах не вздумают вдруг воскреснуть и броситься на меня… Ну что ж, так или иначе, я исполню свой долг».
Вооружившись этим благим намерением, Квентин, чтобы как-нибудь убить время, принялся тихонько напевать духовные гимны, которым он научился в том монастыре, где нашел приют после смерти отца. Тут ему невольно пришло в голову, что хотя он сменил рясу послушника на богатую военную форму, однако эта скучная прогулка по галерее французского дворца мало чем отличается от уединенных прогулок, которые так надоели ему в Абербротоке.
Затем, как будто для того, чтобы убедиться, что теперь он принадлежит не церкви, а миру, он запел вполголоса, как ему было разрешено, одну из тех старинных баллад своей далекой родины, которым его научил их старый домашний арфист, знавший много старинных сказаний и легенд, особенно о той стороне, где вырос Дорвард. Так прошло довольно много времени; было уже два часа пополудни, когда наконец голод напомнил Квентину, что хотя монахи в Абербротоке и требовали, чтобы он присутствовал на всех церковных службах, зато они по крайней мере заботились об удовлетворении его аппетита; здесь же, в королевском дворце, никому, по-видимому, и в голову не приходит, что после целого утра, проведенного на лошади, и долгого, утомительного караула ему, естественно, очень хочется есть-Бывают, однако, чары, способные усыпить даже такое естественное нетерпение, какое испытывал теперь голодный Квентин; таковы сладкие звуки музыки. На противоположных концах галереи, где расхаживал Дорвард, находились две огромные, тяжелые двери с лепными украшениями; они вели, очевидно, во внутренние дворцовые покои, расположенные по обоим концам зала, который служил для них местом сообщения. Шагая от одной двери к другой, Дорвард вдруг услышал за одной из них поразившие его звуки музыки: ему показалось, что это то сочетание голоса и лютни, которое так очаровало его накануне. Все вчерашние мечты, почти забытые под влиянием целого ряда волнующих впечатлений, воскресли в его душе с новой силой. Застыв на месте там, где ухо его могло легче впивать чудные звуки, он стоял с ружьем на плече, полуоткрыв рот, весь превратившись в слух и не сводя глаз с таинственной двери, больше похожий на статую часового, чем на живого человека. В голове его теперь была только одна мысль: как бы не пропустить ни одного звука волшебной музыки.
Нежная, чудная мелодия долетала до него как будто издалека и слышалась только урывками, то замирая, то совсем умолкая, то возникая вновь. Музыка, как и красота, еще больше очаровывает нас или еще сильнее увлекает, когда она наполовину скрыта и нашему воображению дается возможность заполнить оставшиеся пробелы а у Квентина и без этого было довольно причин дать волю своей фантазии в промежутках наступавшей по временам тишины. Вспомнив то, что он слышал от товарищей дяди, а также сцену, которую он видел в аудиенц-зале сегодня утром, он больше не сомневался, что сирена, околдовавшая его вчера своим пением, была совсем не дочь или родственница грубого трактирщика, как он осмелился подумать вначале, а переодетая графиня, та самая, из-за которой короли и герцоги готовы были надеть свои бранные доспехи и скрестить копья. Тысячи смелых грез, какие только могли родиться в голове романтического, предприимчивого юноши в тот романтический, предприимчивый век, овладели Дорвардом и заслонили в его сознании действительность волшебными, фантастическими картинами. Вдруг мечты его были прерваны чьей-то властной рукой, схватившейся за его оружие, в то время как суровый голос сказал над самым его ухом:
— Как, черт возьми! Господин оруженосец изволил, кажется, уснуть на посту!
То был глухой, но выразительно-насмешливый голос дядюшки Пьера, и Квентин, разом опомнившись, готов был провалиться сквозь землю со стыда и страха: он до того замечтался, что не заметил, как к нему приблизился сам король, который, вероятно, вошел в галерею через одну из потайных дверей и, проскользнув вдоль стены или, быть может, за коврами, подкрался к нему так близко, что чуть не обезоружил его.
Первым необдуманным побуждением Дорварда было высвободить свое оружие, и он рванул его резким движением, от которого король покачнулся. Но тут же он еще пуще испугался того, что, уступая инстинкту, побуждающему каждого храброго человека бороться с тем, кто хочет его обезоружить, он осмелился вступить в борьбу с самим королем, и без того разгневанным его небрежным отношением к своим обязанностям часового. Смущенный этой мыслью, сам не зная, что он делает, Квентин взял ружье на караул и застыл в этой позе перед государем, который, как он имел полное основание думать, был им смертельно оскорблен.
Людовик был тираном не столько из-за природной жестокости и злобности характера, сколько из холодного расчета и в силу присущей ему недоверчивости и подозрительности. Тем не менее в его характере была известная доля злорадства и бессердечия, делавшая его деспотом даже в простом общении с людьми, и он положительно наслаждался смущением и страхом, которые умел внушать; так было и теперь. Однако он не стал затягивать это наслаждение и удовольствовался тем, что сказал:
— Сегодняшняя твоя услуга мне с избытком искупает небрежность такого молодого солдата, как ты… Ты обедал?
Услышав эти милостивые слова, Квентин, ожидавший, что его, пожалуй, пошлют на расправу к прево, почтительно ответил, что он еще не обедал.
— Бедняга, — сказал Людовик, и в голосе его послышалась несвойственная ему мягкость, — так это голод тебя усыпил! Я знаю, у тебя аппетит — лютый волк. Но я спасу тебя от этого зверя, как ты спас меня от другого. Ты был скромен, и я обязан тебе благодарностью. Можешь поголодать еще час?
— Хоть двадцать четыре, государь, — ответил Дорвард, — иначе какой же я был бы шотландец?
— Ну, не хотел бы я даже за второе королевство быть тем пирогом, на который ты набросишься после такого поста, — заметил шутливо король и добавил:
— Но речь идет не о твоем, а о моем обеде. Сегодня со мной обедают кардинал Балю и этот бургундец, граф де Кревкер. Мы будем только втроем… Как знать, что может случиться!.. Сатана всегда найдет себе дело, когда враги встречаются под личиной дружбы.
Людовик умолк и о чем-то глубоко задумался; судя по его лицу, то были мрачные думы. Видя, что король совсем о нем позабыл, Квентин решил спросить, в чем же, собственно, будут заключаться его обязанности.
— Ты будешь стоять на карауле за буфетом с заряженным ружьем, — ответил Людовик, — и, как только увидишь измену, убьешь изменника наповал.
— Измена, государь, в этом замке, который так охраняется! — воскликнул Дорвард.
— Ты считаешь это невозможным, — сказал король, по-видимому нисколько не задетый такой откровенностью, — однако история доказывает, что измена может проникнуть и в щель… Разве тут поможет охрана, глупый мальчик! Quis custodial ipsos custodes?79 Кто порукой, что мне не изменит самая стража, которой я вверил охрану?
— Тому порукой их шотландская честь, государь! — смело ответил Дорвард.
— Ты прав, ты прав, дружок! — сказал весело король. — Шотландская честь всегда была безупречна. На нее можно положиться, и я ей верю. Но измена!.. — И лицо короля опять омрачилось. Он продолжал в волнении, шагая взад и вперед:
— Измена сидит за нашим столом, искрится в наших кубках, рядится в платье наших советников, улыбается устами наших придворных, слышится в хохоте наших шутов, а чаще всего таится под дружеской личиной примирившегося с нами врага. Людовик Орлеанский поверил Иоанну Бургундскому и был убит на улице Барбет. Иоанн Бургундский поверил орлеанской партии и был убит на мосту Монтеро80. Я никому не поверю, никому! Слушай: я не спущу глаз с этого дерзкого графа, да и с кардинала тоже — я и ему не очень-то верю, — и, когда я скажу: «Ecosse, en avant»81 — стреляй и уложи Кревкера на месте.
— Это мой долг, государь, когда жизнь вашего величества в опасности, — заметил Квентин.
— Конечно. Только это я и хотел сказать. К чему мне смерть этого дерзкого воина! Будь это еще коннетабль Сен-Поль… — Тут король замолчал, как будто спохватившись, что сказал лишнее, но тотчас продолжал со смехом:
— Я вспомнил, как наш зять Иаков Шотландский82 — ваш король Джеймс, Квентин, — заколол Дугласа, когда тот гостил у него, в своем собственном замке Скирлинге.
— В Стирлинге, не во гнев будь сказано вашему величеству, — заметил Квентин. — Из этого дела вышло мало добра.
— Так вы зовете его Стирлинг? — спросил король, как будто не расслышав последних слов Квентина. — Ну, пусть Стирлинг, дело не в названии. Но хоть я и не желаю зла этим людям… нет, их смерть ни к чему бы мне не послужила… да они-то, быть может, иначе относятся ко мне… Ну ладно, я полагаюсь на твой мушкетон.
— Я буду ждать сигнала, но…
— Ты колеблешься, — сказал король. — Говори, я тебе разрешаю. От такого, как ты, можно иногда получить дельный совет.
— С вашего разрешения, я хотел только спросить, — ответил Квентин, — зачем, если у вашего величества есть причины не доверять этому бургундцу, вы хотите допустить его к вашей особе, и притом наедине?
— Успокойся, господин оруженосец, — сказал король, — есть опасности, которым надо прямо смотреть в глаза. Если же ты станешь уклоняться от них — гибель становится неизбежной, если я смело подойду к собаке, которая рычит на меня, и приласкаю ее, то десять шансов против одного, что она меня не тронет. Если же я выкажу ей свой страх, она наверняка бросится и укусит меня. Я буду с тобой откровенен: для меня очень важно, чтобы этот человек вернулся к своему сумасбродному господину, не затаив гнева против меня. Вот почему я и иду на такую опасность. Я никогда не боялся рисковать своей жизнью для блага моего королевства… Ступай за мной!
Людовик повел своего юного телохранителя, к которому он, видимо, чувствовал особенное расположение, через ту потайную дверь, в которую вошел сам, и по дороге, указывая на нее, сказал:
— Тот, кто хочет иметь успех при дворе, должен знать все ходы и закоулки, потайные двери и западни этого замка не хуже, чем его главные ворота и парадный вход.
Пройдя по запутанным переходам и внутренним коридорам, король привел Дорварда в небольшую комнату со сводами, где был накрыт стол на троих. Убранство комнаты было бы до крайности просто, почти скудно, если бы не прекрасный створчатый буфет с расставленной на нем золотой и серебряной посудой — единственная вещь в этой комнате, сколько-нибудь достойная стоять в королевской столовой. За этим-то буфетом Людовик поставил Дорварда, после чего, обойдя всю комнату и убедившись, что его ниоткуда не видно, повторил свои наставления:
— Смотри помни же слова: «Ecosse, en avant!» — и, как только я их скажу, выскакивай, не заботясь о целости чаш и кубков, и стреляй в Кревкера… Если промахнешься, пускай в ход свой нож… Мы вдвоем с Оливье справимся с кардиналом.
Сказав это, он громко свистнул, и к нему тотчас явился Оливье, исполнявший при особе короля не только должность цирюльника, но и главного камердинера и вообще все обязанности, имевшие какое-нибудь отношение к личным услугам королю. Он пришел в сопровождении двух старых лакеев, которые должны были прислуживать за королевским столом. Как только король занял свое место, в комнату ввели гостей, и Квентин убедился, что, стоя в своей засаде, он может прекрасно следить за всеми подробностями этого свидания.
Король приветствовал своих гостей с таким радушием, что Квентин в простоте душевной никак не мог согласовать такое обращение с только что полученными им инструкциями и с той целью, для которой он был поставлен за буфетом со смертоносным оружием в руках. Теперь в Людовике не только нельзя было подметить и тени опасения или тревоги, но, глядя на него, можно было подумать, что эти гости, которым он оказал высокую честь, принимая их за своим столом, пользуются его особым уважением и доверием. Обхождение его с ними отличалось спокойным достоинством и в то же время непринужденной любезностью. Крайняя простота обстановки, да и костюма самого Людовика, далеко уступавшая роскоши и блеску дворов самых мелких из его вассалов, еще резче оттеняла его истинно королевские приемы и речи, обличавшие могущественного, но снисходительного владыку. Квентин был готов допустить, что весь его предыдущий разговор с королем был только сном или что почтительность кардинала и чистосердечная искренность обращения любезного бургундца усыпили в Людовике подозрения.
Но в ту минуту, когда гости по приглашению короля занимали места за столом, Людовик бросил на них быстрый, пронзительный взгляд и тотчас перевел его в ту сторону, где был спрятан Квентин. В этот краткий миг во взгляде короля вспыхнули такая ненависть и недоверие к гостям, в нем мелькнуло такое решительное приказание часовому быть настороже, готовым к нападению, что у Дорварда не осталось больше сомнений насчет истинных, мыслей и чувств короля. Тем более поразило юношу удивительное умение этого человека скрывать свои догадки.
Словно позабыв обо всем, что ему высказал Кревкер в присутствии целого двора, король беседовал с ним как со старым знакомым, вспоминал старину, то время, когда он жил в Бургундии изгнанником, расспрашивал о вельможах и рыцарях, с которыми он там встречался, как если бы то время было счастливейшей порой его жизни и сам он сохранил самые дружеские чувства к тем, кто постарался облегчить ему его изгнание.
— Всякого другого посла, — говорил он, — я принял бы с гораздо большей пышностью, но для такого старого друга, как вы, часто делившего мою скромную трапезу в Женаппском дворце83, я хотел остаться тем, что я есть, — прежним Людовиком Валуа, таким же скромным во всех своих привычках, как любой парижский badaud84. Впрочем, я позаботился, любезный граф, чтобы наш обед был лучше обыкновенного; я ведь знаю вашу бургундскую поговорку: «Mieux vault bon repas que bel habit»85, потому я велел приготовить его с особым старанием. Что же касается вина, которое, как вам известно, является предметом давнишнего соперничества между Францией и Бургундией, то мы постараемся уладить этот спор к удовольствию обеих сторон; я выпью в вашу честь бургундского, а вы, любезный граф, ответите мне шампанским… Налей-ка мне, Оливье, чарку оксерского! — И король весело запел известную в то время песенку:
- Оксерское — напиток королей!
Пью здоровье благородного герцога Бургундского, нашего возлюбленного кузена. Оливье, наполни вон тот золотой кубок рейнским и подай его графу на коленях: он представляет здесь нашего любезного брата… А ваш кубок, господин кардинал, я наполню сам.
— Вы уже и так переполнили его вашими милостями, государь, — сказал кардинал фамильярным тоном любимца, ищущего благосклонности своего покровителя.
— Потому что я знаю, ваше святейшество, что вы держите его твердой рукой, — сказал Людовик. — Но чью же сторону вы примете в нашем великом споре о вине Силлери или Оксера — Франции или Бургундии?
— Я останусь нейтральным, ваше величество, — ответил кардинал, — и наполню мой кубок овернским.
— Нейтралитет — опасная вещь, — сказал король, но, заметив, что кардинал покраснел, поспешил переменить разговор. — Я знаю, почему вы отдаете предпочтение овернскому: это благородное вино не терпит воды… Но что же вы не пьете, любезный граф? Надеюсь, вы не нашли национальной горечи на дне вашего кубка?