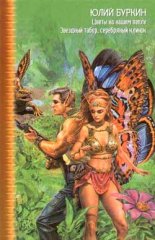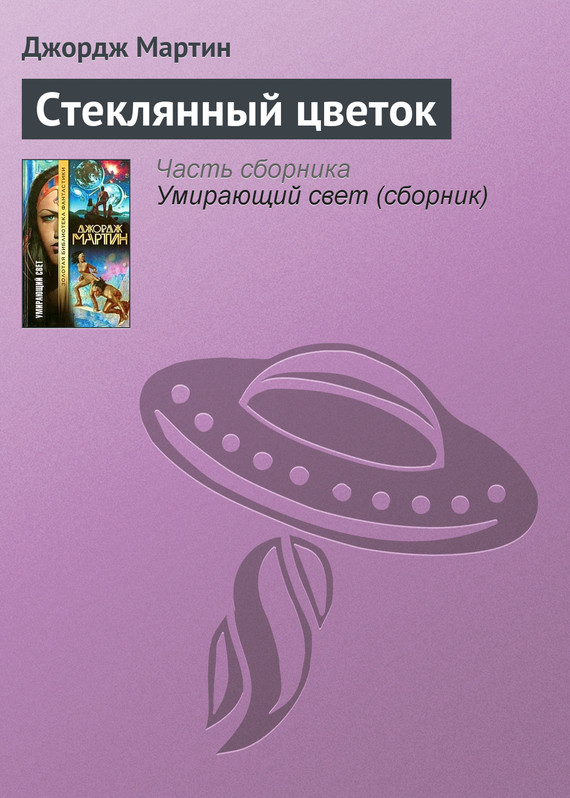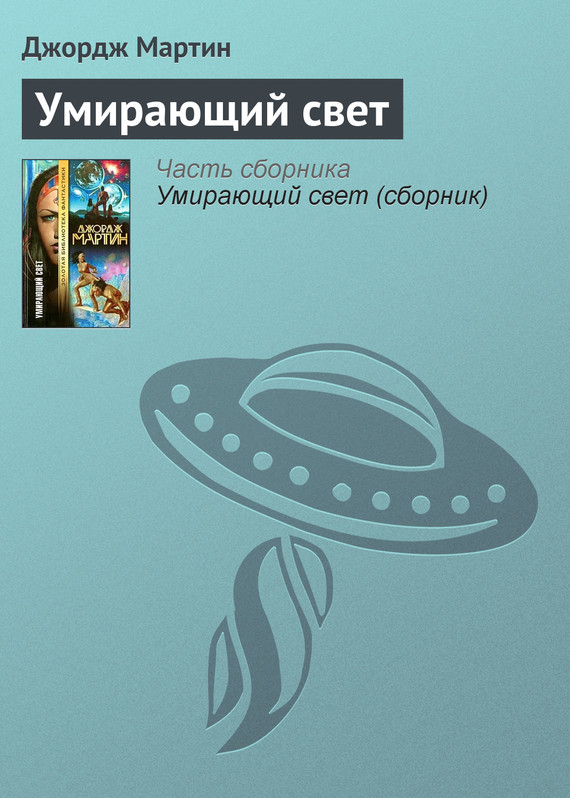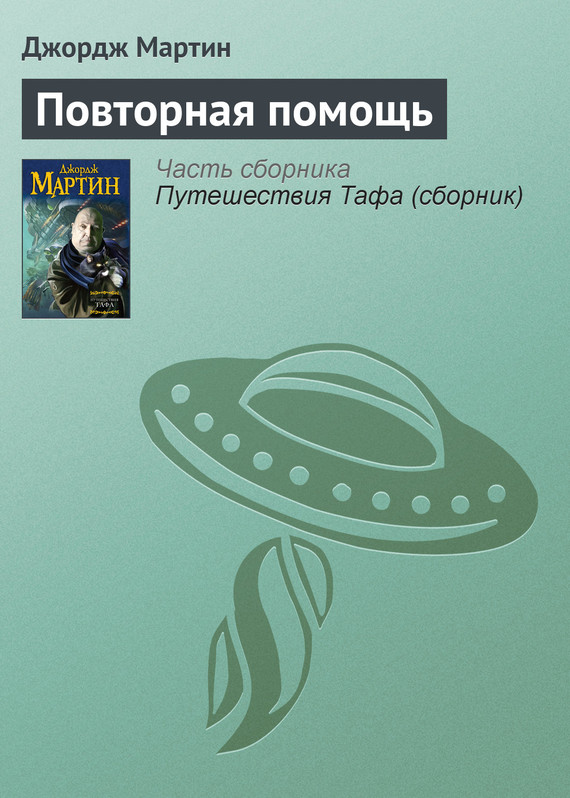Квентин Дорвард Скотт Вальтер
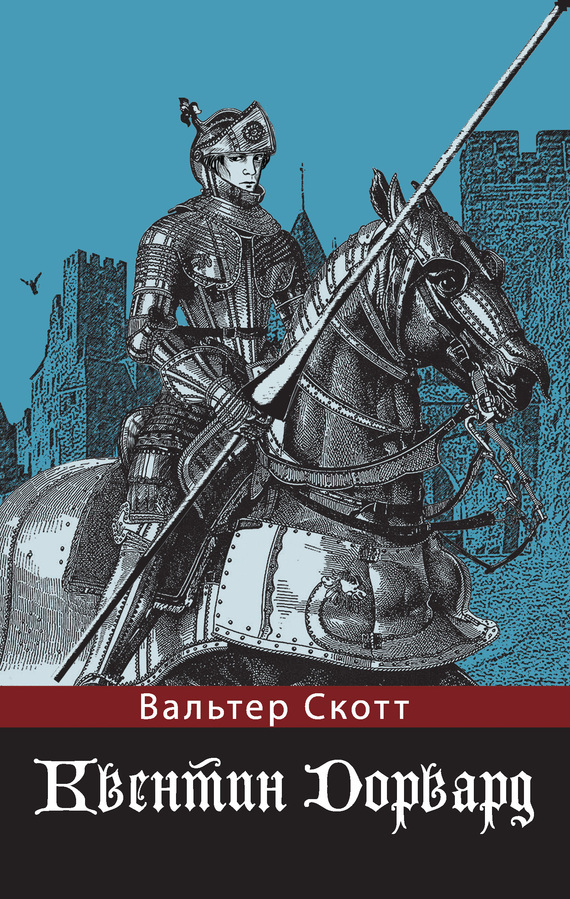
— Хорошо сказано, господин мудрец, — одобрил Людовик. — Покойной ночи, кузен, я отправляюсь вооружаться. Кстати, что бы вы сказали, если б я собственноручно завоевал прелестную графиню?
— Только то, что в таком случае ваше величество должны будете сделаться настоящим фламандцем, — ответил герцог изменившимся голосом.
— Да я не могу быть фламандцем больше, чем я есть, — сказал Людовик с самым искренним видом. — Не знаю только, как мне в этом убедить моего любезного кузена.
Герцог ограничился тем, что пожелал королю доброй ночи тоном, напоминавшим фырканье пугливого коня, которого всадник оглаживает, прежде чем вскочить в седло.
— Я простил бы ему все его лицемерие, если бы он не считал меня круглым дураком, способным поверить его заигрываниям, — сказал герцог Кревкеру, когда король вышел.
Между тем Людовик, вернувшись к себе, стал совещаться с Оливье.
— Этот шотландец, — сказал он своему слуге, — представляет собой непонятную смесь хитрости и простодушия: я просто не знаю, что мне с ним делать. Черт возьми, подумай только, какая непростительная глупость — взять да и разболтать этот план вылазки честного де ла Марка при Карле, Кревкере и всей компании, вместо того чтобы потихоньку шепнуть мне его на ушко! Тогда у меня был бы по крайней мере выбор, как действовать: поддержать или расстроить его.
— Нет, государь, оно и лучше, что так вышло, — сказал Оливье. — В вашей свите много лиц, которые сочли бы бесчестным изменить бургундцу и стать союзниками де ла Марка.
— Ты прав, Оливье. Дураков на свете немало, а нам с тобой в настоящую минуту было бы некогда успокаивать их щепетильность маленькой дозой личного интереса. Будем честными людьми, Оливье, и добрыми союзниками Бургундии, по крайней мере на эту ночь: время еще даст нам возможность отыграться. Ступай скажи, чтобы никто не снимал оружия, да передай мой приказ, чтобы в случае надобности стреляли в тех, кто будет кричать «Франция и Сен-Дени!», так же смело, как если бы они вопили «Преисподняя и Дьявол!». Я сам лягу в доспехах. Да передай от меня Кроуфорду, чтобы он поставил Квентина Дорварда на самый передовой пост караульной цепи перед городом. Пусть-ка первый воспользуется счастливым случаем, который может предоставить ему эта вылазка, так как он первый о ней сообщил. Коли ему удастся выйти целым, его счастье. Но главное, позаботься о Мартиусе Галеотти; пусть останется позади, в самом безопасном месте; он безрассудно смел и, как дурак, хочет быть сразу и философом и воякой. Смотри же, ничего не забудь, Оливье! Покойной ночи… Пресвятая матерь Клерийская, святой Мартин Турский, будьте милостивы ко мне, грешному, и охраните мой сон!
Глава XXXVII. ВЫЛАЗКА (продолжение)
Взглянул и видит: толпы без числа
Из городских ворот выходят.
«Возвращенный рай»
Вскоре над огромным станом, расположившимся под стенами Льежа, воцарилась мертвая тишина. Некоторое время слышались еще голоса сменявшихся часовых и перекликавшихся солдат, потерявших свои части и товарищей; эти крики доносились из мрака, как лай заблудившихся собак, разыскивающих своих хозяев. Но наконец усталость после утомительного дневного перехода взяла свое; отбившиеся приютились кто где мог, и вскоре все погрузилось в глубокий сон в ожидании утра, которого некоторым не суждено было уже увидеть. Все спало мертвым сном, кроме измученных солдат почетного караула, охранявших помещения герцога и короля. Опасности предстоящего дня, надежды завоевать славу, о которой мечтали многие рыцари, собиравшиеся сразиться за высокую награду, обещанную тому, кто отомстит за смерть Льежского епископа, — все стерлось из памяти тех, кого свалила с ног тяжелая усталость. Но Квентин Дорвард не спал. Уверенность, что он один сумеет узнать де ла Марка в общей сумятице, воспоминание о той, которая сообщила ему приметы Вепря и тем самым окрылила его надежды, мысль о предстоящей смертельной опасности, из которой он надеялся выйти победителем, — все это отогнало сон от его глаз и так напрягло его возбужденные нервы, что он не чувствовал ни малейшей усталости.
Поставленный по особому приказанию короля на передовой пост между французским лагерем и городом, находившимся значительно правее предместья, о котором говорилось выше, он изо всех сил напрягал зрение, вглядываясь в окружающий его мрак, и старался уловить малейший звук или движение в осажденном городе. Но башенные часы пробили три часа пополуночи, а кругом было по-прежнему тихо, как в могиле.
Квентин уже решил было, что вылазка отложена до рассвета, и с радостью подумал, что при свети дня ему будет легче узнать переодетого Вепря, как вдруг ему показалось, будто он слышит какой-то смутный гул, словно рой потревоженных пчел слетелся на защиту своих ульев. Он прислушался: шум продолжался, но доносился так слабо и неясно, что его можно было принять и за шелест листьев в дальней роще и за журчание ручья, вздувшегося после недавнего дождя, с шумом падавшего на волны медленного Мааса. Квентин решил подождать, чтобы не поднимать тревоги напрасно.
Когда шум стал усиливаться и, как Квентину показалось, приближаться к занимаемому им посту и к предместью, он счел своим долгом как можно осторожнее отступить и окликнуть дядю, который на случай тревоги был поставлен неподалеку во главе небольшого отряда стрелков. В один миг весь отряд был на ногах, не произведя ни малейшего шума. Минуту спустя во главе его стоял уже лорд Кроуфорд и, отправив гонца разбудить короля и его свиту, приказал своим людям тихонько отступить за сторожевой огонь, чтобы свет их не выдал. Глухой шум, который, казалось, все приближался, теперь смолк, но вскоре вдали раздался топот ног множества людей, приближавшихся к предместью.
— Лентяи бургундцы спят на своих постах, — прошептал Кроуфорд. — Беги в предместье, Каннингем, да разбуди-ка этих тупоголовых быков.
— Ступайте в обход, — вмешался Дорвард, — потому что, если слух меня не обманывает, мы отрезаны от предместья сильным отрядом.
— Верно, Квентин! Молодец! — сказал Кроуфорд. — Ты настоящий солдат, хоть и молод годами. Наверно, они остановились, поджидая других. Чего бы я не дал, чтобы узнать, где они!
— Я подползу к ним поближе, милорд, и постараюсь это выяснить, — сказал Квентин.
— Ступай, сынок, у тебя зоркий глаз, тонкий слух и хорошая смекалка… Только будь осторожен… Я не хотел бы, чтобы ты пропал ни за грош.
Квентин, с мушкетом наготове, стал осторожно пробираться по полю, которое он тщательно осмотрел накануне; он полз все вперед, пока не убедился, что неподалеку, между квартирой короля и предместьем, стоит огромный неприятельский отряд, а впереди, совсем близко к нему, — другой, поменьше. Он слышал даже, как люди шептались между собой, будто совещаясь, что им делать дальше. Затем от передового отряда отделились два или три человека — должно быть, для разведки — и двинулись прямо на него. Когда они были не дальше чем на расстоянии двух копий, Квентин, убедившись, что ему все равно не уйти незамеченным, громко окликнул их:
— Qui vive191? — и услышал в ответ:
— Vive Li… Li. — .ege, c'est a dire, vive la France192! В тот же миг Квентин выстрелил. Раздался стон, кто-то упал… И Квентин, под огнем пущенных ему вслед выстрелов, убедивших его, что отряд был очень велик, пустился бежать со всех ног и вскоре отдал обо всем отчет лорду Кроуфорду.
— Прекрасно, прекрасно, мой мальчик, — сказал Кроуфорд. — А теперь, братцы, марш во двор главной квартиры! Враги слишком многочисленны, чтобы сталкиваться с ними в открытом поле.
Стрелки, согласно приказанию, заняли двор и сад виллы и нашли здесь все в полном порядке, а короля готовым сесть на коня.
— Куда вы, ваше величество? — спросил его Кроуфорд. — Вам будет всего безопаснее здесь, со своими.
— Нет, нет, — ответил Людовик, — мне надо быть у герцога. В эту критическую минуту мы должны убедить его в нашей верности, иначе нам придется иметь дело и с льежцами и с бургундцами.
И, вскочив на коня, король приказал Дюнуа принять командование над французскими войсками, а Кроуфорду со стрелками — отстаивать виллу в случае нападения неприятеля. Затем он велел немедленно послать за четырьмя полевыми орудиями, оставшимися в полумиле от виллы, в арьергарде, и постараться удержать позицию, пока они не прибудут, но ни в коем случае самим не начинать наступления, даже если противник будет разбит. Покончив с этими распоряжениями, король с небольшой свитой поскакал в главную квартиру герцога.
Промедление неприятельского отряда, давшее возможность привести в исполнение все эти распоряжения и подготовиться к обороне, было вызвано простой случайностью. Квентин своим выстрелом уложил на месте владельца дома, занятого французами. Человек этот служил проводником отряду, который должен был атаковать главную квартиру короля, и возможно, что, если бы не эта случайность, нападение имело бы успех.
Дорвард по приказанию короля сопровождал его к герцогу, которого они застали в состоянии неистового бешенства, почти не дававшего ему возможности исполнять обязанности полководца. А между тем крепкая власть была теперь крайне необходима: помимо того, что на левом фланге, в предместье, началась ожесточенная битва, а в центре произошло нападение на главную квартиру Людовика, — третья колонна мятежников, гораздо многочисленнее двух первых, вышла из дальнего пролома в стене и, пробравшись в обход по тропинкам, через виноградники и поля, ударила по правому флангу бургундской армии. Испуганные криками: «Франция!» и «Дени Монжуа!», сливавшимися с другими: «Льеж!» и «Вепрь!», и заподозрив измену со стороны своих союзников французов, бургундцы до того растерялись, что почти не оказывали сопротивления. Между тем герцог с пеной у рта ругал и проклинал своего сюзерена и всех его присных и наконец отдал приказ стрелять во все французское, черное или белое — безразлично, лишь бы были видны рукава, которыми отличались солдаты Людовика.
Прибытие короля в сопровождении Меченого, Квентина и не более десятка стрелков восстановило доверие Бургундии к Франции. Д'Эмберкур, Кревкер и другие бургундские военачальники, чьи имена в то время гремели среди войска, устремились к месту действия, и, пока они собирали и двигали отряды арьергарда, куда еще не проникла паника, другие бросились в самую гущу свалки, стараясь восстановить дисциплину. И в то время как сам герцог сражался впереди, колол и рубил наряду с простыми солдатами, его армия мало-помалу была приведена в порядок и по неприятелю был открыт артиллерийский огонь. В свою очередь, и Людовик с дальновидностью истинного полководца отдавал такие точные и разумные распоряжения и делал это с таким спокойствием и самообладанием, не обращая внимания на опасность, что даже бургундские стрелки охотно исполняли его приказания.
Поле битвы представляло теперь очень беспорядочное и страшное зрелище. На левом фланге после отчаянной стычки предместье было охвачено пламенем, но это море огня не мешало врагам с ожесточением оспаривать друг у друга пылающие развалины. В центре французские войска, отбивая нападения многочисленного неприятеля, поддерживали такой непрерывный и дружный огонь, что вся вилла, залитая светом, сияла, словно венец мученика. На правом фланге исход битвы был сомнителен: то мятежники, то бургундцы одерживали верх, смотря по тому, откуда приходило подкрепление — из города или из арьергарда бургундской армии. Битва длилась три часа без перерыва, когда наконец стала заниматься заря, которую осаждавшие ждали с таким нетерпением. К этому времени неприятель стал, видимо, ослабевать, и с того места, где находилась вилла Людовика, раздался пушечный залп.
— Наконец-то орудия прибыли! — воскликнул Людовик. — Теперь мы удержим позицию, слава пречистой деве! Скачите и передайте от меня Дюнуа, — добавил он, обращаясь к Квентину и Меченому, — чтобы он двинул на правый фланг все войска, кроме небольшого отряда, необходимого для защиты виллы, и постарался отрезать этих тупоголовых жителей Льежа от города, откуда они получают все новые подкрепления.
Дядя с племянником поскакали к Дюнуа и Кроуфорду, которые с восторгом выслушали приказание короля, так как им давно уже надоело сидеть на месте. Минуту спустя оба, во главе отряда в двести молодых рыцарей с их свитой и оруженосцами и большей частью шотландской гвардии, двинулись вперед через поле, усеянное убитыми и ранеными, заходя с тыла к тому месту, где между главным отрядом мятежников и правым крылом бургундской армии шла жаркая схватка. Наступивший рассвет дал им возможность заметить, что из города вышло новое подкрепление.
— Клянусь небом, — обратился старый Кроуфорд к Дюнуа, — если бы я не видел тебя своими собственными глазами здесь, рядом со мной, я бы подумал, что это ты там, между этими разбойниками и горожанами, командуешь, размахивая палицей… Только там ты как будто немного покрупнее, чем на самом деле. Уверен ли ты, что это не твоя тень или двойник, как говорят фламандцы?
— Двойник? Какие глупости! — сказал Дюнуа. — Но я вижу там негодяя, осмелившегося украсить свой шлем и щит моим гербом. Такая дерзость не пройдет ему даром!
— Во имя всего святого, ваша светлость, позвольте мне отомстить за вас! — воскликнул Квентин.
— Тебе, молодой человек? — отозвался Дюнуа. — Поистине весьма скромная просьба! Нет, нет, такие дела не допускают замены. — И, повернувшись в седле, он закричал следовавшим за ним воинам:
— Французские рыцари, сомкните ряды, копья наперевес! Проложим путь лучам восходящего солнца сквозь ряды льежских и арденнских свиней, посмевших нарядиться в наши древние доспехи!
Французы отвечали громким кличем:
— Дюнуа! Да здравствует храбрый Бастард! Орлеан, на выручку! — и вслед за своим доблестным начальником бросились на неприятеля.
Но и враги оказались не робкого десятка. Огромный отряд, который атаковали французы, состоял (за исключением нескольких предводителей, бывших на конях) из одной только пехоты. Примкнув копья к ноге и выставив их вперед, первый ряд опустился на одно колено, второй слегка пригнулся, а третий выставил копья над головами товарищей, образовав перед нападающими преграду, похожую на громадного ощетинившегося ежа. Только немногим удалось прорваться сквозь эту железную стену, и в их числе был Дюнуа: пришпорив коня, он заставил благородное животное сделать скачок футов двенадцати и, очутившись в гуще неприятеля, бросился навстречу ненавистному двойнику. Велико было его изумление, когда он заметил Квентина, дравшегося рядом с ним. Молодость, беззаветная отвага и твердая решимость победить или умереть поставили юношу в один ряд с лучшим рыцарем Европы, каким по праву считался Дюнуа в ту эпоху.
Копья всадников вскоре переломились, но ландскнехты не могли устоять под ударами их длинных тяжелых мечей, тогда как закованные в сталь кони и сами всадники оставались почти нечувствительными к ударам вражеских пик. В то время как Дюнуа и Дорвард старались наперебой друг перед другом пробиться вперед, к тому месту, где воин, самовольно присвоивший себе герб Орлеанов, распоряжался как храбрый и опытный военачальник, Дюнуа вдруг увидел немного в стороне от главной схватки кабанью голову и клыки — обычный головной убор де ла Марка, и крикнул Квентину:
— Ты заслужил честь вступиться за герб Орлеанов! Я поручаю тебе это дело… Меченый, помоги своему племяннику. Но никто не смеет перебивать дорогу Дюнуа в охоте на Вепря!
Нечего и говорить, с какой радостью Квентин приветствовал такое разделение труда, и оба бросились прокладывать себе путь, каждый к своей цели. За тем и за другим последовало по несколько всадников из тех, кто был в состоянии держаться наравне с ними.
Но к этому времени колонна, на выручку которой шел де ла Марк, задержанный теперь внезапной атакой Дюнуа, потеряла все преимущества, которых ей удалось добиться за ночь. С наступлением дня в рядах бургундцев был восстановлен порядок, и на их стороне оказался перевес, который им давало строгое соблюдение дисциплины. Мятежники были отброшены, обратились в бегство и, столкнувшись с товарищами, яростно сражавшимися с французами, произвели полнейшее смятение в их рядах. Теперь поле сражения представляло невообразимый хаос: кто еще дрался, кто бежал, кто преследовал бегущих, и весь этот живой поток катился к стенам города и вливался в широкую незащищенную брешь, откуда была сделана вылазка.
Квентин делал нечеловеческие усилия, чтобы пробиться в этой общей свалке к тому, кого он преследовал, и не потерять его из виду. При поддержке отборного отряда ландскнехтов двойник Дюнуа старался словами и примером остановить беглецов и воодушевить их на новую битву. Людовик Меченый с несколькими товарищами ни на шаг не отставал от Квентина, дивясь отваге юноши. Наконец, уже у самой бреши, де ла Марку (ибо это был он) удалось остановить беглецов и отбросить первые ряды преследователей. Он был вооружен железной палицей, которая, казалось, все рушила в прах, и до того весь забрызган кровью, что трудно было даже различить на его щите рисунок герба, так рассердившего Дюнуа.
Теперь Квентин мог пробраться к нему без особого труда, так как занятая им высокая позиция и удары его страшной палицы заставили большинство нападающих искать более безопасного места для атаки, чем эта брешь с ее могучим защитником. Но Квентин, которому была известна вся важность победы именно над этим страшным противником, соскочил с коня у самой бреши и, оставив на произвол судьбы благородное животное — подарок герцога Орлеанского, бросился вперед, чтобы помериться силами с Арденнским Вепрем. Как будто предугадав это намерение, де ла Марк с поднятой палицей повернулся к нему. Еще миг, и они бы сшиблись; но вдруг громкий крик торжества, смешанный с воплями ужаса и отчаяния, возвестил, что осаждающие ворвались в город с противоположной стороны и зашли в тыл защитникам бреши. Протрубив в рог, де ла Марк собрал вокруг себя отчаянных товарищей своей отчаянной судьбы, покинул позицию и начал отступать к той части города, откуда можно было переправиться через Маас. Плотно сомкнувшиеся вокруг него ряды его ландскнехтов составили целый отряд прекрасно дисциплинированных солдат, которые никогда никому не давали пощады, но и сами на нее не рассчитывали. В эту страшную минуту они отступали в полном порядке, так что первые ряды занимали всю ширину улицы и лишь иногда приостанавливались, чтоб оттеснить преследователей, из которых многие стали искать себе более безопасного дела и занялись грабежом ближайших домов. Очень возможно, что де ла Марку благодаря чужой одежде и удалось бы ускользнуть не узнанным теми, кто ценой его головы хотел купить себе знатность и славу, если бы не настойчивое преследование Квентина, его дяди и нескольких товарищей. При каждой остановке ландскнехтов между ними и стрелками завязывалась жаркая схватка, и всякий раз Квентин пытался проложить себе путь к де ла Марку; но Дикий Вепрь, убедившись в необходимости отступления, видимо, избегал встречи с молодым шотландцем. Между тем улицы представляли ужасающую картину разгрома. Со всех сторон неслись рыдания и крики женщин, стоны и вопли испуганных жителей, познакомившихся теперь на опыте с солдатской разнузданностью; они сливались со звоном оружия и шумом битвы, как будто отчаяние и насилие соперничали друг с другом — кто громче возвысит свой голос.
Как раз в ту минуту, когда Гийом де ла Марк, продолжая отступать среди этого ада, поравнялся с дверью небольшой, очень почитаемой часовни, раздались новые оглушительные крики: «Франция! Франция!», «Бургундия! Бургундия!» Эти крики неслись с противоположного конца узенькой улицы и возвещали, что мятежникам отрезан последний путь к отступлению.
— Конрад, — крикнул де ла Марк, — бери людей, ударь на тех молодцов и постарайся пробиться! Со мной кончено… Вепря затравили! Но во мне еще достаточно силы, чтобы отправить сначала в преисподнюю несколько человек из этих шотландских бродяг.
Воин де ла Марка повиновался и с небольшой горстью уцелевших ландскнехтов бросился к противоположному концу улицы, чтобы попробовать прорваться сквозь ряды неприятеля. Возле де ла Марка осталось человек шесть верных людей, решивших умереть со своим господином.
Они очутились лицом к лицу со стрелками, которых было только немногим побольше.
— Вепрь, Вепрь Эй вы, шотландские дворянчики, — прокричал бесстрашный разбойник, потрясая своей палицей, — кто из вас желает добыть графскую корону?.. Кто сразится с Вепрем Арденнским?.. Кажется, вы ее жаждете, молодой человек? Но, как и всякую награду, ее надо сперва заслужить!
Квентин почти не мог расслышать слов, звучавших глухо под опущенным забралом, но не ошибся в значении жеста, сопровождавшего их. Он успел только крикнуть дяде и товарищам, чтобы они посторонились и не мешали честному бою. И вслед за тем де ла Марк, как тигр, одним прыжком бросился на него с поднятой палицей, рассчитывая усилить удар всей тяжестью своего тела. Но легкий на ногу и зоркий шотландец отскочил в сторону и увернулся от страшной палицы, которая, наверно, уложила бы его на месте.
Затем они схватились, как волк с волкодавом; товарищи стояли кругом, наблюдая борьбу, но никто не посмел принять в ней участие, так как Меченый громогласно потребовал для Квентина честного поединка, говоря, что «будь его противник силен, как сам Уоллес, он и тогда бы не побоялся за своего племянника».
И действительно, юноша оправдал доверие опытного воина. Несмотря на то что удары озверевшего разбойника падали с силой ударов молота по наковальне, ловкость молодого стрелка помогала ему увертываться от них, а его умение владеть мечом наносило противнику гораздо больший урон, хотя и с меньшим шумом и треском. Вскоре страшная сила де ла Марка стала видимо ослабевать, а место, на котором он стоял, превратилось в лужу крови. Тем не менее Арденнский Вепрь продолжал сражаться с прежней отвагой и неутомимой энергией, и победа Квентина казалась еще сомнительной и далекой, как вдруг чей-то женский голос окликнул его по имени.
— Помогите, помогите во имя пресвятой девы! — кричала женщина.
Квентин повернул голову и узнал Гертруду Павийон. Накидка свалилась у нее с плеч; ее тащил какой-то французский солдат, один из тех, которые выломали дверь часовни и захватили как добычу укрывшихся в ней перепуганных женщин.
— Подожди меня одну минуту! — крикнул Квентин де ла Марку и бросился спасать свою благодетельницу от грозившей ей страшной опасности.
— Я никого не жду! — ответил де ла Марк, потрясая своей палицей, и начал отступать, вероятно очень довольный, что избавился от такого опасного противника.
— Но меня ты подождешь! — воскликнул Меченый. — Я не допущу, чтобы моего племянника оставили в дураках! — и с этими словами он бросился на де ла Марка со своим двуручным мечом.
Между тем Квентин убедился, что освобождение Гертруды было далеко не легкой задачей и он никак не сможет решить ее в одну минуту. Похититель, поддерживаемый своими товарищами, решительно не желал отказаться от своей добычи; и пока Квентин с помощью двух-трех земляков добился того, что он ее отпустил, судьба похитила у него счастливый случай, которым только что его поманила; когда он наконец освободил Гертруду, они оказались с нею одни на опустевшей улице. Совершенно позабыв о беспомощном положении своей спутницы, он, как гончая за оленем, бросился было по следам Дикого Вепря, но Гертруда уцепилась за него с отчаянным криком:
— Именем вашей матери молю вас, не покидайте меня! Если вы честный человек, защитите меня, проводите в дом моего отца, где когда-то вы и графиня Изабелла нашли верный приют! Ради нее не покидайте меня!
Эго был вопль отчаяния, против которого нельзя было устоять. С горечью в сердце сказав «прости» всем надеждам, поддерживавшим его силы в этот страшный, кровавый день, надеждам, которые одну минуту были, казалось, так близки к осуществлению, Квентин, против воли повинуясь этому призыву, повел Гертруду в дом Павийона. Он явился как раз вовремя, чтобы спасти не только дом, но и самого синдика от неистовства разнузданной солдатни.
Тем временем король и герцог Бургундский въезжали в город верхом через один из проломов в городской стене. Оба были в полном вооружении, но герцог, с ног до головы забрызганный кровью, бешено шпорил коня, тогда как Людовик ехал торжественным шагом, словно предводитель пышной процессии. Они немедленно разослали гонцов с приказанием остановить уже начавшееся разграбление города и собрать рассыпавшиеся по улицам войска, а сами направились к собору, чтобы защитить именитых горожан, искавших там убежища, и отслужить торжественную обедню, после которой решили созвать военный совет.
В это самое время лорд Кроуфорд, который, как и все начальники частей, разъезжал по городу, собирая своих подчиненных, на углу одной из улиц, ведущих к Маасу, столкнулся с Людовиком Лесли, направлявшимся к реке. Меченый шел не спеша, держа за окровавленные волосы отрубленную голову с таким же равнодушием, с каким охотник тащит сумку, набитую дичью.
— Это ты, Людовик? — спросил старый военачальник. — Куда ты тащишь эту падаль?
— Это, собственно говоря, работа племянника, которую я только докончил, — ответил стрелок. — Вот этот самый молодчик, которого я отправил к праотцам, просил меня бросить его голову в Маас… Престранные бывают фантазии у людей, когда курносая схватит их своей костлявой лапой!.. Что делать, всякому свой черед! И нам придется проплясать с ней в паре, когда придет время.
— И ты теперь собираешься бросить его голову в Маас? — спросил старый лорд, присматриваясь более внимательно к этому ужасному трофею.
— А то как же, — ответил Людовик Лесли. — Не годится отказывать умирающему в его последней просьбе, не то, говорят, его дух будет тревожить человека во сне. А я, признаться, люблю крепко спать по ночам.
— Ну, уж на этот раз тебе придется понянчиться с духом, приятель, — сказал лорд Кроуфорд. — Клянусь богом, эта голова стоит гораздо дороже, чем ты воображаешь. Ступай за мной… без возражений… Иди за мной!
— Ну что же, идти так идти, — сказал Меченый. — Ведь, в сущности, я не давал ему обещания, потому что, по правде сказать, он был уже без головы, прежде чем успел договорить свою просьбу… И уж если я не испугался его живого, так, клянусь святым Мартином Турским, не испугаюсь и мертвого! К тому же мой приятель, веселый монах святого Мартина, не откажется одолжить мне пузырек святой воды.
Когда в льежском соборе была отслужена торжественная обедня и в разгромленном городе водворилось сравнительное спокойствие, Людовик и Карл, окруженные своими вельможами, приготовились выслушать донесения о совершенных в этот день подвигах, с тем чтобы назначить каждому награду по заслугам. Первым был вызван тот, кто имел право требовать главный приз, то есть руку графини де Круа вместе с ее короной и графством. Каково же было всеобщее удивление, когда претендентов, к их собственному искреннему огорчению, явилась чуть ли не целая толпа, причем каждый был убежден, что он заслужил желанную награду. Во всем этом крылась какая-то тайна. Кревкер показал кабанью шкуру, совершенно такую, какую обыкновенно носил де ла Марк, Дюнуа — исковерканный щит с гербами Арденнского Вепря, и еще многие другие представили такие же доказательства того, что де ла Марк убит ими, епископ отомщен и они заслужили обещанную награду.
Между пришедшими поднялись шумные споры, и Карл, внутренне каявшийся в своем опрометчивом обещании, бросившем на волю случая судьбу прелестнейшей и богатейшей из его подданных, начинал уже думать, что ему удастся благополучно отделаться от них, признав незаконными все их притязания, как вдруг сквозь толпу проложил себе путь Кроуфорд. Он тянул за собой неуклюжего и смущенного Людовика Лесли, упиравшегося, как дворовый пес, которого тащат на веревке.
— Убирайтесь вы все вон с вашими копытами, шкурами и раскрашенным железом! — крикнул старый лорд. — Только тот, кто своей рукой убил Вепря, может показать его клыки!
С этими словами он бросил на пол окровавленную голову де ла Марка, челюсти которого, как уже было сказано, напоминали челюсти животного, чье имя он носил. Все, кто только когда-нибудь видел Дикого Вепря, сейчас же признали его голову193.
— Кроуфорд, — сказал Людовик, — кажется, награду заслужил один из моих верных шотландцев?
— Точно так, ваше величество, Людовик Лесли, по прозванию Меченый, — ответил старый лорд.
— Но дворянин ли он? — спросил герцог. — Благородного ли происхождения?.. Это первое и самое главное из поставленных мною условий.
— Нельзя не сознаться, что он довольно неотесанный чурбан, — ответил лорд Кроуфорд, поглядывая на неуклюжую фигуру смущенного стрелка, — тем не менее я ручаюсь, что он потомок рода Ротесов, такого же древнего и благородного, как любая из французских или бургундских знатных фамилий. Об основателе этого рода говорится:
- И что там было — степь ли, лес ли, —
- Но с воином покончил рыцарь Лесли.194
— В таком случае дело кончено, — сказал герцог. — Придется самой красивой и богатой бургундской наследнице стать женой простого наемника или окончить жизнь в монастыре… А ведь она единственная дочь нашего верного Рейнольда де Круа!.. Что делать, я слишком поторопился!
Чело герцога покрылось облаком грусти, к великому удивлению его приближенных, не привыкших видеть, чтобы Карл когда-нибудь сожалел о последствиях принятого им решения.
— Подождите минуту, ваша светлость, — сказал лорд Кроуфорд, — и вы убедитесь, что дело не так плохо, как кажется. Выслушайте только этого воина… Ну, что же ты?.. Говори, приятель! Что же ты молчишь, черт бы тебя побрал! — добавил старик, обращаясь к Меченому.
Но храбрый солдат, умевший выражаться довольно связно, беседуя с Людовиком, к которому он привык, был решительно не в состоянии говорить перед таким блестящим собранием. Повернувшись боком к обоим монархам, он издал какой-то хриплый звук, напоминавший ржание, два-три раза ужасно скривил лицо и мог только выговорить: «Сондерс Суплджо…» Остальное застряло у него в горле.
— С разрешения вашего величества и вашей светлости, я берусь объясниться за моего земляка и старого товарища, — сказал Кроуфорд. — Дело в том, что один колдун предсказал ему еще на родине, что благоденствие его семьи устроится при помощи женитьбы. Но так как он вроде меня порядком поистрепался с годами, притом же больше любит кабачок, чем дамскую гостиную, — одним словом, имеет казарменные вкусы и наклонности, он думает, что высокое положение будет для него только лишней обузой, и потому решил поступить согласно моему совету и передать все приобретенные им права тому, кто, в сущности, и есть настоящий победитель Дикого Вепря, а именно — своему племяннику, сыну сестры.
— Я могу поручиться за честность и сметливость этого юноши, — заметил король, очень довольный, что такой богатый приз достается человеку, на которого он рассчитывал иметь влияние. — Если бы не его верность и бдительность, мы могли бы потерпеть поражение. Это он предупредил нас о предполагавшейся вылазке.
— В таком случае, — сказал Карл, — я его должник, потому что усомнился в его правдивости.
— Я, со своей стороны, могу подтвердить его храбрость, — прибавил Дюнуа.
— Но если дядя считается дворянином в своей Шотландии, — вмешался, в свою очередь, де Кревкер, — это еще не означает, что и племянник тоже дворянин.
— Он родом из семьи Дорвардов, — сказал Кроуфорд, — потомок того Аллена Дорварда, который был Великим сенешалем Шотландии.
— Ну, если дело идет о молодом Дорварде, — сказал Кревкер, — тогда я молчу. Фортуна так решительно высказалась в его пользу, что я не осмелюсь больше противоречить этой капризной богине. Но поразительно, как все эти шотландцы, от лорда до последнего конюха, стоят друг за друга!
— Горцы! Плечом к плечу! — проговорил лорд Кроуфорд, смеясь над унижением гордого бургундца.
— Надо, однако, еще узнать, каковы чувства самой прекрасной графини к этому счастливому искателю приключений, — промолвил задумчиво Карл.
— Клянусь мессой! — воскликнул Кревкер. — У меня слишком много оснований подозревать, что на этот раз ваша светлость найдет ее гораздо более покорной воле своего сюзерена! Впрочем, разве мы вправе сердиться на этого юношу за его удачу? Мы не должны забывать, что его ум, верность и мужество завоевали ему богатство, знатность и красоту.
* * *
Я уже отослал было эти листки в печать, закончив свой рассказ, как мне казалось, прекрасной и весьма поучительной моралью в поощрение тем из моих светлокудрых, голубоглазых, длинноногих и храбрых соотечественников, которым вздумалось бы в наши беспокойные времена отправиться на поиски счастья, подобно прежним искателям приключений. Но один старый друг, из тех людей, которые предпочитают кусочек нерастаявшего сахара на дне чашки аромату самого лучшего чая, обратился ко мне с горькими упреками и требует, чтобы я дал точное и подробное описание свадьбы молодого наследника Глен-хулакина с прелестной фламандской графиней, чтобы я рассказал, какие турниры были даны по случаю этого интересного события, сколько на них было сломано копий, и сообщил любопытным читателям точное число здоровеньких мальчуганов, унаследовавших храбрость Квентина Дорварда, и прелестных девочек, в которых возродились все чары Изабеллы де Круа. С первой же почтой я ответил ему, что времена переменились и парадные свадьбы теперь вышли из моды. В былые дни, которые и я еще помню, на свадьбе не только присутствовало пятнадцать дружек счастливой четы, но еще и целый оркестр музыкантов не переставал, как говорится в «Старом моряке», «кивать головами» вплоть до рассвета. Гости осушали в комнате молодых целый бурдюк поссета, ловили чулок новобрачной и боролись из-за ее подвязки в присутствии юной четы, которую Гименей превратил в единую плоть. Авторы той эпохи следовали обычаям с похвальной точностью. Они не упускали случая поведать нам о стыдливом румянце невесты, о восторженных взглядах жениха, не пропускали ни одного брильянта в ее волосах, ни одной пуговицы на его расшитом камзоле, до той самой минуты, когда наконец вместе с Астреей их не укладывали в постель. Но как мало это согласуется со скромной таинственностью, которая побуждает наших современных невест (ах, эти милые застенчивые создания!) уклоняться от парадности и шумихи, восхищения и лести и, подобно честному Шенстону.
Вмиг в гостинице укрыться.
Естественно, что описание всех церемоний при совершении бракосочетания в пятнадцатом веке внушило бы им только отвращение. Изабелла де Круа тогда показалась бы им чем-то вроде простой молочницы, которая исполняет самую черную работу, ибо даже она, будь это и на пороге церкви, отвергла бы руку своего жениха-сапожника, если бы он предложил ей faire des noces195, как говорится в Париже, вместо того чтобы отправиться на империале почтовой кареты провести свой медовый месяц инкогнито в Дептфорде или Гринвиче. Но я не стану распространяться на эту тему и незаметно удалюсь со свадьбы Изабеллы, как Ариосто — со свадьбы Анжелики, предоставив всем, кто пожелает, дополнить мой рассказ дальнейшими подробностями по своему вкусу и усмотрению.
- Другой поэт, быть может, воспоет
- Ширь бракемонтских замковых ворот,
- Когда вступает в них шотландский странник,
- Как бракемонтской госпожи избранник.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
События исторического романа «Квентин Дорвард» отделены от нашего времени пятью столетиями. Автор романа— замечательный английский писатель Вальтер Скотт (1771–1832) — переносит читателя во вторую половину XV века н точно называет дату, к которой он приурочил свое повествование, — это 1468 год.
Точность даты— не случайная деталь в романе Вальтера Скотта. Как и в других романах, в «Квентине Дорварде» много подлинных фактов, исторических лиц, точных и правдивых описаний жизни и быта тех стран, где происходит действие романа.
В «Квентине Дорварде» В. Скотт рассказывает о Шотландии и Франции, о Льеже— старинном городе, который в XIX веке отошел к Бельгии, а в XV столетии жил самостоятельной политической жизнью; и во всех случаях В. Скотт стремится на основании исторических и культурных памятников воссоздать жизнь страны, старается передать местный колорит, национальное своеобразие местных условий, выраженное в обычаях и типах.
В. Скотт любил и прекрасно знал историю своей страны и других стран Западной Европы и умел с огромным, до него еще неведомым искусством оживлять прошлое. Он захватывал читателя не только мастерством описаний и увлекательностью сюжета, но и драматизмом исторических событий, изображенных в его книгах. Развертывая картины далекого прошлого, В. Скотт показывал закономерности исторического развития, неизбежность победы новых, исторически прогрессивных сил над силами старыми, обреченными на гибель.
Роман «Квентин Дорвард» тоже утверждает закономерность и неизбежность победы нового над старым. В нем рассказано о том, как уже в XV веке началась борьба за объединение раздробленной феодальной Франции в единую национальную монархию, подвластную единой центральной королевской власти. Объединение Франции было для того времени делом глубоко прогрессивным: писатель показывает, как закономерно терпят поражение противники единой Франции — представители старой феодальной знати, упрямо отстаивающие свои частные интересы.
Очарование исторических романов Вальтера Скотта во многом зависит от того, что он умел неразрывно связать в них повесть о больших исторических событиях с повестью о судьбе своих героев, участь которых решается в ходе исторической борьбы, от нее зависит. В. Скотт смотрит на исторические события не со стороны, не как холодный наблюдатель, а глазами участников этих событий, заставляет читателя волноваться, радоваться и горевать вместе с ними и вместе с ними верить в благополучный исход того дела, которому они сочувствуют.
Вот и в этом романе история и личные судьбы героев переплетены неразрывно. От исхода политической борьбы между королем Франции и его противником герцогом Карлом Бургундским зависит и участь действующих лиц романа, с которыми читатель быстро свыкается и начинает их любить или ненавидеть.
Эта книга рассказывает о приключениях молодого, храброго и честного шотландца Квентина Дорварда. Ему пришлось покинуть родину, так как вся его семья погибла в кровавой междоусобице, каких было много в истории любой европейской страны того времени. Сам Квентнн случайно спасся от смерти: мать вымолила ему, тяжело раненному, пощаду с условием, что Квентин кончит свою жизнь а монастыре. Враги пощадили жизнь Квентину, но не хотели, чтоби его род продолжался. Однако юноше не по сердцу была участь монаха. Он бежал из Шотландии. У Квентина нет ничего, кроме веры в свои силы и желания честно заслужить кусок хлеба. Но он — дворянин, мирный труд ремесленника или крестьянина для него, по дворянским предрассудкам того времени, невозможен. Как многие другие молодые шотландцы, выгнанные из отчего дома распрями или бедностью, Квентин становится наемным солдатом шотландской гвардии французского короля Людовика XI, в которой служит его дядя— старый рубака, давно покинувший родину.
Шотландские наемники особенно охотно служили при французском дворе. Между Францией и Англией в те годы постоянно вспыхивали военные столкновения, а шотландцы привыкли видеть в английском короле извечного врага своей страны: в то время Шотландия была еще самостоятельным государством, но ее независимости постоянно угрожала Англия, в конце концов заставившая Шотландию объединиться с ней.
Служба молодого Дорварда складывается самым необычайным образом. Случайно обратил он на себя внимание самого короля Франции— Людовика XI. Король использует его для опасных и важных поручений — и юноша из шотландского захолустья оказывается в самом центре острейшей политической борьбы, которую ведут два могущественнейших государя того времени: король Франции и герцог Бургундский, Карл Смелый.
Но, исполняя поручения Людовика, Квентин думает не только о яих. Он влюбился в молодую графиню Изабеллу де Круа, владелицу богатых и обширных угодий; ей принадлежит целое небольшое государство— города, замки, леса, деревни, реки…
Может ли надеяться бедный шотландский стрелок на ответное чувство со стороны знатной и богатой девушки из старинного аристократического рода! А ее руки добивается еще более знатный французский аристократ — герцог Орлеанский, имеющий право со временем претендовать на французский престол.
Однако события складываются таким образом, что Квентину удается покорить сердце молодой графини. Она убеждается в его честности и искренности, в его душевном благородстве и глубокой любви к ней. Она видит, что Квентин любит ее, а не замки и земли, которые ей принадлежат. Да и можно ли сравнить простого и чистосердечного Квентина со знатными придворными рыцарями, которые добиваются руки графини! Они прежде всего участники политической игры, идущей при дворе Людовика XI и при дворе Карла Бургундского, дипломаты, властолюбцы, мечтающие об исполнении своих корыстных политических планов. Вот для этого им и нужны деньги, земли и громкое имя графини де Круа. Она сама для них— орудие в их политических интригах.
Женившись на Изабелле, Квентин с легким сердцем оставляет службу в наемной гвардии Людовика XI. За короткий срок своего знакомства с королем молодой шотландец убедился, что Людовик— коварный и жестокий человек, играющий людскими жизнями, хладнокровно предающий тех, кто ему доверяет, не останавливающийся перед самыми подлыми поступками. Глубокое отвращение внушают Квентину и ближайшие помощники короля — его шпион брадобрей Оливье, палач Тристан.
Вальтер Скотт явно видит в своем Квентине положительного героя. Но советскому молодому читателю Квентин не покажется особенно героическим персонажем. Несмотря на то что поступки Людовика претят Квентину, он доводит до конца дело, порученное ему королем.
Квентин возмущается тиранией Людовика и хозяйничаньем королевского палача Тристан, беспощадно расправляющегося с невинными людьми, но к возмущению льежских горожан, восставших против феодального притеснения, относится с явным осуждением. Наконец, уже удостоверившись в двуличии Людовика, Квентин принимает участие в карательной экспедиции против Льежа и ревностно выполняет свой долг королевского наемника, сражаясь с горожанами Льежа, защищающими свой город.
Таким образом, в душе осуждая преступления Людовика и подлые методы его политики, на деле Квентин сам участвует в осуществлении замыслов короля, не препятствует им. Делает он это не потому, что сочувствует борьбе короля за объединение Фракции- до этого Квентину, наемнику, нет никакого дела: он просто служит, зарабатывает деньги, которые ему платит король, и отличается от других наемников тем, что в душе осуждает поступки Людовика. Вместе с тем, если внимательно прислушаться к тону, в котором говорит автор о Квентине, мы без труда обнаружим одну важную особенность: В. Скотт показывает Квентина мечтателем; в силу своей неопытности юноша многого не замечает и не понимает из того, что творится вокруг, не сразу отдает себе отчет в том, что и он должен, по замыслу Людовика, стать просто пешкой в политической игре.
Квентин старомоден по сравнению с придворными и слугами короля Людовика. Он живет представлениями и чувствами старинных рыцарских романов, а в его время уже вступали в силу новые экономические и политические отношения, которые беспрекословно подчиняли французскую жизнь все возраставшей власти денег.
Молодой шотландский солдат, бедный, но благородный, рыцарски влюбленный в прекрасную молодую графиню, сопровождает ее в опасном странствии по дорогам Франции и, оградив ее от всех опасностей, доставляет к блистательному двору Карла Смелого. Эта история напоминает эпизод из какого-нибудь старинного рыцарского романа, хорошо знакомого самому Квентину— их прилежному читателю, как узнаем мы от Вальтера Скотта. Весь этот эпизод, очень поэтический и трогательный, выглядит как резкий контраст по сравнению с реальной жизнью XV века. В ней царят взаимная ненависть, жажда власти и золота, самые подлые интриги, лицемерие и насилие. Шпионы, королевские палачи, пьяная наемная солдатня, подлая светская чернь, безжалостные и коварные государи— вот те люди, которые полностью воплощают в себе самые характерные черты эпохи, описанной в «Квентине Дорварде». С ними приходится сталкиваться Квентину, они ежедневно угрожают его жизни. Квентин узнает ич хищные повадки, обнаруживает их лицемерие, побеждает их своей храбростью и честностью.
Можно ли считать, что Квентин и его возвышенные чувства— выдумка, что Вальтер Скотт просто сочинил его? Нет, такое заключение было бы неверно. И в Квентине, и в старом бургундском рыцаре Кревкере, и в храбром французском воине Дюнуа еще сохраняются обреченные на гибель взгляды и мнения старого феодального мира, его предрассудки, его мораль, которая в действительности существовала в XV веке, хотя во многом уже изменялась под натиском новых— буржуазных— отношений, прежде всего под натиском растущей власти денег.
Вальтер Скотт считает, что в предрассудках старой рыцарской Европы было много красивого и гуманного. Конечно, писатель заблуждается, любуясь ими: они были порождены дикой и жестокой эпохой феодального произвола. Вместе с тем писатель не скрывал и того, что, уважая друг друга, рыцари были жестоки и надменны по отношению к людям других среловий, видели в себе людей высшей породы. Именно В. Скотт во многих своих романах, в том числе и в романе «Квентин Дорвард», показывает, как далеки были от каких бы то ни было моральных устоев феодалы-разбойники вроде Арденнского Вепря, как груб и беспощаден коронованный феодал Карл Смелый, в какой отвратительной форме проявляется надменность феодала в Людовике XI: в нем черты феодала сочетаются с бешеной жаждой наживы, со скопидомством истинного буржуа. Поэтому можно сказать, что В. Скотт изобразил уходящую феодальную Францию XV века во многом правдиво, с искренним стремлением быть близким к исторической истине.
Французская монархия XV века в изображении Вальтера Скотта— строй жестокий. Он держится на страхе народа перед королем Людовиком, его палачами и солдатами. Столица Франции в XV веке— это фактически еще не Париж, хотя Париж и тогда был крупнейшим городом страны. Столица там, где король и власть. В данном случае это зловещий замок Плесси-ле-Тур, мрачная резиденция Людовика, окруженная ловушками и заставами, охраняемая верными псами короля— шотландской гвардией. Французским воинам король доверяет меньше, чем иностранным наемникам. По этой колоритной детали читатель видит, как боялся Людовик своих подданных, ожидая от них мести за свою жестокость и коварство. Однако короля боятся не только простые люди: он внушает страх и знати, старому феодальному дворянству, которое вынуждено во многом подчиняться королевским законам, требующим полного повиновения и служения королевской власти. Конечно, и сам король феодал; более того: он— самый крупный феодал во всей Франции. Но, стремясь к полному единовластию, к еще большему могуществу, король сурово расправляется с теми феодалами, которые пытаются ему противодействовать. На феодальные владения Людовик смотрит как на свои земли, хочет распоряжаться в них единолично. На смену феодальному произволу приходит единый королевский закон, тоже жестокий и несправедливый, но единый для всей Франции: королевская власть преодолевает феодальную раздробленность Франции, соединяет ее в единое национальное государство.
Черты старой феодальной французской знати, сопротивляющейся политике Людовика, воплощены с наибольшей полнотой и яркостью в герцоге Бургундском — Карле Смелом. Бургундия в то время была самостоятельным богатым государством, довольно большим по территории, так как в нее входили некоторые земли, впоследствии отошедшие к Нидерландам. На территории герцогства Бургундского жило и французское население и фламандцы— народ германского происхождения, близкий к голландцам. Карл Смелый опирался на поддержку немецких и фламандских феодалов, которые боялись усиления Фракции и рады были тому, что герцог Бургундский готов вести борьбу с Людовиком не на жизнь, а на смерть за свои французские владения. Вместе с тем в землях, принадлежавших Карлу Смелому или находившихся в сфере его влияния, было немало богатых городов, которые готовы были поддержать политику Людовика, ослаблявшую деспотизм Карла Смелого.
Французские феодалы, противившиеся замыслам Людовика, видели в Карле Смелом своего союзника. Ко двору Карла Смелого из Франции стекались французские феодалы, уходившие от Людовика с семьями и челядью и готовые начать против него войну. Такая война была выгодна Карлу — она ослабила бы Людовика.
Сталкивая Карла и Людовика, В. Скотт подчеркивает примитивность и устарелость феодальных методов политики Карла, подсмеивается над показной аристократической роскошью его двора, столь резко отличающегося от двора Людовика.
Людовик в своей простой одежде, со своими замашками святоши-буржуа представляет резкий контраст по сравнению с Карлом, который любит подчеркнуть свое богатство и щедрость, свой аристократизм. Но подлинная сила — в руках Людовика, а Карл и его двор— одно из последних проявлений старой феодальной Франции, осужденных на гибель всем ходом истории. Карла Смелого В. Скотт вывел и еще в одном романе, в котором он играет более значительную роль, — «Карл Смелый»(1829); в этом романе писатель подробно остановился на поражении и смерти Карла Смелого, погибшего в сражении со швейцарским ополчением. Швейцарские пастухи и крестьяне оказались силой, о которую разбилась последняя авантюра Карла Смелого.
Встреча Карла и Людовика в Перонне, которая играет такую важную роль в романе «Квентин Дорвард», действительно имела место, и во время этой встречи дипломатические маневры Людовика действительно ослабили Карла Смелого и внесли разброд в ряды его союзников, о чем говорит и В. Скотт, упоминая о беседе Людовика с де Комином— выдающимся французским дипломатом XV века, в то время служившим Карлу Смелому.
В. Скотт был правдив, когда он показал и Людовика и Карла хищниками, схватившимися в смертельной борьбе за власть. Но, но сочувствуя ни Карлу, ни Людовику, В. Скотт с полным основанием дает понять читателю, что Людовик победит Карла в силу исторической необходимости объединения Франции, к которому он стремится: само время работает на французского короля.
В. Скотт показывает и те силы, на которые опирается Людовик, борясь за объединение Франции.
Король Людовик, самый знатный и богатый феодал Франции, охотно переодевается в бедную одежду простого горожанина-буржуа, делает вид, что не гнушается обществом купцов и трактирщиков, советуется о государственных делах со своим брадобреем Оливье и палачом Тристаном. Он запросто знакомится со случайно встретившимся ему Квентином. Для чего нужна была Людовику эта комедия? Зачем он притворялся простым, доступным человеком, которому будто бы чужды предрассудки аристократии? Таковы были определенные политические приемы Людовика, и В. Скотт прав, когда обращает внимание читателя на эти странности в поведении французского короля, так отличающие его от других французских аристократов. Людовик в своей борьбе против непокорных феодалов опирался на силы и средства французской молодой буржуазии. Она охотно поддерживала короля в его борьбе за объединение Франции.
Стремление Людовика к созданию централизованного государства, обладающего военной и полицейской силой, встречало у буржуазии полную поддержку: ведь французские купцы и хозяева ремесленных предприятий, составлявшие верхушку тогдашней буржуазии, сильно страдали от феодального своеволия, от беззакония, царившего во Франции, мешавшего торговле, угрожавшего имуществу и жизни горожан.
Города с их богатой буржуазией, со свободолюбивым городским трудящимся людом были для Людовика важной силой. Он угрожал этой силой феодалам, имел возможность пустить в ход денежные и людские ресурсы городов против феодалов. Однако В. Скотт ни на минуту не верит в то, что король Людовик на самом деле сердечно и искренне относится к городскому люду: писатель показывает, что Людовик охотно соединяется со своим врагом Карлом Бургундским, для того чтобы наказать взбунтовавшихся горожан Льежа, поднявшихся против феодального притеснения. По существу Людовик боится и ненавидит их.
Изображая восстание в Льеже, В. Скотт затрагивает весьма важную тему, мимо которой он не мог пройти как писатель, стремившийся дать правдивое изображение западноевропейского общества XV века. Городские восстания— постоянное явление в истории средневековой Европы. Особенно участились они в XIV–XV веках, когда феодальный строй уже начал слабеть и разваливаться, когда торговля, буржуазные отношения стали играть все более значительную роль в истории всей Европы. Города чувствовали свою силу и хотели освободиться от феодального гнета. Городские восстания позднего средневековья — это предвестники тех буржуазных революций, которые в следующие века смели феодальный строй окончательно.
Ударной силой этих восстаний бывала обычно городская беднота — трудовой люд средневекового города, доведенный до отчаяния и феодальным угнетением и тяжелыми условиями своего существования. Перед натиском восставшего городского люда феодалы не могли устоять в одиночку, даже если они вооружали свою челядь. Восставшие города нередко объединяли свои силы с восставшими крестьянами, которые поднимали знамя крестьянской войны в средневековой Европе. Перед феодалами вставал грозный призрак народной войны.
Льеж относится к числу городов, не раз восстававших против феодального произвола. Свободолюбивые горожане Льежа вели упорную борьбу против церковных феодалов— льежских епископов.
Рассказывая о льежском восстании, В. Скотт не может умолчать о том, что оно направлено против феодального гнета и продиктовано нежеланием горожан превратиться в подданных Карла Смелого. Они знают, что это повлечет за собой для них множество бедствий: Карл видел в Льеже опасное гнездо мятежников. Поэтому горожане Льежа готовы на союз с Людовиком, который, как уже было сказано выше, вел осмотрительную и топкую политику относительно городов и охотно защищал их интересы.
Однако именно в изображении льежского восстания В. Скотт значительно удалился от исторической правды. Он показал восставших как толпу разъяренного сброда, а льежского епископа — как невинную жертву. Чтобы приписать восстанию характер бессмысленного кровавого возмущения, В. Скотт навязал чуть ли не руководящую роль в восстании рыцарю-разбойнику — Арденнскому Вепрю.
В. Скотт не смог раскрыть подлинные причины восстания, не увидел героизма восставших горожан. Это объясняется тем, что В. Скотт враждебно относился к революционным методам борьбы против феодализма. Ведь самой решительной мерой ликвидации старых феодальных беспорядков во Франции и в любой другой стране была, конечно, не политика Людовика XI, а именно революция, в ходе которой феодальный строй был бы сметен окончательно и сложились бы условия для быстрого революционного объединения Франции. Так, например, объединились в ходе революции Нидерланды; это было через сто лет после событий, описанных в «Квентине Дорварде».
Восставший народ, который с оружием в руках защищает свою свободу, показан неверно, неполно, односторонне. Это самая слабая сторона романа.
Вместе с тем неправильно было бы пройти мимо целого ряда сцен, в которых писатель говорит о бесчеловечии феодального режима во Франции, о бедственном положении народных масс. В. Скотт свидетельствует о том, как запуган французский народ, как он полон страха перед королевскими палачами, как он забит и унижен. Рядом с французским крестьянином лыежские горожане выглядят как свободные и решительные люди, умеющие постоять за свои интересы.
Особенно сильно жестокость и бесчеловечие французского средневекового строя изображены в историк цыгана Хайраддина. Рассказывая о его трагической судьбе, В. Скотт протестует против национального угнетения, против расовых предрассудков. Хайраддин стал человеком без роду и племени, потому что его таким воспитало средневековое общество, безжалостно травившее и преследовавшее цыган. Но в душе Хайраддина живет неистребимая любовь к свободе; умирая, он проклинает несправедливый строй, губящий его, — продажный, бесчеловечный, подлый, лицемерный.
Сравнивая описание правящих классов и народа в романе «Квентин Дорвард», нетрудно прийти к выводу о том, что В. Скотт оказался сильнее в разоблачении французских феодалов, чем в изображении народа. Это накладывает на весь роман отпечаток известной ограниченности, неполноты в изображении эпохи.
Слабые стороны романа — одностороннее изображение народного восстания, противоречия в образе Квентина— объясняются противоречивостью взглядов самого писателя.
В. Скотт родился в семье обедневшего шотландского дворянина. Вынужденный служить в качестве юриста, будущий писатель еще в молодости объездил родную страну, внимательно изучая ее историю и ее современное состояние. В. Скотт видел, как развиваются в Шотландии новые, буржуазные отношения, пришедшие на смену патриархальной старине. Земельные участки шотландских крестьян продавались за бесценок дельцам, занимавшимся разведением овец, старые горные племена Шотландии— кланы— сгонялись с их вековых угодий и насильно переселялись туда, где их было удобнее эксплуатировать английским и шотландским капиталистам.
Картина массового разорения, сопутствовавшего утверждению капитализма в Шотландии, потрясла писателя. Он запечатлел в своих романах тяжелое положение шотландского народа, его попытки отстоять жизнь и свободу от натиска правящих классов.
Вместе с тем В. Скотт понял закономерность гибели старых, патриархальных отношений в Шотландии, историческую обусловленность развития капитализма. Писатель понял, что человечество движется вперед, что история человеческого общества заключается в закономерной смене периодов, резко отличающихся друг от друга и в экономике и в политическом строе.
В. Скотт не мог не видеть, что самые важные перемены в экономических и политических условиях жизни народов Европы почти всегда совершались в форме революций. Живя на рубеже XVIII–XIX веков, В. Скотт был современником французской буржуазной революции, современником революционных движений в Италии, Испании. В самой Англии, которая пережила буржуазную революцию еще в XVII веке, в начале XIX столетия заметно усилилась борьба народных масс против помещиков и капиталистов.
Однако хотя В. Скотт признавал закономерность победы новых общественных отношений над старыми, отжившими, он был противником революций. Скотт ошибочно считал, что путь медленных и мирных изменений хозяйственной и политической жизни страны— путь более правильный. В этом он резко расходился со своим великим современником — революционным английским поэтом Джорджем-Гордоном Байроном, который призывал английский трудовой люд к восстанию против правящих классов Англии во имя защиты кровных интересов народа.
В творчестве В. Скотта отразились и его глубокая любовь к шотландскому народу и характерные для писателя политические предрассудки.
Долгое время В. Скотт был известен как собиратель произведений народной шотландской поэзии и автор поэм из истории Шотландии и Англии. В. Скотт бережно записывал слова и музыку старинных шотландских песен. Изданные им «Песни шотландской границы» познакомили Европу с сокровищами народной поэзии Шотландии.
В своих поэмах В. Скотт создал замечательные описания шотландской природы, оживил события шотландской истории. Суровые горы Шотландии, краски ее неба и скал, отраженные горными озерами, запечатлены в стихах В. Скотта так же выразительно, как и старинные шотландские замки, где разыгрываются события, о которых он. повествует. Охотно обращался В. Скотт к народной поэзии, из которой он черпал образы, особенности стиха и рифмы, выразительные народные обороты. Однако в балладах и поэмах Скотта, отражающих прошлое его родины, не нашли себе места описания борьбы шотландского народа против шотландских феодалов и королей. Охотно повествуя о героизме шотландских воинов, отстаивающих родину от иноземных нашествий, В. Скотт становится скуп на слова, когда дело доходит до революционной борьбы шотландского народа, как это было, например, в его поэме «Рокби», посвященной революционным событиям XVII века.
В 1814 году вышел первый роман В. Скотта— «Веверлей», действие которого происходит в Шотландии в середине XVIII века. Необычайный успех «Веверлея» у широкой читательской публики привлек к В. Скотту внимание не только английского общества — он стал писателем, известным всей Европе. Уже в 20-х годах XIX века его романы появляются и в России, где их высоко оценили сначала декабристы и Пушкин, а затем — Белинский.
После 1814 года В. Скотт иногда возвращался к поэзии, но в основном его литературная деятельность в этот период сосредоточена на романах. Один за другим выходят его так называемые «шотландские» романы — «Пуритане»(1816), «Роб Рой»(1818), «Эдинбургская темница»(1818), «Легенда о Монтрозе»(1819). В 1820 году В. Скотт печатает «Айвенго» — первый большой исторический роман, который выходит за пределы шотландской тематики и углубляется в более далекое прошлое, — до сих пор В. Скотт писал о событиях XVII и XVIII веков.
Обращение В. Скотта к жанру исторического романа не могло быть случайным. К тому времени, когда он почувствовал необходимость перейти от поэм и баллад к более гибкой и более широкой форме— роману, он созрел как художник. Необычайно обогатился его опыт, расширился его кругозор — как раз к 1814 году закончилась эпоха бурных политических событий и войн, начавшаяся французской буржуазной революцией 1789 года.
Сколько исторических трагедий разыгралось в эти годы в Европе, сколько сражений прогремело на ее полях, как сильно она изменилась! Хотя к 1814 году реакционные правительства подавили национально-освободительное движение в странах Европы, ясно было, что к старому, феодальному строю, потрясенному до основания в эти грозные годы, возврата уже не будет. Ясно было и другое: народы Европы, побежденные реакционными правительствами, не станут долго терпеть те тяжелые условия, в которые они поставлены временной победой сторонников феодального строя.
Исторические события, современником которых был В. Скотт, потрясли его до глубины души, обострили в нем чувство историзма. В экономических отношениях, в социальном строе, в быте, в культуре, в привычках, в особенностях языка он начал подмечать нечто характерное именно для данной эпохи, с нею неповторимо связанное, ею порожденное. Обдумывая современные события, В. Скотт стал думать также и о тех причинах, которые к ним привели. Так постепенно сложился в нем историк-романист, сменивший поэта. Однако во всех своих романах В. Скотт остался прозаиком глубоко поэтичным: длительная поэтическая школа не прошла для него даром. В «Квентине Дорварде» читатель легко ощутит дуновение поэзии В. Скотта в прекрасных описаниях природы, в замечательных картинах старинных французских замков, в живых массовых сценах. В. Скотт-поэт выработал в себе умение точно и конкретно описывать предметы, о которых он говорит. Поэтический опыт В. Скотта сказался и в эпиграфах к главам его романа: великий знаток старой английской поэзии, писатель любил, чтобы се голоса звучали в его романах.
Противоречия, которые имели место в поэмах В. Скотта, не менее ясно наметились в его романах. При их большой художественной и познавательной ценности они нередко страдают ограниченностью, которая проистекает из политических взглядов писателя: В. Скотт в 10-х годах XIX века все ближе сходился с так называемыми «тори» — с партией крупных землевладельцев, противников прогресса, которые оказывали некоторое воздействие на мировоззрение писателя.
Первая группа романов В. Скотта — шотландские романы, о которых уже упоминалось, — ценна правдивым изображением жизни шотландского народа, широкой картиной общественных отношений. Но и в «Роб Рое», одном из лучших своих произведений, В. Скотт, показав мужественную борьбу шотландца Роб Роя против притеснителей— английских и шотландских помещиков, — подчеркнул безрезультатность, безнадежность этой борьбы. Где же Роб Рою справиться с английским правительством, посылающим против него войска, с целой сворой шотландских помещиков, преследующих его по пятам!
Близки к лучшим страницам «Роб Роя» некоторые эпизоды романа В. Скотта «Айвенго»— именно те, в которых писатель рассказывает, как английские крестьяне под начальством смелого стрелка Робина Гуда штурмуют и сжигают разбойничье гнездо феодала-насильника Фрон де Бефа.
Но и в этом романе В. Скотт видит в Робине Гуде прежде всего верного слугу короля Ричарда Львиное Сердце: Фрон де Беф — враг короля, и расправа с Фрон де Бефом выглядит как помощь верноподданногс народа королю, наказывающему мятежника. Недаром сам Ричард участвует в осаде и штурме замка.
Глубоко противоречиво изображение английской буржуазной революции в романах Скотта «Легенда о Монтрозе», «Пуритане» и особенно «Вудсток».
В начале 20-х годов XIX века общественная борьба в Англии заметно обострилась. Сложился сильный и многочисленный лагерь сторонников ргформы избирательного права в Англии. Осуществление этой реформы должно было ослабить власть английских крупных землевладельцев, которые к этому времени захватили важнейшие политические посты в английском государстве.
В. Скотт боялся, что дальнейшее усиление борьбы за реформы приведет Англию к революции. Если он и в прежних своих романах высказывался как противник революции, то начиная с 20-х годов страх перед революцией, враждебное отношение к проявлению революционности народных масс встречаются в его романах еще чаще, чем раньше. К этому времени относится и «Квентин Дорвард» (1823). В этом романе уже отразились недостатки, присущие всему позднему периоду творчества Скотта и затем все усиливающиеся. «Квентин Дорвард»— последнее по-настоящему талантливое и значительное произведение В. Скотта. Перестав обращаться к большим историческим темам, в которых задевались вопросы народной жизни» В. Скотт закрыл для себя возможность дальнейшего развития.
Поздние романы Скотта, выходившие в 20-х годах, уже не представляют такого интереса, как его произведения более ранних лет.
Но в романе «Квентин Дорвард» мастерство писателя еще играет всеми своими живыми красками. Следуя за героями романа, читатель переходит из веселой деревенской харчевни в мрачную резиденцию Людовика, более похожую на притри рыцаря-разбойника, едет с Квентином по пыльным дорогам Франции, видит блестящий двор Карла Бургундского и переживает ночь гибели славного города Льежа, дважды разгромленного: сначала бандитами Арденнского Вепря, а затем соединенными войсками двух более крупных хищников— Людовика и Карла.
Сцены, в которых ярко проявляются коварство и лицемерие феодального мира, чередуются с трогательными эпизодами, рассказывающими о растущей любви Квентина и Изабеллы; картины мирного и простого быта средневекового города служат резким контрастом для угрюмой пышности бургундского двора. Читатель чувствует почти физическое облегчение, когда из отравленной атмосферы Плесси-ле-Тур он вырывается вместе с Квентином на вольный воздух полей и лесов Франции.
Несомненно и познавательное значение романа. В нем с большой исторической точностью, в живых и чаще всего правдоподобных характеристиках воспроизведена эпоха становления национального французского государства, начало ломки старого феодального строя. Скотт смог уловить главное в этом историческом процессе — историческую неизбежность разрушения и гибели феодализма.
Правдив роман В. Скотта и в тех своих сценах, которые показывают, что формирование национального французского государства, объединение феодальных земель Франции в единое целое осуществлялось жестокими методами, ложилось всей тяжестью на плечи французского народа. Централизованная французская монархия, как она показана в романе В. Скотта, защищала интересы правящих классов, а не народных масс. Ознакомившись с романом В. Скотта, юный советский читатель с особой четкостью поймет, сколько ненависти должно было накопиться во французском народе против такого государственного строя, который в течение долгих веков угнетал и эксплуатировал французский народ.
Только в 1789 году французский народ сбросил иго феодальной монархии, основанной Людовиком XI и его преемниками. Ыо, вырвавшись из-под ига помещиков, французский народ попал в кабалу к капиталистам. Самыми беспощадными и кровавыми средствами подавляли они все попытки французских трудящихся добиться лучшей участи. Достаточно напомнить о массовом истреблении восставших рабочих в июне 1848 года, о десятках тысяч коммунаров, расстрелянных весной и летом 1871 года, о сотнях тысяч патриотов, которых французские капиталисты выдали гитлеровцам в 1940–1944 годах. Так как у французской буржуазии в наши дни уже не хватает сил на то, чтобы справиться с освободительным движением французского народа, она обращается за помощью к американским империалистам, торгует свободой и честью Франции.
Чтение романов В. Скотта всегда заставляет думать не только о событиях, которые в них изображены, но и об исторических последствиях этих событии.
В. Скотт умело объединяет в своих повествованиях прошлое с настоящим и будущим, которое встает в его романах как перспектива. Так, например, при чтении «Квентина Дорварда» читатель обязательно вспомнит о предыдущих событиях истории Франции (сам В. Скотт заводит о них речь в своих примечаниях) и о последующих этапах французской истории, непосредственно связанных с эпохой Людовика XI. И о них автор говорит несколько раз.
В. Скотт умел показать историю в движении, в развитии. Это качество его романов особенно ценил Белинский, считавший В. Скотта создателем исторического романа в западноевропейской литературе.
Р.Самарин