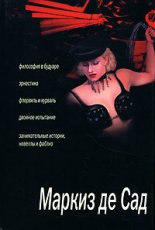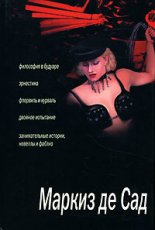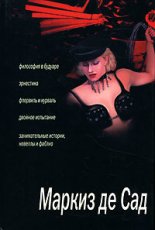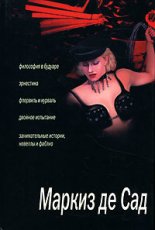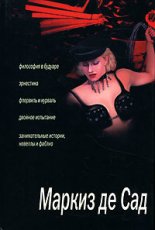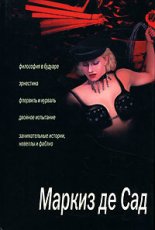Фантастический детектив 2014 (сборник) Золотько Александр
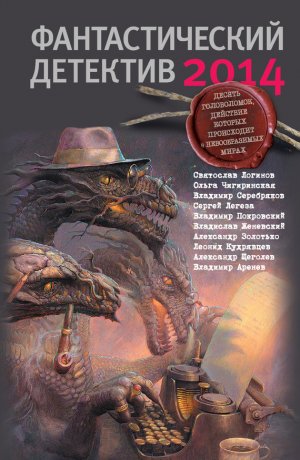
© Авторы, текст, 2014
© Владимир Аренев, Николай Кудрявцев, составление, 2014
© ООО «Издательство АСТ», 2014
От составителей
Мы – счастливые читатели, нам повезло. Наше детство немыслимо без томов Агаты Кристи и Рэя Брэдбери, сэра Артура Конан Дойла и братьев Стругацких. Мы были инфицированы двумя вирусами: страстью к фантастике и любовью к детективу. И это было здорово!
Сейчас на книжных полках можно найти сборники и антологии на любой вкус. Зомби, вампиры, драконы, оборотни… но все-таки нам – вот лично нам! – часто не хватает в таких книгах некой осмысленности и цельности. И да, конечно, ряда тем, которые нынешние составители почему-то обходят.
Ну что ж, есть простое правило: если тебе не хватает какой-то книги, напиши ее. Мы же решили пойти по более легкому пути и подбили на это дело других.
Этим сборником мы попытались показать читателю, каким он может быть – фантастический детектив. Под одной обложкой удалось собрать авторов разных поколений. Одни отдают предпочтение твердой НФ, другие – историческому фэнтези, третьи любят экспериментировать с жанрами… Но есть нечто, объединяющее всех этих писателей: в первую очередь – следование классической детективной формуле. В каждом произведении совершено преступление, которое следует раскрыть, а для этого необходимо ответить на три простых вопроса: «Кто? Как? Зачем?» И фантастическое в каждом из рассказов играет ключевую роль, а не выступает просто фоном.
Десять историй, десять головоломок, которые тебе, читатель, предстоит разгадать. Десять миров, совершенно не похожих друг на друга.
Вперед, читатель! Игра начинается!..
Святослав Логинов родился в 1951 году в г. Ворошилове (Усурийск Приморский), но с раннего детства и по сей день живет в Ленинграде/Петербурге. Окончил химический факультет ЛГУ, сменил много работ и специальностей. Первая публикация состоялась в 1975 году (рассказ «По грибы» в журнале «Уральский следопыт»), но первая книга – сборник «Быль о сказочном звере» – вышла только пятнадцать лет спустя. Одна из главных черт Логинова-писателя – нежелание повторяться, поэтому он экспериментировал с фэнтези (повесть «Страж Перевала», романы «Многорукий бог далайна», «Земные пути»), исторической прозой, выстроенной на единственном фантастическом допущении («Колодезь»), космооперой («Картежник», «Имперские ведьмы»). Роман «Свет в окошке» посвящен загробной жизни, а «Дорогой широкой» – история путешествия из Петербурга в Москву на асфальтовом катке. Особняком стоит дилогия «фэнтези каменного века» «Черная кровь» (в соавторстве с Ником Перумовым) и «Черный смерч». Святослав Логинов – лауреат премий «Великое Кольцо», «Интерпресскон» (трижды), «Странник», «Русская фантастика» и других престижных наград.
Писателю принадлежат десятки повестей, рассказов и эссе, столь же разнообразных, как и его романы. Но, как ни странно, детективов он никогда раньше не писал. «Я никогда ими не увлекался, хотя и прочел за свою жизнь пяток детективных повестей, – признается Логинов. – И уж тем более, не собирался детективы писать. О стимпанке впервые услышал от составителя сборника, который кратенько объяснил, что означает этот термин. Тем интереснее было придумывать законы неведомого жанра. А что получилось в результате, судить не мне, а читателю».
Святослав Логинов
Кто убил Джоану Бекер?
– Поезд отправляется! – Рука в белой перчатке ухватила витой шнур, готовясь ударить в колокол, но негромкий голос предупредил удар:
– Сэр, всего одну минуту! Не знаю, что случилось, но мой хозяин задерживается, а он никак не должен опоздать.
– Это поезд, а не дилижанс! – Начальник станции был непреклонен. – Мы не можем задерживать отправление ни на полминуты.
Тем не менее удар колокола не прозвучал. Начальник станции скосил глаза на привязчивого пассажира. Тот стоял, угодливо изогнув стан, держа в руках шляпную коробку. И все же вид просителя железнодорожному повелителю не понравился. Конечно, в последнее время джентльмены, отслужившие в заморских колониях, частенько привозили туземных слуг, но чтобы чернокожий так просто разгуливал по улицам и давал указания начальнику железнодорожного узла во время исполнения им своих обязанностей?! – это уже слишком!
Рука в белой перчатке рванула витой шнур, но почему-то удара не получилось.
– Пара секунд! – вскричал черномазый, прижимая к груди шляпную коробку. – Я понимаю, джентльмен не должен опаздывать, но в этом проклятом телепорте что-то заело, он выпустил на платформу только меня, а хозяин с носильщиком где-то застряли.
– Проклятье! – вскричал начальник станции, тщетно пытаясь совладать с непослушной рукой. – Если пассажир не хочет опоздать, он должен пользоваться не телепортом, а более современным видом транспорта! Могли бы взять кэб.
– Кэб? Из Америки?.. Помилуйте!
Так он еще и американец!
Начальник станции ухватил правой рукой непокорную левую и, что есть силы, затряс. Колокол, наконец, отозвался, но не гулким, исполненным достоинства звуком, возвещающим торжество расписания, а частыми тревожными ударами, словно в станционное здание проникли бомбисты, или там начался пожар. Паровозный машинист, услыхав тревогу, немедля дал свисток и дернул состав, намереваясь увести поезд от неведомой опасности. Тяжелые, блестящие машинным маслом шатуны дрогнули, проворачивая огромные колеса, но на этот раз немочная болезнь коснулась уже не начальственной длани, но могучей машины, лишь недавно выпущенной на линию. Колесо провернулось с визгом, словно самая рельса тоже была щедро полита маслом.
Машинист высунулся из кабины, глядя на буксующие колеса, станционный рабочий – стрелочник или сцепщик – с ведром кинулся к пожарному ящику с песком, и в этот момент с громким чмоканьем сработал допотопный телепорт, и на платформе объявился опоздавший пассажир со всем своим багажом.
Чернокожий мог бы не сообщать, что его патрон прибыл из Америки, это и так бросалось в глаза. На любой карикатуре янки изображаются именно такими. Тощий и длинноногий, в нелепом цилиндре, который тщился быть модней модных, но вызывал лишь усмешки, в кургузом сюртучке и полосатых штанах. И, конечно же, физиономию пассажира украшала козлиная бородка, без которой не бывает дяди Сэма. В руке заокеанский дядюшка сжимал тяжелую трость с набалдашником, которой энергично и опасно размахивал.
Зато к какому племени принадлежит второй слуга заморского дядюшки, не сказал бы и опытный антрополог. Роста он был такого, что приличен только пигмеям и карликам, зато в плечах раздался на удивление, представляя собой подобие квадрата. Рыжая шевелюра и обширнейшая борода того же ирландского цвета указывали на принадлежность носильщика к белой расе, хотя черты лица и самый его цвет были надежно скрыты все той же бородой. Если в руках у хозяина не было ничего, кроме трости, то рыжебородый оказался нагружен сверх всякого разумения. Ни один из носильщиков, промышлявших на платформах, не мог бы ответить, как двумя руками ухватить враз четыре саквояжа. А у коренастого на плече громоздился еще и сундук. Такие сундуки были на памяти у наших прабабушек, но и тогда никто их в путешествие уже не брал, стояли они в домах, как артефакты былых времен. Судя по всему, это чудо столярной мысли покинуло Британию на судне «Мэйфлауэр» и теперь вернулось к родным пенатам, воспользовавшись дряхлым телепортом.
– Посадка закончена! – закричал кондуктор, увидав колоритную троицу, но его, не заметив, отодвинули в сторону, и сундук первым загрузился в вагон. Затем последовали саквояжи и их коренастый носильщик. Последним в вагон запрыгнул чернокожий шляповладелец. На прощание он кокетливо помахал ручкой начальнику станции, и в ту же секунду, не дожидаясь, пока под буксующие колеса будет досыпан песок, поезд тронулся.
– Черт подери! – Начальник станции был в бешенстве. – В конце концов, мы живем в цивилизованном обществе! Давно пора запретить черномазым появляться в общественных местах! – Помолчал и добавил: – И суфражисткам тоже. – Еще помолчал, пережидая поднятие желчи, и произнес уже с некоторой долей иронии: – Надеюсь, в Эдинбурге есть зоопарк, и все трое благополучно туда попадут.
До Эдинбурга странные путешественники не доехали, высадившись на полдороге в небольшом городке Дарлингтоне, куда поезд домчал на всех парах. Домой всегда едется быстро, а именно в Дарлингтоне отчий дом английских паровозов, поскольку там самый большой в Старом Свете паровозостроительный завод.
Высадились путешественники безо всяких приключений, строго по расписанию, и руку ни у кого не свело, и колокол прозвучал минута в минуту.
Приехавших встречали. Возле станционного здания ожидала коляска, вислоусый конюх дремал на козлах, лошадка меланхолично похрустывала насыпанным в торбу антрацитом.
Американец с полувзгляда выделил нужный экипаж среди десятка других ожидающих на площади. Он вскочил на подножку и, приложив два пальца к полям цилиндра, отрекомендовался:
– Мое имя Сэмюэль Трауб.
– Джон Хок, к вашим услугам.
С козел Джон Хок не встал и, вопреки обещанию, никаких услуг не предоставил. Впрочем, чернокожий с рыжебородым справились и без него.
Великая вещь – традиции, и в этом плане английские обыватели впереди планеты всей. Казалось бы, новейший экипаж на рессорном ходу и с каучуковыми шинами, способный плавно прокатить по самой тряской дороге, не чета древним колымагам, но багажный ящик под задком новой машины в точности повторяет такие же ящики старых карет, у которых даже колеса не могли поворачивать, будучи насаженными на единую ось. В давние времена путешествующие господа возили багаж в сундуках, и, хотя эпоха сундуков давно минула, современный экипаж готов вместить в свое нутро такой же сундук, с каким ездили знатные предки.
Сундук встал на предназначенное тысячелетней традицией место, саквояжи были рассованы куда попало. Американец уселся в экипаж, черномазый слуга, к ужасу и удивлению зевак, без тени смущения развалился рядом с господином, рыжебородый устроился на задке, свесив вниз кривые ноги.
Возница взмахнул кнутом и дернул вожжи, регулирующие положение заслонки в конской топке. Дым, прежде едва курившийся, повалил клубами из лошадиных ушей, в ноздрях заклубился пар, звонкое «И-го-го-о!» пробудило окрестности, мальчишки на площади засвистели и замахали руками, экипаж тронулся.
Лошадка весело бежала по гаревой дорожке. Пламя ровно гудело в утробе, вода кипела в котле, пар работал на все сорок два процента, обещанных циклом Карно, из-под лошадиного хвоста тонкой струйкой сыпалась зола. По сторонам проплывали классические пейзажи средней Англии: слева гряда меловых холмов, справа – зеленеющие пустоши, те самые, некогда огороженные, на которых овцы съели людей. Теперь история повторялась: новозеландские овцы съели английских, и пустоши действительно стали пустошами.
– Где торфяные болота? – шепотом спросил чернокожий.
– Их здесь нет, – также шепотом ответил Сэмюэль Трауб. – Они на юге, в Девоншире, а мы направляемся на север.
– Жаль.
– Почему?
– Убийца – наш кучер. Тело он вывез на своем экипаже и утопил в болоте. Но раз тут нет болот, то я даже не знаю, где искать тело.
– Найдем… – меланхолически промурлыкал Трауб и уже громко, обращаясь к вознице, спросил: – Хвост зачем?
– Какой хвост?
– У лошади. Мухи ее не кусают, обмахиваться не нужно, так зачем хвост?
– Какая же лошадь без хвоста? – удивился Джон Хок. – Хвост нужен, иначе это не лошадь будет, а недоразумение.
– Фильтр это, – откликнулся с задника рыжебородый. – Если бы не хвост, нас бы уже с ног до головы гарью присыпало.
– Говорят, – подал голос чернокожий, – вам велено под хвостом у кобылы мешок подвязывать, чтобы ничего на дорогу не валилось. Одна торба для зерна, вторая для говна.
– Это в Лондоне, там экипажей много. Если за ними не убирать, так уже до второго этажа все гарью засыпало бы. А тут, когда дорогу ровняют, так специально гарь привозят и подсыпают.
– Мудрено… – вздохнул рыжий.
– Наука, – согласился возница.
За очередным поворотом путешественники увидели парк, огороженный ажурной кованой решеткой, а за деревьями – крышу старинного дома. Экипаж с шиком подкатил к воротам, Джон Хок ударил в чугунную доску. По ту сторону сдвинутых створок появился еще один англичанин – пешая копия Джона Хока, ворота распахнулись, каучуковые шины прошуршали по садовым тропинкам, экипаж остановился у самых ступеней, ведущих в дом. Только теперь Джон Хок оторвал задницу от козел и с некоторой торжественностью произнес:
– Добро пожаловать в Баскет-Холл.
– Основатель рода, Джеймс Баскет, получил титул за то, что предложил шары для крокета, которые прежде носили в руках, складывать в корзину. С тех пор прошло шестьсот лет, но человечество не изобрело ничего более практичного, нежели корзина сэра Джеймса.
Миссис Баскет еще долго могла бы повествовать о славном прошлом рода, но Сэмюэль Трауб с американской бесцеремонностью прервал излияния вдовы.
– Давайте перейдем к делу. В разделе бесплатных объявлений я нашел информацию, что вы хотели бы превратить Баскет-Холл в туристический центр.
– Это было так давно. Я уже бросила надеяться.
– С бесплатными объявлениями так и бывает. Пока они попадутся на глаза нужному человеку, порой проходит немало времени. Но рано или поздно нужный человек находит нужное объявление. Мы, наша газета, могли бы пойти вам навстречу, организовав рекламную кампанию. С этой целью я сюда и приехал. Я и мои сотрудники соберем всю информацию, и в нашей газете появится серия статей о замке и его окрестностях, после чего следует ожидать наплыва посетителей. Уже десять тысяч туристов в год изменят облик поселка и обеспечат ваше благосостояние.
– О, конечно! – восхищенно прошептала миссис Баскет.
– Но теперь подумаем, что может привлечь такое количество людей? В качестве курорта Баскетвиль не выдержит конкуренции с такими всемирно прославленными центрами, как Ялта или Сухуми. Ваши скалы не живописны, море холодно и неприветливо, пустоши скучны.
– На пустошах водятся лисы, – вставила миссис Баскет.
– Да, конечно, охота на лис, мы не обойдем ее стороной. Исконное развлечение английских лордов… Но это – один месяц в году, да и не всем такое времяпрепровождение по нраву. Это, как говорят рестораторы, дополнительный гарнир. Основное блюдо должно привлекать всех. Это ваш козырь, залог нашего взаимного успеха. Прошу прощения, я только что закончил работать над циклом очерков о мексиканских ресторанах и еще не избавился от терминологии. Кстати, число посетителей в мексиканских ресторанах после публикации моих статей возросло в пять раз. Но именно к основному блюду вы относитесь с полным пренебрежением! Вы совершенно не преподносите посетителям замок и его особенности.
– Разумеется, можно будет проводить экскурсии…
– Оставьте, кого сейчас это интересует? Вся Франция заставлена старинными замками, не говоря уже о Германии. Ваш замок по сравнению с ними кажется обычной усадьбой средней руки, в какой обитать не лордам, а джентри. Но у вас есть то, чего нет ни в одном замке на континенте. Привидение! Настоящее стопроцентное привидение! Кстати, почему я не вижу его здесь?
– Но это же призрак! – воскликнула миссис Баскет. – Призрак не появляется днем, разве что в редчайших случаях.
– Хорошо, пусть ночью. Но в котором часу, где? Мы не можем обмануть клиентов, обещав им настоящее привидение и не показав. В наш век угля и пара все должно быть регламентировано. Как зовут вашего призрака?
– Дама Роз.
– Роз – это имя или кличка?
– У благородных дам не бывает кличек! Дамой Роз ее прозвали потому, что в руках она всегда держит букет роз.
– Какие розы? Красные, белые, чайные…
– Это призрачные розы, их цвет определить невозможно.
– Шикарно! Так и запишем: букет бледных роз. Читателю должно понравиться. Видите ли, современная реклама не должна быть навязчивой, наша целевая аудитория такова, что, если она заподозрит, что ее собираются окучивать, результат будет самый огорчительный.
На миссис Баскет было жалко смотреть.
– Я, наверное, чего-то недопоняла. Вы собираетесь заниматься огородничеством?
– Ни в коем случае! Здесь это было бы нерентабельно. Я собираюсь написать цикл статей для «Манчестер экспресс». Никакой рекламы, но, если людей заинтересовать, от приезжих отбоя не будет. В дело пойдет все: древние предания, пейзажи, местная кухня, новейшая хроника. Наверняка у вас существует легенда, посвященная Даме Роз. Не могли бы вы хотя бы вкратце ознакомить меня с ней?..
– Я не мастерица рассказывать сказки. Может быть, вам было бы лучше прочесть все самому. В доме нет специального библиотекаря, но дворецкий, Джон Бакт, несомненно, отыщет любую книгу или рукопись, которую вы попросите. Джон живет в Баскет-Холле, можно сказать, всю жизнь. Его мать служила здесь горничной, так что он и родился в этих стенах.
– Пожалуй, я так и поступлю. А раз уж речь зашла о горничных, то, может быть, вы расскажете, что за странное происшествие случилось с вашей прислугой?
Миссис Баскет досадливо поморщилась.
– Мне кажется, эта история недостойна обсуждения. Поначалу Джоана показалась мне приличной девушкой, и я взяла ее на работу. Но то, как она покинула Баскет-Холл… порядочные девушки так не поступают.
– Вся округа только и говорит о таинственном исчезновении Джоаны Бекер. Я не был бы репортером, если бы прошел мимо этих слухов, но хотелось бы услышать подробности из первых уст. Представляете, как можно подать этот материал? История романтической любви, свидание, которое прелестная девушка назначает в галерее призраков, или где там является ваша дама… Роковая страсть, разбитое сердце – из этого получится столь поэтичное рагу, что сентиментальные дамы устроят настоящее паломничество в ваш дом. Но мне нужны отправные точки. В кого могла влюбиться юная Джоана или что иное могло подвигнуть ее на внезапное бегство?
– Если кого-нибудь интересует мое мнение, – поджав губы, произнесла миссис Баскет, – то я не стала бы говорить о несчастной любви. Разврат – это сколько угодно. Ножовщик – вам знакомо это слово? За два дня до исчезновения в замок приходил ножовщик. Обычно Джон сам точит ножи, хотя дворецкому и не полагается это делать, но тут эта вертихвостка похватала все ножи, что нашлись на кухне, и помчалась якобы точить их. Мне тогда пришлось заплатить три шиллинга. О чем уж эта парочка сговаривалась, не могу сказать, но через два дня девица исчезла, не поставив никого в известность и не взяв расчета. Я, конечно, сообщила в полицию, это мой долг, и я его исполнила, но уверена, если проверить бродячих мастеровых, Джоана отыщется очень быстро.
– Великолепно! – восхитился Сэмюэль Трауб. – Я непременно использую ваш материал в третьем из очерков. Ножовщика все считают цыганом, но на самом деле – он испанский гранд, благородный гидальго, сраженный красотой юной Джоаны…
– Не такая уж она красавица, – вставила миссис Баскет.
– Оставьте, кого интересует скучная проза? Главное – привлечь клиентов, а для этого я готов красавицу выставить жабой, а жабу превратить в красавицу. Не читали подобных сказок? В них явно чувствуется рука газетного репортера. Итак, прекрасная Джоана приходит на свидание, и тут является призрак, весь в клубах пара… ну там что-нибудь придумаю, чтобы читательницы рыдали в голос. Время есть, третий очерк обещан читателям через неделю.
– Вы успеете к сроку?
– Я был бы плохим репортером, если бы задерживал материалы.
– Я хотела сказать, что, хотя мы и живем в провинции, веяния прогресса нам не чужды. В замке имеется пневматическая почта, которой вы можете пользоваться. Меньше чем за двое суток цилиндр с вашим посланием доберется хоть до Америки, хоть до Китая.
– У пневмопочты есть свои недостатки. Случается, цилиндр истирается в трубе, и вложенная в него корреспонденция погибает. К тому же не во всех странах достаточно ответственно относятся к пересылке почты. Особенно отвратительно обстоят дела в Турции. Давление сжатого воздуха на турецких участках пневмосистемы всегда меньше установленного, в результате чего зарубежная корреспонденция попадает не к адресату, а в Стамбул. А оттуда если что и возвращают, то непременно вскрытым и с большим опозданием. Когда-нибудь положение будет исправлено, но боюсь, ждать этого прекрасного времени еще очень долго.
– Я не знала, – потрясенно прошептала миссис Баскет.
– Конечно, вы живете в Британии, на родине культуры и прогресса, но остальной мир еще очень дик. Поэтому мы в Америке поневоле являемся консерваторами. Я привез с собой беспроволочный телеграф. Вещь старая, но надежная, как прабабушкин утюг.
– Постойте, но ведь ваше послание может перехватить и прочесть кто-то посторонний!
– Пусть перехватывает, прочесть он ничего не сможет. Мой аппарат автоматически шифрует текст, причем код меняется ежедневно, так что расшифровать его совершенно невозможно. Лучшим специалистом по шифрам в Северо-Американских Штатах был Аб Слени. Возможно, вы слышали это имя, он был не только замечательным криптологом, но и самым опасным бандитом в Чикаго. Его изловили и приговорили к электрическому стулу, но обещали помилование, если он в течение месяца сумеет прочесть хотя бы одно из моих сообщений.
– И что же?
– Он не смог прочитать ни строчки и спустя месяц был электрифицирован. Его последние слова были: «Проклятый шифр! Лучше гореть в аду, чем разгадывать его!»
– Какой ужас – смерть от электричества!
– Смерть – вообще неприятная штука, неважно, от петли, как с древних времен принято казнить в Соединенном Королевстве, на электрическом стуле, изобретенном нашим гением Эдисоном, или, как требуют нынешние гуманисты, от действия перегретого пара. Ведь это значит сварить человека заживо! Однако не будем о грустном. Я благодарю вас за содержательную беседу и прошу позволения откланяться. Я хотел еще зайти в библиотеку, а потом опросить своих помощников, которые сейчас рыщут по окрестностям, выискивая, что еще может привлечь туристов в ваш тихий край.
– Последний вопрос, сэр Сэмюэль. Этот ваш готтентот, он не опасен? Мне кажется, он каннибал, и было бы опрометчиво позволить ему свободно разгуливать среди мирных жителей.
– Успокойтесь, миссис Баскет. Томми – не африканец, он родом с Гаити и получил неплохое образование. Он вполне цивилизованный дикарь, насколько вообще может быть цивилизован представитель хамической расы.
Представитель хамической расы в это время находился в городе Дарлингтоне, одном из административных центров графства Дарем. Томми собирался войти в контору архивариуса, но городской архивариус Джеральд Тюбинг собственной персоной стоял в дверях, загораживая вход, и медленно наливался лиловой краской негодования.
– Ты хоть понимаешь, куда явился? – гневно вопрошал хранитель семейных тайн.
– Да, сэр, – отвечал Томми, прижимая к груди уже не шляпную коробку, но самую шляпу, оказавшуюся копией хозяйской.
– Мне доверены документы, касающиеся частной жизни самых уважаемых семейств графства. Никто посторонний не имеет права читать их без письменного решения суда. Тебе понятно?
– Да, сэр.
– И после этого ты требуешь, чтобы я допустил тебя в архив?
– Да, сэр, – подтвердил темнокожий Томми и надел шляпу. – Это очень нужно.
– В таком случае идем, – произнес Тюбинг, отступая в сторону. – Сюда, пожалуйста.
– Благодарю, сэр, – сказал Томми, входя.
Шляпы он не снял.
– Не знаю, что за джин такой, а по-нашему это можжевеловая водка. У меня еще в поставце имбирная есть, но мы ее пить не будем, а то передеремся все. Имбирная злость пробуждает.
– Мистер Митч, я предлагаю выпить за королеву!
– За королеву? Что же, дама достойная, можно выпить. За здоровье королевы Виктории – гип-гип ура!
– Ура!!! – сотрясая стены замка, рявкнули три английских глотки.
– Одного не пойму, – рыжебородый потряс головой, прочищая уши, – то ли у меня от можжевеловой в глазах троится, то ли еще что, но вот вас трое, а все как по одной мерке сшиты, и всех зовут Джонами. Как вас различать, скажите на милость?
– Джон Стил – садовник!
– Джон Хок – конюх!
– Джон Брукс – истопник!
– А я – просто Кузьмич, мастер на все руки.
– Куз Митч, – хором повторили англичане.
– Вот что, Джончики, – начал Кузьмич, разливая из баклажки остатки можжевеловки, – не могли бы вы мне помочь? Мне хозяин велел по окрестностям побродить, присмотреть, что тут есть такого, чтобы иностранные бездельники клюнули. Вот, скажем, позади ограды прудок заросший, очень романтическое место. Может, там лет сто назад какая-нибудь барышня сдуру утопилась…
– Там народу утопло – не пересчитать, – авторитетно произнес истопник, – но барышень среди них не было, все больше здоровые мужики. Это не пруд, а остатки крепостного рва, а замок в осаде бывал, особенно при Эдуарде Четвертом. Лет пятнадцать тому чистили ров, так и железной трухи довольно достали, и костей. На кладбище их нельзя, утопленников, так их на Гэльской пустоши закопали, там теперь крест на камне выбит.
– От, это славно! За этим меня хозяин и посылал! Как пиво стану варить, вам первым налью. А в самом доме что есть? Домина-то большой, весь каменный и старый. Казематы, подвалы небось имеются. Темница какая завалящая.
– Раньше, может, и было, а сейчас – откуда? В подвалах – мое хозяйство: котельная, бойлерная, угольный бункер. Винный погреб остался, так он уже сколько лет пустует.
– У меня бы не пустовал.
– Так то вы, мистер Митч. А наша хозяйка, во-первых, женщина, и, во-вторых, Баскет она только по мужу. При покойном Джоне Баскете, ее супруге, винный подвал был приятнейшим местом в графстве. Джон Баскет любил и умел жить, это кто угодно подтвердит. В ту пору подземный ход не обваливался. Со всего Баскетвиля смазливые барышни туда наведывались.
– Ух ты! Что за ход-то?
– Да ну, там болтовни больше, чем дела, – недовольно произнес Джон Брукс.
– Не скажи, – Джон Хок был не согласен с тезкой. – Это про большой ход никто не знает, если и был такой, то осыпался сто лет назад. А тот, что из винного подвала ведет в ротонду, – целехонек. Я сам мальчишкой по нему лазал.
– Был мальчишкой, а теперь у тебя усы на грудь свисают, – возразил садовник. – Мальчишкой и я лазал, только с того времени я ума нажил, а ты – нет. В ротонде пол начал проваливаться, так я выход из подземного хода засыпал. Теперь не проваливается.
– А в подвале от этой норы в стене трещина пошла, – заметил Джон Брукс, – пришлось стену укреплять. Я бы и самый вход в вашу нору замуровал, но хозяйка не велела.
– Вы, я вижу, весь замок перестроили, а мне и невдомек, – произнес Джон Конюх.
– А кто кирпич возил?
– Мало ли что я возил! Мне скажут, я и тебя свезу хоть на Гэльскую пустошь, да там и прикопаю…
Разговор набирал обороты, мистер Митч за неимением джина подливал имбирную и кивал в такт рассказам кудлатой головой.
– Итак, джентльмены, обсудим, что удалось узнать каждому из нас за первый день пребывания под радушным кровом Баскет-Холла…
Поздней ночью трое приезжих собрались на совет в комнате своего начальника.
– С вашего позволения, первым начну я, – произнес Куз Митч. – В описание превосходного сада необходимо добавить следующее…
Куз Митч уселся за клавиатуру телеграфного аппарата, отключенного в настоящую минуту от мирового эфира, и комнату наполнил треск и грохот вхолостую работающего механизма.
– Ага, понимаю! – подхватил Сэмюэль Трауб. – Пустите, Кузьмич, дальше я сам…
Телеграфные раскаты усилились, став совершенно невыносимыми.
Через минуту Куз Митч поднял палец и довольно усмехнулся сквозь рыжую бороду.
– Не знаю, кто пытался нас подслушивать, но надолго его не хватило. Слуховая труба перекрыта, теперь можно говорить. Начинай, Томми.
Чернокожий поднялся. На этот раз он был без шляпы, но шляпа на тайном совещании и не требовалась.
– Я наведался в Дарлингтон и изучил все бумаги, касающиеся фамилии Баскетов, какие нашлись у местного нотариуса… или архивариуса; никак не пойму, в чем между ними разница… Прежде всего, имение Баскетов разорено и не приносит никакого дохода. Помимо собственно усадьбы, которая требует для поддержания немалых денег, Баскетам принадлежит ряд земельных участков, сдающихся в аренду под огороды и для выпаса скота. Однако большинство участков пустует, арендаторов нет. Оно и неудивительно: пароходы, которыми англичане так гордятся, подкосили английское земледелие. Привезти голландские овощи проще, чем вырастить свои. Кроме того, Баскетам принадлежит гостиница в Баскетвиле. Называется «Том и Дженни» и тоже сдается в аренду. Прибыль от гостиницы минимальна, нынешний арендатор мечтает избавиться от нее, так что перекупить право аренды не составит никакого труда. Покойный Джон Баскет был последним представителем рода. Умер бездетным. Наследовала ему супруга, урожденная Джерней. Семейство Джернеев жило неподалеку от Баскет-Холла, но они уже давно продали ферму и уехали. Ближайший наследник – Роберт Джерней, служит консерватором минералогического музея в городе Йорке. Разумеется, он не заинтересован в сохранении Баскет-Холла, имение будет продано с молотка, те вещи, что представляют какую-то ценность, отправятся в антикварный магазин, и в округе появится еще одна развалина минувшей эпохи.
– Что-то ты слишком заботишься о судьбе края, – заметил Сэмюэль Трауб. – Наша задача – найти и обезвредить преступника. Все остальное – лирика, и не более того.
– Ах, масса Сэм! – вскричал чернокожий. – Вы, как всегда, правы, но подумайте, что заведется на этих пустошах, когда отсюда уйдут люди. Вы тогда сами скажете: «Томми, ты специалист по делам сверхъестественным – займись!» А что сможет бедный Томми против обитателей холмов? Так что лучше не допускать, чтобы пустоши окончательно опустели.
– Это все очень поэтично, – согласился американец, – но пусть о поэзии заботятся поэты, наш замечательный стихотворец Вольт Витман. И если ты, Томми, закончил доклад…
– Подождите, – перебил Томми. – Был еще один документ: зеленая дерматиновая папка, опечатанная лично Джоном Баскетом и отданная им на хранение в архив.
– Что в папке? – спросил Трауб, хорошо знакомый с умением Томми лезть куда не следует.
– Не знаю, – постно ответил Томми. – Восемь дней назад, за день до исчезновения Джоаны Бекер, к архивариусу приехал наш знакомец Джон Хок и забрал зеленую папку. При этом он предъявил любопытный документ, который я взял себе на память. – Томми вытащил из кармана сюртука сложенную вчетверо бумагу и протянул ее Траубу. Тот развернул лист и прочел вслух: «Предъявителю сего выдать отданную на сохранение зеленую папку. Папку не вскрывать, никаких вопросов не задавать. Джон Баскет».
– Забавное распоряжение с того света. – Трауб посмотрел бумагу на просвет. – Дата на письме не проставлена, но думаю, бумага подлинная, написанная пятнадцать лет назад лично Джоном Баскетом. Покойный знал, что документы из зеленой папки могут понадобиться, и заранее отдал соответствующее распоряжение. А теперь тот, у кого хранилась записка, решил пустить ее в ход. Причем заметьте, это случилось до исчезновения Джоаны Бекер.
– Я же говорил, что убийца – кучер, – пробормотал Томми.
– Этот вопрос мы обсудим чуть позже. А пока должен сказать следующее: то, что леди Баскет – типичная парвеню, я понял и сам. Представьте, она не смогла рассказать историю Дамы Роз, историю фамильного привидения!
– Не смогла или не захотела? – прогудел из своего угла Куз Митч.
– Не смогла. Если бы не хотела, она не стала бы говорить, что в библиотеке имеется рукописная хроника рода Баскетов, в которой все подробнейшим образом зафиксировано. Кроме того, рассказывая об основателе рода, почтенная матрона перепутала крокет и крикет, что совершенно недопустимо для благородной леди. Я даже начал подумывать, что хозяйку замка подменили, но ваши изыскания, Томми, рассеяли мои подозрения.
– И что же вы вычитали в хрониках? – полюбопытствовал негр.
– В том-то и дело, что ничего. Книга исчезла, остался лишь промежуток между двумя томами, где она прежде стояла, и след на пыли, по которому можно судить, что рукопись вынули совсем недавно. Вообще, библиотека Баскет-Холла – удивительное место! В ней не больше ста томов, но любому из них не меньше ста лет. В нынешнем столетии ни один Баскет не купил ни единой книги, да и те, что были, читал не слишком охотно. Мисс Бекет, в обязанности которой входила уборка комнат, библиотеку посещала нечасто, так что пыль на полках оказывается летописью столь же подробной, как и та, что была украдена. Вообще, Англия с ее любовью к углю и пару – страна уникальная! Прежде она славилась туманами, теперь – смогом. В Англии все, что не протирается ежедневно, бывает покрыто тончайшим слоем копоти. Ах, какие отпечатки пальцев остаются там, где пыль не была вытерта! Славный британский естествоиспытатель Уильям Гершель, сын и внук славных естествоиспытателей, утверждает, что отпечаток пальца неповторим и дает внимательному наблюдателю множество сведений о владельце пальца. Когда-нибудь я напишу небольшой труд о различных типах папиллярных линий, а сейчас я должен с огорчением констатировать, что мои поиски в библиотеке были замечены, и экономка Бетси Бакт, вызванная мужем, стерла все улики мокрой тряпкой. Не знаю, был ли в том злой умысел или же вполне извинительное желание, чтобы в замке было по возможности чисто. Теперь я могу утверждать одно: хроники похищены в день нашего приезда, причем похищены мужчиной, а вторая книга взята женщиной, и это случилось больше недели назад.
– Что за вторая книга?
– Я разве не сказал? В библиотеке не хватает двух книг. И если семейные хроники занимали почетное место, так что их отсутствие сразу бросалось в глаза, то вторая книжка находилась на самой верхней полке, откуда ее не так просто достать. Вынули ее давно, следы пальцев успело как следует припорошить пылью. Итак, в деле появилось три исчезнувших документа: два из библиотеки и один из городского архива. И лишь в одном случае мы знаем, в чьи руки попал документ.
– А не спросить ли нам Даму Роз? – второй раз подал голос Куз Митч. – Уж она-то должна знать, что происходит в доме.
– Ни один суд не признает показаний, данных привидением.
– Но мы-то не суд. Хотя бы будем знать, что ищем.
– Что же, можно попытаться. А пока, Кузьмич, что нашли вы?
– Подземный ход нашел. Ведет из ротонды, есть в саду такая беседочка, в винный подвал. Джон-садовник соврал, будто ход осыпаться начал, и он его завалил, покуда там никого не завалило. У меня правило: доверяй, но проверяй. Полез смотреть, а там ничего не засыпано, широкий ход, дама может пройти, кринолина не замарав.
– Что в погребе?
– Ничего. Стеллажи пустые в два яруса. Я еще толком не смотрел, сегодня я по саду шарился, а в ход полез, потому что он в саду начинается.
– В саду что интересного? Кроме хода, конечно…
– Сад как сад. Ухоженный. Сорная трава выкошена, газоны подстрижены, дорожки посыпаны, гарью этой проклятой. Все как везде. Одно меня удивило: перед парадным входом цветник разбит: на клумбах маргаритки высажены, настурции, еще какой-то цвет, вдоль дорожки кусты сиреней, у ограды – живая изгородь из колючего барбариса. И нигде ни одной розы. Но розарий в саду есть, и еще какой! Десятки кустов всех сортов и видов. А задвинута эта красота по ту сторону дома, едва не на выселки.
– Хозяйка розы на дух не переносит, – пояснил всезнающий Сэмюэль.
– Для кого тогда цветы срезают? Каждый день и помногу. Все кусты обкорнанные стоят, ни единого цветка не оставлено, одни бутоны. Я бы решил, что на продажу, но в округе некому букеты покупать.
– Я знаю! – перебил Томми. – Убийца – садовник! Тело он закопал в саду, в розарии. Но если во время цветения роз потревожить корни, розы осыплются. Вот он заранее и срезал их, чтобы лишнего внимания не привлекать.
– Не будем плодить гипотез, – постановил Сэмюэль Трауб. – Завтра продолжим сбор материала. Томми попытается выяснить, куда деваются срезанные розы, может быть, садовник попросту влюблен и охапками таскает хозяйские розы своей зазнобе. Ну а Кузьмич займется замком. Хотелось бы узнать, кто пытался нас подслушивать, и предупредить эту возможность на будущее…
– Кто подслушивал – узнаю. А в слуховую трубу я трещотку поставлю, пусть слушает на здоровье, кто бы там ни был.
– Вот-вот, – согласился Трауб. – Остальное и прочее тоже надо проверить. Вряд ли дело ограничится одним потайным ходом, в замке может быть такое, о чем и сами хозяева не знают. Опять же Дамой Роз надо подзаняться.
– Дамой и я могу, – ревниво заметил Томми.
Кузьмич упрямо набычился, упер в колени пудовые кулаки и сказал:
– Ты только испортишь все. С привидениями нежно надо обращаться, а в тебе нежности ни на понюх табаку. Напугаешь дамочку, а то и вовсе рассеешь. А дамочка нам нужна, и сейчас, и потом.
– Разумно, – согласился Сэмюэль Трауб. – Сейчас расходимся. Мне еще надо закончить статью для газеты, а с утра я должен съездить кой-куда. Если все будет нормально, завтра ночью встретимся с Дамой Роз. – Трауб протер ладонями лицо и спросил себя самого: – А спать – когда?
Томми и Кузьмич покинули комнату шефа, но не успели сделать и пяти шагов, как из-за угла, не потревожив беззвучной тьмы, появилась женщина в старинной одежде. Знаток определил бы ее наряд как относящийся к XV веку, но необразованные детективы могли сказать лишь: «Такое теперь не носят». В руках дама держала букет роз, таких же неживых, как и она сама, мерцающих чуть голубоватым светом.
– Это она! – жарко зашептал Томми. Он готов был ринуться на добычу, но лапа напарника ухватила его, не позволив даже дернуться.
– Здравствуйте, сударыня, – прогудел Митч.
Дама благосклонно кивнула и канула в стену.
– Спать иди, – приговаривал Куз Митч, уводя товарища. – Ты ничего не видел, почудилось тебе. Завтра день трудный, вот и иди себе почивать.
Завтрак в Баскет-Холле начинался ровно в восемь, так что Сэмюэль Трауб сумел даже перехватить пару часов сна.
В обширной столовой был накрыт стол для двоих. Прислуживал дворецкий – Джон Бакт, но позади Сэмюэля Трауба должен был стоять один из его слуг. Зачем это нужно, сказать не мог никто, но так требовал непреклонный этикет. Как выяснил недавно Трауб, «этикет» – одного происхождения со словом «этикетка», он означает то, что намертво приклеено обычаем. Отклеить требования этикета можно только после долгой обработки паром, а век пара на Британских островах начался слишком недавно.
На этот раз жертвой этикета пал рыжебородый Куз Митч. Он переминался, глядя перед собой, и не знал, куда девать руки.
Миссис Бакт вкатила сервировочный столик с одинокой серебряной кастрюлькой. Бакт-муж поднял крышку и принялся раскладывать по тарелкам неаппетитную серую массу.
– Что это? – вопросил Сэмюэль Трауб.
– Перловка, сэр!
– Шрапнель… – вполголоса прокомментировал мистер Митч.
Трауб подцепил ложечкой небольшой комок, осторожно продегустировал.
– Знаете, – сказал он, – во время путешествия по Аляске мне целый месяц пришлось питаться одним пеммиканом. Ничего хуже в моей жизни не было, но я выдержал.
Миссис Баскет безучастно жевала шрапнель. Вид у леди был такой, словно ей и впрямь приходилось грызть артиллерийский снаряд, наполненный круглыми свинцовыми пулями.
– Как ваши успехи, мистер Трауб? – нарушила молчание леди. – Надеюсь, вы хорошо выспались?
– Превосходно! Правда, полночи мне пришлось просидеть за телеграфом. Треск печатающего устройства не слишком мешал вам спать?
– Что вы, в доме очень толстые стены, я спала и ничего не слышала.
– А я закончил первый очерк и отослал его в газету. Думаю, через три дня мы получим свежий номер. Там будет вступительная статья, впечатления путешественника, впервые попавшего в ваши края. Сегодняшний день, если вы не возражаете, я хотел бы посвятить знакомству с окрестностями.
– Да, конечно. Я скажу Джону Хоку, чтобы он был в вашем распоряжении.