Спиридион Санд Жорж
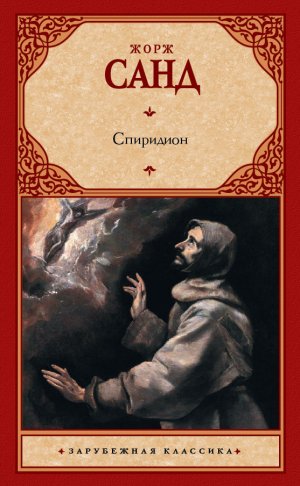
Донасьен зашел слишком далеко, чтобы пойти на попятный. Он сделал вид, будто задержка эта ничуть его не раздражает, и смиренно попросил братию не чинить мне никаких препятствий. Намерение мое вызвало, правда, некоторый ропот, но, вероятно, отнюдь не такой громкий, как надеялся Донасьен. Сильнейшая из всех страстей, владеющих монахами, – любопытство; братья сгорали от желания узнать тайну моих отношений с Донасьеном. Исчезновение мое удивило многих. Прежде чем подчиниться новому настоятелю, с виду такому медоточивому и кроткому, иные из братьев захотели получить более подробное представление об истинном его характере. Сведения такого рода надеялись они узнать от меня. Смирение, с каким Донасьен выслушал в присутствии всего монастыря обвинения, столь страшные для человека надменного и честолюбивого, одним казалось возвышенным, другим – разумным, большинству же – странным и сулящим немало бед. Против избрания Донасьена высказались тридцать монахов, не имевших, впрочем, единой кандидатуры, которую могли бы ему противопоставить. Было очевидно, что теперь они отдадут голоса мне. Три дня, посвященные новым размышлениям и сбору более подробных сведений, могли лишить Донасьена немалого числа сторонников. Это понимали все, и большинство, поначалу застигнутое врасплох и как бы одурманенное смутьянами, обрадовалось отсрочке, полученной моими стараниями.
Через час после того, как заседание, прошедшее столь бурно, окончилось, ко мне в келью уже ломились мои сторонники, ибо помимо воли я обзавелся сторонниками, и притом весьма пылкими. Донасьен пробуждал во многих сердцах жгучую ненависть, и я не погрешу против истины, если скажу, что все наименее подлые и наименее развращенные обитатели монастыря принадлежали к числу его противников. Тем временем я постепенно успокоился; лестные предложения, мне делаемые, не вызывали у меня ни малейшего желания ими воспользоваться. Я был честолюбив, но честолюбив на свой лад: монастырь был мне тесен, я мечтал о деяниях возвышенных, великих, как сама Вселенная. Мне хотелось бы сделать научное или философское открытие, постичь некую истину и возвестить о ней человечеству, породить одну из тех идей, какие воодушевляют целые поколения; я хотел править своими современниками, оставаясь, однако, в своей келье и не пятная рук грязью дел общественных; я хотел царить над умами посредством ума, над сердцами с помощью сердца, одним словом, уподобиться Платону или Спинозе. Понятно, что перспектива командовать сотней невежественных монахов нимало меня не прельщала. Убогие преимущества такой роли не вызывали в моей душе ничего, кроме отвращения; однако я понял, какие выгоды сулит мне мое положение, и не стал разочаровывать своих сторонников. К вечеру тридцать человек, проголосовавших против Донасьена, решили отдать свои голоса мне. Донасьена это не столько испугало, сколько разгневало. Он явился ко мне в келью и попытался меня запугать. Если я откажусь от своих притязаний, говорил мой враг, он не станет предъявлять мне обвинение в ереси, хотя еретические мои взгляды хорошо ему известны; если я удовлетворюсь той промежуточной победой, какую одержал, отсрочив выборы, все еще может кончиться хорошо для нас обоих; если же я по-прежнему буду стремиться занять место настоятеля, он расскажет всем о том, чем я занимался, что читал и даже о чем думал в течение последних пяти лет. Он угрожал открыть всем глаза на обман и непослушание, которыми я запятнал себя за эти годы: ведь я украдкой добывал запрещенные книги и во время богослужения, прямо в храме Господнем, приобщался к доктринам подлым и лживым.
Спокойствие, с каким встретил я его угрозы, сильно смутило Донасьена. По всей вероятности, он надеялся, что, увлекшись, я заговорю с ним о своих верованиях; возможно, он приказал своим приспешникам подслушивать нашу беседу нарочно для того, чтобы засвидетельствовать мое вероотступничество. Я, однако же, был настороже и мог убедиться, как легко человеку самому простодушному взять верх над человеком самым хитрым, если этот последний движим недобрыми чувствами. Разумеется, я был вовсе не так искушен в интригах, как мой хитрый и двуличный противник, однако презрение мое к предмету нашего спора сообщало мне большие преимущества. Непоколебимое хладнокровие служило мне надежной броней; чем спокойнее звучали мои ответы, тем в большее замешательство приводили они Донасьена. Он вышел от меня, окончательно сбитый с толку. Прежде, сказал он мне с деланной веселостью, он меня недооценивал. Он полагал, что я не интересуюсь ничем, кроме книг, и никогда бы не подумал, что я способен выказать столько осторожности и расчетливости в делах мирских. Хорошо бы, добавил он угрюмо, чтобы подозрения в ереси были с меня полностью сняты, ибо в этом случае я оказался бы наиболее подходящим кандидатом на звание настоятеля.
Назавтра мои тридцать сторонников принялись за дело так рьяно, что партия моя увеличилась еще на полтора с лишним десятка человек. Донасьена в монастыре боялись и ненавидели, поэтому люди трусливые легко согласились отказать ему в поддержке; однако все старые монахи по-прежнему хранили ему верность, ибо знали, что этот тайный атеист будет и дальше закрывать глаза на их пороки. Для монастыря нет ничего страшнее, чем настоятель искренне благочестивый. Такой настоятель чтит устав, для монахов страшный и ненавистный, он не дает им в спокойствии предаваться лени и излишествам; движимый пламенным рвением, он каждый день измышляет для них новые испытания, предъявляет к ним суровые требования, обрекает их на лишения и труды. Имея дело с горсткой фанатиков, Донасьен умело выдавал себя за ревнителя благочестия; имея дело с равнодушным большинством, он так же умело потакал слабостям каждого, хотя старался не нарушать правил и сохранял мнимое почтение к обрядам. Таким образом, он предоставлял злу безграничную свободу и с помощью чужих пороков удовлетворял собственные порочные наклонности. Подобный способ править людьми за счет их развращенности сулит верный успех; будь я фаворитом какого-нибудь короля, я непременно посоветовал бы ему чаще прибегать к этому средству.
Тем не менее монахи не спешили покориться власти Донасьена, ибо слишком хорошо знали его мстительный нрав. Всякий, кто однажды обидел его, искупал свою вину в течение долгих лет, поэтому обитатели монастыря опасались, что, став настоятелем, Донасьен начнет сводить счеты с теми, кого невзлюбил в бытность свою простым монахом. Люди слабохарактерные голосовали за избрание Донасьена исключительно из страха: они почитали этого человека всемогущим и боялись прогневить его своим неповиновением.
Однако стоило им узнать, что у Донасьена появился соперник, готовый их защитить, как они с легкостью изменили прежнему покровителю, и на третий день большинство уже изъявляло готовность голосовать за меня. Не могу выразить, Анжель, как больно мне было видеть эту скорую измену, продиктованную банальнейшим эгоизмом, но облыжно выдаваемую за плод уважения и любви. Заискивания этих подлых трусов мне претили; ничуть не меньшее отвращение и презрение вызывали у меня ласковые речи других интриганов, которые надеялись, что я и на посту настоятеля буду, как прежде, предаваться научным спекуляциям, а они тем временем станут править монастырем вместо меня.
– Вы победите, – заверяли меня эти низкие льстецы, покидая мою келью.
– Боже меня упаси! – отвечал я, подождав, пока за ними закроется дверь.
В день выборов на заре ко мне явился сам Донасьен. Всю ночь он не сомкнул глаз, я же, в отличие от него, спал совершенно спокойно. Увидев, что он меня разбудил, Донасьен спросил:
– Вы спите сном триумфатора. Неужели вы так уверены в своей победе?
Он притворялся спокойным, однако голос его дрожал, смятенный внешний вид обличал внутреннюю тревогу.
– Мой сон спокоен вдвойне, – сказал я с улыбкой, – во-первых, я твердо знаю, что одержу победу, во-вторых, победа эта мне глубоко безразлична.
– Брат Алексей, – отвечал Донасьен, – мастерство, с каким вы ломаете комедию, выше всяких похвал.
– Брат Донасьен, – согласился я, – вы совершенно правы. Я ломаю комедию, ибо вербую сторонников, чьими голосами не собираюсь воспользоваться. Не желаете ли у меня их выкупить?
– По какой же цене? – осведомился он, делая вид, что подыгрывает мне; однако губы его побледнели от нешуточного волнения, а в глазах горело неподдельное любопытство.
– Цена у меня очень скромная – моя свобода, ничего больше. Я люблю учиться и ненавижу повелевать: оставьте меня в покое, дайте мне полную независимость в стенах моей кельи. Я желаю получить ключи от всех монастырских книгохранилищ, доступ ко всем физическим и астрономическим инструментам и право распоряжаться средствами, которые основатель монастыря оставил на их содержание; я желаю поселиться в келье при обсерватории, которая пустует с тех пор, как умер последний монах, интересовавшийся астрономией; наконец, я желаю иметь право не присутствовать при богослужениях; исполните все эти условия, и вы не услышите обо мне ни слова, как если бы меня уже давно не было на свете. Я буду распоряжаться в башне, вы – в монастыре, и мы не будем иметь между собой ничего общего. Если я вмешаюсь хотя бы в одно мирское дело, можете приказать мне жить по уставу; но если вы обеспокоите меня хотя бы одним мирским делом, тогда – не сомневайтесь – я сумею еще раз доказать вам, что пользуюсь в монастыре некоторым влиянием. Раз в три года, когда вас будут переизбирать, мы будем продлевать наш договор – если, конечно, он вас устраивает. Согласны? Колокол зовет нас в церковь: поторопитесь.
Он согласился на все мои условия, но вышел от меня, ничему не веря и ни на что не надеясь. У него не укладывалось в голове, что, имея все возможности завоевать власть, можно по доброй воле от нее отказаться.
Мука, исказившая его лицо в то мгновение, когда выяснилось, что настоятелем большинством в десять голосов избран я, не поддается описанию. Он имел вид человека, который возносился к небесам, но в последнюю минуту был поражен молнией. Подумать только: держать меня под замком три дня и три ночи, быть уверенным, что я умер от голода и холода, – и вдруг обнаружить, что я не только жив, но и способен вырвать победу из рук соперника и занять место, столь для него желанное!
Все бросились обнимать меня; я безмятежно принимал поздравления, дожидаясь, чтобы и тот, над кем я одержал победу, также заключил меня в братские объятия. Когда он решился и на это унижение, я взял его за руку и передал ему знаки отличия, только что мне врученные: надел ему на палец кольцо, вложил в руку посох, а затем подвел его к кафедре и, опустившись на колени, попросил у него отеческого благословения.
Капитул остолбенел; поначалу мне стоило большого труда убедить братьев согласиться на эту замену победителя побежденным; однако в конце концов люди трусливые и слабодушные снова оказались в большинстве и снова поступили так, как хотелось мне. Голосование, проведенное в тот же день, желаемого результата не принесло, но назавтра моими стараниями настоятелем был избран счастливец Донасьен. Соперник мой почтил меня своим недоверием – до последней минуты он сомневался в моей искренности и подозревал, что я лишь притворяюсь смиренником ради того, чтобы на всю жизнь захватить безраздельную власть над монастырем. Как правило, человека, однажды избранного настоятелем, переизбирали на этот пост каждые три года до самой его смерти; тем не менее устав предписывал проводить выборы, и наличие влиятельного соперника могло осложнить положение победителя. Поэтому Донасьен полагал, что я выставляю напоказ свою добродетель и романическое бескорыстие ради того, чтобы раз и навсегда завоевать симпатии даже самых преданных его сторонников и быть уверенным, что через три года они мне не изменят. Должен, впрочем, заметить, что именно положение устава о перевыборах раз в три года обеспечило мне спокойную жизнь в монастыре. С того дня, как Донасьен был избран настоятелем, гонения, которым я подвергался прежде и о которых умолчал в своем рассказе, ибо они мало что значили в сравнении с муками куда более острыми и глубокими, прекратились. Впрочем, бояться меня и втайне натравливать на меня своих присных Донасьен перестал только совсем недавно, увидев, что дни мои сочтены.
Когда избрание его наконец состоялось и он убедился в искренности моих обещаний, признательность его приняла формы столь раболепные и преувеличенные, что я поспешил избавить себя от этой чести.
– Заплатите ваш долг, – шепнул я ему на ухо, – и не благодарите меня за поступок, который с моей стороны отнюдь не является жертвой.
Донасьен поспешил объявить, что предоставляет в полное мое распоряжение библиотеку и кабинет, отведенный для научных коллекций и изысканий. В тот день я получил полную свободу для выбора занятий и все возможности для учения.
Желая поскорее переселиться в новую келью, я направился к выходу из залы капитула, но перед тем как покинуть ее, случайно взглянул на портрет основателя монастыря; в эту минуту воспоминание о сверхъестественных событиях, происшедших в этой зале совсем недавно, явилось мне с такой потрясающей ясностью, что я задрожал от ужаса. Заботы, связанные с выборами настоятеля, не оставляли мне времени на то, чтобы обдумать случившееся; вернее сказать, та часть мозга, которая сберегает впечатления, именуемые поэтическими и чудесными (ибо язык наш не имеет выражений, способных описать то, что ниспосылается нам Богом), оцепенела и не побуждала мой разум как-либо объяснить чудесное мое освобождение из темницы. Если я и вспоминал об этом чуде, то лишь как о некоей туманной грезе – так вспоминают о поступках, совершенных во хмелю или в жару. Итак, я взглянул на портрет Эброния и совершенно отчетливо увидел его живые и горящие глаза; воспоминания о прошлом так причудливо переплелись с впечатлениями настоящего, что мне почудилось, будто портрет снова оживает и смотрит на меня глазами, полными жизни. Однако на сей раз взгляд этих глаз выражал боль и упрек. Мне показалось даже, что они наполнились слезами. Я едва не лишился чувств. Никто не обращал на меня внимания, и только мальчик двенадцати лет от роду, племянник одного из монахов, учившийся у него богословию, по чистой случайности очутился перед портретом и тоже взглянул на него.
– Отец Алексей! Смотрите! – вскрикнул он с ужасом, ухватив меня за край сутаны. – Портрет плачет!
Сделав огромное усилие, я взял себя в руки и ответил:
– Замолчите, дитя мое; сегодня подобные речи неуместны более, чем когда-либо; вы можете навлечь опалу на вашего дядюшку.
Мальчик не понял моих слов, но испугался и, сколько мне известно, не сказал никому о том, что увидел. Вскоре он заболел и год спустя скончался в доме своих родителей. Я не знаю подробностей его смерти, но до меня дошли слухи о том, что в последние мгновения ему явился некто, кого он именовал «pater Spiridion». Мальчик этот был исполнен веры, кротости и ума. Я не успел как следует узнать его на земле, но верю, что еще встречусь с ним в сферах более возвышенных. Он принадлежал к числу тех существ, которые не могут долго оставаться на нашей земле; тело их еще живет земной жизнью, а душа уже отчасти пребывает на небесах.
Несколько дней я наводил порядок в обсерватории, отыскивал мои любимые книги и расставлял их на полке у себя в келье, одним словом, обживался в новых своих владениях. Монастырь еще не успокоился после выборов настоятеля: одни строили планы на будущее, предаваясь честолюбивым мечтаниям, другие, обманувшиеся в своих надеждах, утешались, предаваясь излишествам, я же тем временем радовался, как дитя, возможности не иметь ничего общего с этой бессмысленной толпой и вкушать мирные наслаждения вдали от нее. Книги, экспонаты естественнонаучных коллекций, физические и астрономические инструменты уже много лет пребывали у нас в полном небрежении; я с таким усердием занимался наведением порядка среди этих сокровищ, что каждый день к вечеру едва не падал от усталости; наконец труды мои подошли к концу, и однажды вечером, возвратившись в свою келью, я ощутил величайшее блаженство. Я не сомневался, что победа, одержанная мною, куда важнее, чем та, какую одержал Донасьен: ведь мне удалось устроить всю мою грядущую жизнь на единственных основаниях, ей подобающих. Мною владела одна страсть – к учению; отныне я мог предаваться ей безраздельно и беспрепятственно. Как же верно я поступил, когда преодолел искушение бежать из монастыря – искушение, так часто дразнившее меня прежде! Утратив веру, не питая более никакого сочувствия к католицизму, я безмерно страдал от необходимости исполнять все мелочные предписания католической религии и тратить на это драгоценное время! Как часто случалось мне презирать себя за ложное чувство чести, превращавшее меня в раба собственных обетов.
«Безумные обеты, безбожные клятвы! – восклицал я сотню раз. – Не из страха перед Богом и не из любви к нему я их произнес; не из страха или любви соблюдаю. Бог этот не существует и никогда не существовал. К чему же хранить верность призраку, к чему исполнять обещания, данные во сне и не имеющие силы? Клятвы эти властны надо мною лишь по причинам сугубо земным. Я не слагаю с себя монашеского сана только потому, что некогда, движимый юношеской нетерпимостью и безудержным благочестием, громко порицал монахов-расстриг и отстаивал абсурдную мысль о том, что клятвы людские нерасторжимы; итак, нынче я остаюсь монахом только потому, что опасаюсь презрения людей, которых сам презираю без меры!»
Вот что я говорил себе в те годы, вот в чем себя упрекал; я мечтал бежать, сбросить монашескую сутану и отправиться искать свободу совести и образования в странах, где царят просвещение и терпимость, – таких, как Франция или Германия; но мне недоставало храбрости исполнить это решение. Тысячи соображений, продиктованных ребяческими страхами или глупой гордыней, останавливали меня. Теперь же, по понятной причине, соображения эти, некогда побудившие меня отказаться от решения бежать, начали мне казаться превосходными, ведь теперь монашеское состояние и жизнь в монастыре полностью отвечали моим чаяниям. Исчисляя самому себе эти соображения, я вспомнил и о рукописи Спиридиона, которою по-прежнему желал завладеть, ибо не сомневался, что в ней содержатся сведения поистине драгоценные. Не успело это воспоминание мелькнуть в моем уме, как воображение мое тотчас породило тысячу самых фантастических картин. От усталости и желания спать мысли мои мутились. Я испытывал ощущения странные и давно позабытые. Надменный мой разум презирал видения, навеянные мне католической верой; он объяснял чудеса, свершившиеся в ночь на 10 января, причинами самыми естественными и сугубо физиологическими. Голод, горячка, истощение нравственных сил, безмерное отчаяние при мысли о неизбежности столь страшной кончины – все это, должно быть, привело мой рассудок в состояние, близкое к безумию. Неудивительно, что я начал слышать замогильный голос и что речи его несли на себе отпечаток сильных впечатлений, испытанных мною в бытность мою набожным католиком. Болезненное мое состояние позволило призракам, порожденным некогда моим воображением, воротиться назад, а физическое изнеможение помешало разуму оценить их так, как они того заслуживали. Обязанный своим освобождением счастливому стечению обстоятельств – например, помощи служителя, случайно забредшего в залу капитула, – я, в это время метавшийся в бреду, не замедлил приписать свое спасение силам сверхъестественным; совершавшаяся во мне борьба между желанием выжить и невозможностью что-либо предпринять из-за полного упадка сил объясняет все то, что привиделось мне впоследствии. Таким образом, разум мой находил слова для истолкования всего случившегося, но слова не способны заменить идей, и потому, хотя половина моего существа оставалась совершенно удовлетворена подсказками горделивого разума, другая пребывала в величайшем смятении и не знала покоя.
Объятый непостижимой тревогой, я чувствовал, что разум мой, как бы могуч он ни был и на какие бы уловки ни пускался, не способен защитить меня от страшных наваждений, рождаемых болезнью. Ведь галлюцинации мои были столь правдоподобны, что я ни на минуту не усомнился в их реальности. Более того, совсем недавно, пребывая в здравом уме и прекрасном настроении, я умудрился увидеть слезы в глазах человека, изображенного на картине, и услышать подтверждение этого домысла из уст ребенка.
Частичным оправданием мне служило то обстоятельство, что о портрете этом ходили легенды. Еще в бытность мою правоверным католиком я слышал рассказы о том, что основатель монастыря, изображенный на портрете, плачет всякий раз, когда новым настоятелем избирают человека недостойного; вскормленные этими сказками, мы оба – и я, и перепуганный ребенок – приняли за правду плоды нашего воображения. Сколько раз целые толпы, пребывая во власти фанатического энтузиазма, проникались уверенностью в том, что видели чудо, и заражали своею уверенностью толпы еще более громадные! Поэтому меня ничуть не удивляло, что обольщению поддались одновременно два человека; удивляло и унижало меня другое – то, что одним из этих двоих оказался я, что именно я принял на веру басни, каким поверил несмышленый ребенок. Неужели, думал я, лживые выдумки христианского фанатизма оставляют в душе такой глубокий след, что годы разочарований и борений не приносят человеку желанной свободы? Неужели я осужден до конца своих дней страдать этим недугом? Неужели не существует никакого способа обрести нравственную силу, способную разогнать призраков и рассеять тени? Неужели в наказание за то, что некогда я был католиком, мне никогда не дано будет сделаться человеком, неужели любая тяжесть в желудке, любой приступ лихорадки будут предавать меня во власть ребяческих страхов? Увы! Быть может, все это есть не что иное, как справедливое наказание за слабость, побуждающую человека оставаться в плену грубейших заблуждений. Быть может, истина в отместку за долгое небрежение ею отказывается просвещать до конца иные умы; быть может, те несчастные, что, подобно мне, поклонялись кумирам и обожали ложь, отмечены несмываемой печатью невежества, безумия и трусости; быть может, когда наступит смертный час, изнуренный ум мой начнут мучить страхи еще более презренные; быть может, терзать меня явится сам Сатана, а умру я с именем Иисуса на устах, как умерли многие незадачливые философы, подверженные тем же умственным расстройствам и лишний раз подтвердившие своим примером немощность человеческого разума перед лицом света небесного?
Предаваясь этим мучительным размышлениям, я забылся беспокойным сном; я боялся вновь стать жертвой какого-нибудь видения, причем страх этот был тем острее, чем яснее разум разъяснял мне причины и следствия моего состояния.
Сон, приснившийся мне в ту ночь, был странен. Мне снилось, что я вновь сделался послушником. На щеках моих едва пробивался легкий пушок; облаченный в белые шерстяные одежды, я прогуливался в обществе юных своих товарищей; с нами был и Донасьен, просивший нас избрать его настоятелем. Дабы не навлекать на себя гонений, я, как и остальные, не раздумывая, подал голос за Донасьена. Не успел он удалиться, бросив на нас взгляд торжествующий и презрительный, как к нам приблизился прекрасный юноша, в котором мы без труда узнали человека, изображенного на легендарном портрете в зале капитула.
Поначалу это нас удивило, однако, как это часто случается во сне, очень скоро мы сочли совершенно естественным то обстоятельство, что основатель монастыря живет среди нас; кому-то даже стало казаться, что так было всегда. Что касается меня, то я смутно помнил о своем давнем знакомстве с ним и, повинуясь то ли привычке, то ли симпатии, подошел к нему без робости, желая его обнять. Он, однако, с негодованием оттолкнул нас.
– Несчастные дети! – воскликнул он, причем голос его звучал чарующе и певуче даже в гневе. – Как можете вы обнимать меня после того подлого поступка, который только что совершили? Неужели в эгоизме своем вы пали так низко, что выбираете настоятелем не самого добродетельного и одаренного из монахов, но того, который более всего снисходителен к порокам и чужд великодушия? Так-то вы блюдете мой устав? Так-то сохраняете тот дух, какой хотел я насадить среди вас? Такими-то я обретаю вас после разлуки?
Затем он заговорил обо мне.
– Вот, – произнес он, указав на меня остальным, – тот, кто виновен больше других; ведь умом он взрослее вас и сознает зло, им совершенное. Вы берете с него пример, потому что знаете его за человека образованного и напитавшегося чужой мудростью. Вы уважаете его, но сам он уважает себя еще больше. Опасайтесь его; он гордец, а гордыня заглушает голос совести.
Я слушал эти слова, исполненный стыда и печали; прекрасный юноша бросал мне суровые упреки в эгоизме, в том, что я принес заботу о справедливости и любовь к истине в жертву пустому увлечению наукой; речь его была исполнена гнева, но по щекам текли слезы сочувствия. Я плакал еще горше, ибо змеи раскаяния вонзали свое жало в мое разбитое сердце. Тогда он с отеческой нежностью прижал меня к груди; впрочем, речи его, обращенные ко мне, звучали по-прежнему горестно.
– Я плачу о тебе, – повторил он мне несколько раз, – ибо самое большое зло ты причинил самому себе, и искупать эту ошибку тебе предстоит до конца своих дней. Разве имел ты право отьединиться от братьев и сказать: «Отныне все зло, какое будет твориться здесь, меня не касается, ибо я не разделяю верований этих людей, ибо они заслужили, чтобы с ними обращались как с собаками, а я тем временем буду наслаждаться покоем, книгами и свободой»? О Алексей! Несчастное дитя! Тебя ждет безотрадная старость, ибо ты разучился любить добро и ненавидеть зло, ибо долгу ты предпочел удовольствие и своими руками воздвигнул трон Ваала в монастыре, куда удалился ради того, чтобы насаждать добро и служить Богу истинному!
Как ни ворочался, как ни метался я в постели, пытаясь заглушить эти упреки, проснуться мне не удавалось: укоризненные речи, отличавшиеся удивительным правдоподобием, логичностью и точностью, преследовали меня безостановочно; они исторгали у меня слезы столь горькие и приводили меня в смятение столь ужасное, что я по сей день не могу сказать, что это было – сон или видение? Постепенно голос Спиридиона стал звучать глуше, а черты его лица сделались менее отчетливыми; тут к нему приблизился разъяренный Донасьен. Призывая своих мерзких приспешников, он кричал:
– Истребите его! Истребите его! Что делает он среди живых! Его место в могиле, его участь – небытие !
Монахи принесли дрова и факелы, намереваясь сжечь Спиридиона; однако на месте живого человека, который осыпал меня упреками и орошал слезами, я увидел портрет основателя монастыря; приверженцы Донасьена вырвали его из рамы и бросили в костер. Но лишь только огонь коснулся полотна, как свершилось ужасное чудо. Портрет вновь ожил; живой Спиридион ломал руки среди языков пламени и кричал:
– Алексей! Алексей! Это ты меня убиваешь!
Я бросился к костру, но нашел там лишь пепел от сгоревшего портрета. Несколько раз живой Эброний и безжизненное полотно, его изображающее, менялись местами перед моим изумленным взором: порой среди пламени мне являлось лицо учителя, обрамленное прекрасными белокурыми волосами, и взор мой встречался с его взором, полным боли и гнева, порой же я видел, как под грубый смех монахов в костре сгорает портрет основателя монастыря. Наконец я проснулся – весь в поту, едва живой от усталости. Подушка моя была мокра от слез. Я встал и подошел к окну. Занимавшийся день окончательно пробудил меня и развеял впечатления ночи, однако так неопровержимы, так справедливы были упреки, услышанные мною ночью и продолжавшие звучать в моем уме, что забыть их я не мог.
С тех пор меня начало мучить раскаяние. Я узнавал в зловещем сне голос моей совести, который кричал мне, что, какую религию ни исповедуй, какой философии ни придерживайся, вручать бразды правления мошеннику и вступать в торги с негодяем преступно. Разум на сей раз пребывал в полном согласии с совестью; он напоминал мне, что Спиридион был человеком справедливым, суровым, неподкупным, что он всей душой ненавидел ложь и эгоизм; разум говорил мне, что, даже оказавшись на этой грешной земле в самом ложном положении, среди самых развращенных существ, мы обязаны сражаться со злом во имя добра. Инстинктивная тяга к благородству и человеческому достоинству по-прежнему сохранялась в моей душе, и этот инстинкт подсказывал мне, что в тех случаях, когда сотворить добро не в наших силах, лучше умереть, сопротивляясь злу, чем жить, трусливо ему потакая. Ученые книги, о чтении которых я мечтал так страстно, мне опротивели. Угнетенная душа искала утешения в пустых софизмах и тщетно пыталась заслониться ими от недовольства самой собой. Пребывая в этом болезненном и мрачном расположении духа, я боялся стать жертвою новых галлюцинаций и несколько ночей подряд не смыкал глаз. В результате я впал в нервное возбуждение, оказавшееся еще хуже, чем сонная одурь. Призраки, которых я боялся, теперь являлись мне не во сне, а наяву и были еще страшнее прежних. Мне чудилось, что на всех стенах выступает написанное огненными буквами имя Спиридиона. Возмущенный собственным малодушием, я решил, что единственный способ положить конец всем этим мучениям – проявить мужество и забрать рукопись из гроба основателя монастыря. Я не спал уже три ночи. На четвертую ночь около полуночи я вооружился долотом, лампой, рычагом и, стараясь ступать беззвучно, проник в церковь, намереваясь увидеть останки, которым воображение мое вот уже шесть лет сообщало небесные черты и которые разуму моему надлежало исследовать спокойно и беспристрастно, с тем чтобы возвратить их в вечное небытие.
Добравшись до камня Hiс est, я без труда приподнял его и стал спускаться по лестнице; я помнил, что в ней двенадцать ступеней. Но не успел я пройти и половины пути, как рассудок мой начал мутиться. Не знаю, что со мной происходило: не испытай я этого на собственном опыте, я бы никогда не поверил, что за отвагой, воодушевляемой тщеславием, может скрываться столько малодушия и подлой трусости. Я дрожал, как в лихорадке, зубы мои стучали от страха; я выронил лампу; ноги больше не держали меня.
Человек прямодушный сразу смирился бы с неудачей и не стал продолжать попытку, оказавшуюся ему не по силам; он отложил бы намеченное предприятие до другого раза и терпеливо дожидался, пока рассудок его просветлеет. Но я стыдился самого себя, я ненавидел себя за проявленную слабость; воля моя желала сломить воображение и принудить его к покорству. Я продолжал спускаться по лестнице в потемках; вот тут-то рассудок окончательно изменил мне и оставил меня во власти иллюзий и призраков.
Мне чудилось, будто я по-прежнему иду вниз, будто я спускаюсь в царство Эреба. Когда я наконец достиг ровной поверхности, до слуха моего донесся мрачный голос, исходивший, казалось, из самых пропастей земли:
– Наверх ему не выйти.
И тотчас из невидимой бездны тысяча грозных голосов затянула в ответ странную песню:
– Истребим его! Его надобно уничтожить! Что делает он среди мертвецов? Его место – среди живых ! Его участь – страдания !
Тут тьму прорезал слабый луч света, и я увидел, что стою на последней ступеньке лестницы, широкой, как подножье горы. За моей спиной горели тысячи ступенек из раскаленного железа; передо мной простиралась эфирная бездна; над головой и под ногами у меня раскинулась одна и та же темно-синяя ночь. Голова у меня закружилась, и, даже не подумав о том, чтобы вернуться наверх, я с богохульными речами шагнул в пустоту. Но не успел я договорить свою святотатственную фразу, как пустота наполнилась смутными формами и красками, и постепенно передо мною начала вырисовываться гигантская галерея, под своды которой я вступил, объятый трепетом. Кругом по-прежнему было темно, но вдали горел красный огонь, освещавший причудливые и страшные очертания громоздкой постройки, словно высеченной в железной горе или среди сгустков черной лавы. Поначалу я не видел почти ничего, но чем дальше я шел, тем яснее представали моему взору предметы, меня окружавшие, и тем ужаснее они мне казались; с каждым шагом страх мой возрастал. Огромные столбы, поддерживавшие свод, и самые узоры этого свода представляли собою изображения людей исполинского роста, подвергаемых немыслимым мукам: одни, подвешенные за ноги и сдавливаемые чудовищными змеями, впивались зубами в мраморный пол; других, вросших по пояс в землю вниз или вверх ногами, тащили наружу, причиняя им бесчисленные страдания, человеческие особи, расположившиеся на потолке в виде капителей. Некоторые столбы были составлены из человеческих фигур, которые, сплетясь в смертельном объятии, пожирали друг друга; многие из них уже лишились ног, а иные и туловища, но головы их продолжали жить и яростно впиваться зубами в свою добычу. Были тут люди с наполовину содранной кожей, которые пытались оторвать оставшиеся лоскуты от капителей или цоколя, были и такие, которые вырывали клочья собственной кожи друг у друга из рук, и на лицах у них изображалась невыразимая ненависть и неизъяснимая мука. Вдоль фриза или, скорее, вместо фриза тянулись по обеим сторонам два ряда отвратительных существ, внешне похожих на людей, но чудовищно уродливых; они расчленяли трупы, пожирали человеческие члены, вытягивали из животов кишки, лакомились кровавыми лохмотьями. С потолка вместо розеток свисали изувеченные дети, которые, казалось, испускали жалобные крики и, пытаясь ускользнуть от пожирателей человеческой плоти, устремлялись вниз, предпочитая размозжить себе голову о мраморный пол.
Чем дальше я шел, тем больше все эти изваяния становились похожи на существа из плоти и крови; свет, мерцавший в глубине галереи, позволял увидеть, что выполнены они с правдоподобием, недоступным земным мастерам. Можно было подумать, что видишь живых людей, навсегда окаменевших в результате какого-то неведомого катаклизма и почерневших, словно обожженная глина. Так поразительно было выражение отчаяния, ярости или предсмертной муки на этих искаженных лицах; так точно было передано напряжение мускулов, ожесточение борьбы, трепет изнемогающей плоти, что никто не смог бы смотреть на все это без отвращения и ужаса. Пожалуй, оттого, что кругом царили тишина и неподвижность, зрелище это производило на меня впечатление особенно устрашающее. Я так обессилел, что остановился и готов был воротиться назад.
Но в эту минуту до слуха моего донесся смутный рокот, похожий на звук шагающей толпы; источник его был во тьме, там, откуда я пришел. Вскоре голоса сделались более отчетливыми, а крики более буйными; шаги звучали все громче и приближались с невероятной быстротой: толпа бежала нестройно, неровно, но с каждой минутой производимый ею шум становился все более близким, все более неистовым и все более грозным. Я решил, что эта бешеная толпа преследует меня, и в поисках спасения устремился в глубь галереи, окаймленной мрачными изваяниями. Однако тут мне стало казаться, что извания эти оживают, что они истекают потом и кровью, а зрачки их эмалевых глаз приходят в движение. Внезапно я понял, что все они следят за мной, все наклоняются ко мне – одни с омерзительным смехом, другие с неприкрытым отвращением. Все протягивали ко мне руки и, казалось, готовились раздавить меня своими трепещущими членами, которые они тщетно вырывали друг у друга. Были и такие, которые наступали на меня, держа в руках собственную голову или тела детей, выдранные из розеток на потолке.
Если взору моему представало чудовищное зрелище оживающих изваяний, то слух мой полнился зловещим шумом приближающейся погони. Передо мной располагались предметы ужасные, за мной слышались звуки еще более ужасные: смех, вой, угрозы, рыдания, богохульства, внезапно сменявшиеся несколькими мгновениями тишины, в течение которых толпа, казалось, оставляла позади огромные расстояния и в сотню раз сокращала дистанцию, отделявшую ее от меня.
Наконец шум приблизился настолько, что я потерял надежду спастись бегством и попытался укрыться среди столбов, поддерживающих своды галереи; но тут мраморные изваяния ожили окончательно и алчно устремили руки ко мне, располагая схватить меня и сожрать.
Тогда я снова выскочил на середину галереи, недосягаемую для статуй; толпа между тем приближалась, голоса ее заполняли пространство галереи, шаги ее сотрясали пол. Это напоминало бурю в лесной чаще, ураган в открытом море, извержение вулкана. Казалось, воздух в галерее раскалился; казалось, в ней задул ветер, клонящий долу все живое. Словно осенний листок, я понесся вдаль, подхваченный вихрем теней.
Все они были одеты в черное; горящие их глаза сверкали из-под темных капюшонов, словно глаза тигра из глубины его логова. Одни, казалось, пребывали во власти беспредельного отчаяния, другие предавались безумному, свирепому веселью, третьи молчали, но ожесточенное это молчание леденило мне кровь и страшило еще больше, чем крики горя или радости. Чем ближе подходили призраки, тем сильнее извивались и выгибались медные и мраморные изваяния; в конце концов им удавалось разомкнуть свои страшные объятия, вырвать ноги из мраморного пола, а руки и плечи из карнизов; те, чьи изувеченные тела распластались на потолке, также высвобождались и, по-змеиному сползая по стенам, спускались на землю. После чего все эти исполинские людоеды, все эти люди с содранной кожей и оторванными конечностями присоединялись к толпе призраков, увлекавшей меня с собой, и, окончательно ожив, принимались кричать и завывать точно так же, как и остальные; толпа эта разливалась во тьме, словно река, прорвавшая плотину, однако свет, мерцавший в конце галереи, по-прежнему манил ее к себе, и, распространяясь вширь, она, однако же, не переставала продвигаться вперед. Внезапно тусклый этот свет засиял ярче, и я понял, что мы добрались до цели. Толпа разделилась на несколько потоков, растеклась по боковым галереям, а передо мной в бесконечной дали возник памятник, какого человеческим рукам возвести не дано. Взору моему предстала внутренность готического храма, подобного тем, какие католики строили в одиннадцатом столетии, в ту пору, когда, достигнув вершины своего могущества, они принялись возводить эшафоты и разжигать костры. Стройные пилястры, стрельчатые арки, символические животные, причудливые орнаменты, – все чудеса гордой и своенравной архитектуры были здесь явлены в постройке таких гигантских размеров, что под ее сводами запросто поместился бы миллион человек. Свод этот, однако, был сделан из свинца, а верхние галереи, где толпился народ, имели потолки ниже человеческого роста, так что разглядывать то, что происходило у меня под ногами, в головокружительной глубине, мне приходилось, согнувшись в три погибели.
Поначалу я различал только стены храма: нижние его части растворялись во мраке, средние же были видны немного лучше благодаря красным огонькам, которые мерцали во тьме, словно отблески скрытого от моих глаз пожара. Постепенно этот зловещий огонь осветил всю внутренность здания, и взору моему предстало множество коленопреклоненных фигур; они располагались по краям нефа, а между ними медленно тянулась процессия священнослужителей в богатых одеждах; они направлялись в сторону хора, распевая на один и тот же лад:
– Истребим его! истребим его! то, что принадлежит могиле, должно уйти в могилу!
Мрачное это пение вновь пробудило мои страхи; я оглянулся и обнаружил, что нахожусь на галерее в полном одиночестве; толпа заполонила другие галереи и, кажется, не обращала на меня ни малейшего внимания. Тогда я вознамерился покинуть это страшное место, скрывавшее, как подсказывал мне внутренний голос, какую-то жуткую тайну. За моей спиной виднелось несколько дверей, однако все они находились под охраной омерзительных медных чудовищ, которые, ухмыляясь, обещали друг другу:
– Мы истребим его, разорвем на куски и сожрем!
Леденея от ужаса, я попытался спрятаться и сел на корточки около каменной балюстрады. То, что должно было свершиться, страшило меня так сильно, что я закрыл глаза и заткнул уши. Натянув поглубже капюшон и уткнув голову в колени, я попытался убедить себя, что все увиденное – не более чем сон, что на самом деле я сплю у себя в келье и стоит мне проснуться, как кошмар окончится. Я страстно желал пробудиться и уже решил было, что мне это удалось, но, открыв глаза, обнаружил себя в той же самой галерее, в окружении тех же самых призраков, что меня туда привели; между тем процессия священнослужителей дошла до середины хора, где свершалась ужасная сцена, которой я никогда не забуду. В самом центре, окруженный толпою священников, стоял гроб, в котором покоился человек, и человек этот был жив. Он не жаловался, не сопротивлялся, но из груди его вырывались сдавленные рыдания и глубокие вздохи, тонувшие в безмолвии храма. Толпа взирала на гроб угрюмо и бесчувственно, не произнося ни слова, а священники держали наготове гвозди и молотки, чтобы заколотить гроб сразу после того, как из груди лежащего в нем человека вырвут сердце. Все по очереди погружали окровавленные руки в раскрытую грудь мученика, все рылись в его утробе и выворачивали ее наизнанку, но никому не удавалось совладать с непобедимым, неприступным сердцем. Время от времени палачи испускали яростный вопль, ответом которому служили проклятия и свист, доносившиеся с галерей. Что же касается коленопреклоненных людей, то они предавались размышлениям и молитвам, не шевелясь и не обращая внимания на мерзости, происходившие в непосредственной близости от них.
Внезапно один из палачей, как был весь в крови, приблизился к балюстраде, отделяющей хор от нефа, и обратился к коленопреклоненной толпе:
– Возлюбленные братья, христиане набожные и чистые, молитесь! Не жалейте молений и слез, дабы свершилось чудо и вы смогли бы вкусить тело и испить кровь Христа, божественного нашего Спасителя.
Тут верующие начали молиться вполголоса, бить себя в грудь и посыпать голову пеплом, палачи же продолжали терзать несчастного, который со слезами в голосе повторял одни и те же слова:
– О Боже, спаси этих жертв невежества и лжи!
Мне казалось, что эхо, отражавшееся от сводов, таинственным голосом шепчет эти слова мне на ухо. Я, однако, был объят таким ужасом, что, вместо того чтобы ответить мученику и возвысить голос против его мучителей, не сводил глаз с призраков, меня окружавших, ибо опасался, как бы они не догадались, что я им чужой, и не набросились на меня.
Затем я опять попытался проснуться, и на несколько мгновений воображение мое принялось рисовать мне сцены счастливые и радостные. Стояло прекрасное утро, я находился в своей келье, в окружении любимых книг… однако новый стон жертвы прервал это сладостное видение, и глазам моим опять предстала бесконечная агония и безжалостные палачи. Я смотрел на несчастного, которого они терзали, и мне казалось, что он все время меняет облик. Сначала то был Христос, потом Абеляр, потом Ян Гус, потом Лютер… Я опять попытался отвести взор от этого отвратительного зрелища, и мне показалось, что я вновь вижу солнечный свет и прелестную поляну, по которой мне так легко и приятно бежать. Но свирепый хохот очень скоро положил конец этой обольстительной иллюзии, и я догадался, что человек, чье сердце тщетно пытаются вырвать из груди подлые палачи, есть не кто иной, как Спиридион. Затем Спиридион превратился в старого Фульгенция; он взывал ко мне, он вопрошал:
– Алексей! Сын мой Алексей! Неужели ты не придешь мне на помощь? неужели ты не спасешь меня?
Не успел он произнести мое имя, как я увидел на его месте в гробу себя самого; это моя грудь была раскрыта, это в мое сердце впивались когти и клещи. А между тем я по-прежнему находился на галерее, я по-прежнему сидел на корточках подле балюстрады и оттуда наблюдал, как другой «я» претерпевает смертную муку. Кровь заледенела у меня в жилах, холодный пот омыл все мое тело, и я едва не лишился чувств: теперь от тех пыток, которым подвергали моего призрака, страдала моя собственная плоть. Собрав последние силы, я попытался в свой черед воззвать к Спиридиону и Фульгенцию. Глаза мои закрылись, а губы машинально пробормотали какие-то слова, неведомые разуму. Когда я открыл глаза, то увидел подле себя прекрасную коленопреклоненную фигуру. Человек этот был совершенно спокоен и даже не смотрел в мою сторону. Взгляд его был устремлен к свинцовому своду, я взглянул туда же и увидел широкое отверстие, сквозь которое в храм проникал солнечный свет. Свежий ветер легонько шевелил золотые кудри человека, чьи черты были исполнены невыразимой печали, смешанной с надеждой и жалостью.
– О ты, чье имя мне известно, – прошептал я ему, – ты, остающийся невидимым для всех этих страшных призраков и являющийся мне одному, ибо я знаю и люблю тебя! Спаси меня от этих ужасов, избавь меня от этой пытки!..
Он обернулся и взглянул на меня; в светлых бездонных глазах его читалось разом и сочувствие к моим страданиям, и презрение к моей слабости. Затем с ангельской улыбкой он простер руку, и все призраки растворились во тьме. Теперь до моего слуха доносился только его голос, голос друга; вот что он говорил:
– Все увиденное тобою – не что иное, как порождение твоего мозга. Страшный сон, от которого ты пытался избавиться, есть плод твоего воображения. Пусть же это научит тебя смирению; вспоминай о слабости своего духа всякий раз, как решишь взяться за дело, которое тебе еще не по силам. Демонов и призраков рождают на свет фанатизм и суеверие. Много ли пользы принесла тебе твоя философия, если ты до сих пор не научился отличать чистые откровения, ниспосылаемые тебе Небом, от грубых наваждений, внушаемых страхом? Заметь: все, что тебе примерещилось, происходило в твоей собственной душе; обманутые твои чувства просто-напросто сообщили форму мыслям, уже давно тебя тревожившим. Медные и мраморные изваяния, пожирающие ближних и пожираемые ими, – это символ душ, изувеченных католицизмом и ожесточившихся под его влиянием, это образ борьбы, которую вели в недрах оскверненной Церкви целые поколения, пожиравшие друг друга, вымещавшие друг на друге причиненное им зло. Толпа разъяренных призраков, увлекшая тебя за собой, – это безверие, буйство, атеизм, лень, ненависть, алчность, зависть и все прочие дурные страсти, которые забрали власть над Церковью после того, как Церковь утратила веру; череда страдальцев, чье сердце пытались вырвать священнослужители, – это Христы, мученики, отдающие жизнь за новую истину, это святые грядущих времен, терзаемые обманщиками, завистниками и предателями. Объятый благородным честолюбием, ты увидел в этом окровавленном гробу себя самого, ты вообразил самого себя жертвою гнусного духовенства и бессмысленного народа. Однако ты раздвоился в собственных глазах, и в то время, когда прекраснейшая половина твоего существа мужественно сносила пытку и отвергала сговор с фарисеями, другая, подлая и эгоистичная, пряталась в тени и, дабы не попасть в руки врагов, оставалась глуха к мольбам старого Фульгенция. Ибо – о Алексей! – любовь к истине сумела уберечь твою душу от низких страстей черни, но – о монах! – забота о собственном благополучии и собственной свободе сделала тебя сообщником лицемеров, среди которых ты обречен жить. Пробудись же и постарайся обрести в добродетели ту истину, какую ты не сумел отыскать в науке.
Не успели замолкнуть звуки его речи, как я проснулся и обнаружил себя в монастырской церкви подле наполовину поднятой могильной плиты, украшенной словами Hiс est veritas. Уже рассвело; за окнами весело щебетали птицы; недавно вставшее солнце бросало пурпурно-золотые лучи в глубь хора. Я совершенно ясно увидел, как тот, кто говорил со мной, вошел внутрь солнечного луча и растворился в нем, словно смешавшись со светом небесным. Я с ужасом ощупал свое тело. Оно отяжелело от смертного сна, окоченело от могильного холода. Колокол сзывал монахов к заутрене; я поспешил поставить могильный камень на место и успел выйти из церкви прежде, чем туда вошла горстка истовых богомолов, не пропускавших ни одной утренней службы.
Назавтра тело мое испытывало величайшую усталость, а душу тяготили мрачные воспоминания. Многообразные чувства, пережитые мною, приводили в смятение изнуренный мозг. Мне казалось, что и отвратительный кошмар, и небесное видение суть порождения болезненной фантазии; я отрекался и от того, и от другого и был склонен объяснять свое спасение исключительно просветлением собственных мыслей и утренней прохладой.
Начиная с того дня я мечтал лишь об одном, стремился лишь к одному – мне надобно было охладить мое воображение так же, как я охладил свое сердце. Я полагал, что, если раньше я отринул католическую веру, дабы открыть моему уму поприще более обширное, теперь я должен отринуть всякий религиозный энтузиазм, дабы вывести мой разум на дорогу более прямую, поставить его на почву более твердую. Новейшая философия не сумела побороть суеверий, живших в моей душе; я решил обратиться к истокам этой философии и принялся изучать те труды, из которых выросли несовершенные доктрины, меня пленившие. Я прочел Ньютона, Лейбница, Кеплера, Мальбранша, а главное – отца геометров Декарта, прочел всех тех, чьими стараниями была подорвана вера в традицию и откровение. Я убедил себя в том, что, опираясь на опыты естествоиспытателей и рассуждения метафизиков, я не только обрету доказательства бытия Божия, но и сумею наконец обрести Бога своей мечты – покойного, неколебимого, бесконечного.
Тогда наступила для меня пора новых трудов, новых забот и новых страданий. Я полагал, что мой ум сильнее ума тех мыслителей, у которых я желал научиться вере; я знал, что они, желая доказать существование Бога, потеряли веру в Него; но я приписывал это роковое заблуждение ослаблению их умственных способностей – неизбежному следствию усиленных занятий. Я намеревался более бережно тратить силы, избегать мелочной дотошности, какой иногда грешили мои чересчур обстоятельные предшественники, без колебаний отбрасывать все их многочисленные натяжки – одним словом, одолеть одним махом ту дорогу, по которой они двигались с черепашьей скоростью. Гордыня, как и всегда, сослужила мне дурную службу; это обнаружилось очень скоро. Мне так и не удалось превзойти своих учителей твердостью и решительностью; вместо того чтобы исполнить хвастливые обещания и подняться на вершину горы, я скатился в болото, да там и застрял. Громады науки подобны скалам; ум способен их одолеть, чувство же остается у их подножия; я взобрался наверх, но атеизм вскружил мне голову. Гордясь тем, что я поднялся так высоко, я не понял, что достиг самое большее первой ступени той науки, что занята познанием Господа; я мог более или менее логично объяснить устройство мира, но не мог постичь ту мысль, какой руководствовался его творец. Я охотно соглашался видеть в мире всего лишь машину; мне казалось, что мысль Господня не имеет ни к созданию, ни к существованию мира никакого отношения и я спокойно могу ею пренебречь. Постепенно я привык доверяться очевидности и презирать голос чувства – как если бы чувство не лежало в основе всякого достоверного знания. Одним словом, способ видеть, разбирать и описывать вещи, мною избранный, был узок и груб, и я сделался самым упрямым, тщеславным и ограниченным из ученых.
В этих невидимых миру трудах я провел десять лет – десять лет, выброшенных в бездну, по краям которой не взросло ни единой травинки. Не зная устали, я сражался с холодным разумом. Чем ближе, однако, становилась безрадостная победа, тем сильнее она страшила меня; я спрашивал себя, что же сделаю я со своим сердцем, если оно когда-нибудь очнется. Впрочем, постепенно восторги тщеславия заглушили эту тревогу. Мало кто сознает, как опрометчиво и легкомысленно может вести себя человек, по видимости погруженный в занятия самые серьезные. Побежденная трудность имеет огромную власть над людьми, которые посвятили себя естественным наукам; мимолетный триумф ума пьянит так сильно, что в жертву ему без колебаний приносится все: доводы рассудка, порывы сердца, целомудрие души. Чем чаще вкушал я подобные триумфы, тем более химерическими казались мне те победы, о каких я мечтал прежде. Наконец я убедил себя, что эти последние не только недостижимы, но еще и бесполезны; я решился оставить поиск метафизических истин, к которым обращался мыслью все реже и реже, и всецело предаться штудиям физическим. Я изучал тайны природы, движение и покой небесных тел, неизменные законы, управляющие миром как в безграничных просторах, так и в едва заметных мелочах; я различал повсюду железную руку некоего исполина, глубоко равнодушного к благородным чувствам человеческим, беспредельно щедрого и неистощимо изобретательного во всем, что касается удовлетворения материальных нужд человека, однако хранящего непреклонное молчание относительно всего, что касается его нравственного существа, его непомерных желаний, чтобы не сказать – непомерных потребностей. Разве, думал я, та жадность, с которой иные избранные представители рода человеческого стремятся установить сношения с Божеством, не свидетельствует об изъяне их мозга? Разве нельзя уподобить этих людей растениям с неправильным развитием или животным с неумеренными инстинктами? Разве не гордыня – другой недуг, присущий большинству смертных, – заставляет этих людей расписывать яркими красками и цветистыми фразами умственную горячку, свидетельствующую не столько о силе и здоровье, сколько о слабости и усталости? Нет, восклицал я, желание воспарить к небу есть желание бесстыдное и безумное, а главное – жалкое. Всякий школяр, имеющий хотя бы смутное понятие об устройстве небесной сферы, знает, что неба этого не существует! Только чернь верит, будто из грубого фимиама, возносящегося с земли, на небе воздвигнут трон, а на нем, затерянный в воздушных просторах, словно песчинка на склонах гор Атласских, восседает идол, скроенный по образу и подобию земных людей! Только толпа воображает, будто после смерти души человеческие, словно перелетные птицы, отправляются в путь по небу – бесконечному воздушному эфиру, усеянному неисчислимыми светилами и мирами, – из дома в дом, из края в край; только жалкие риторы от богословия убеждены, что созвездия будут служить им жильем, а солнечные лучи – одеждой! Небо и человек – это все равно что бесконечность и атом! Как же можно их сравнивать, как можно их противопоставлять! Кому первому взбрела на ум мысль столь смешная, столь безрассудная? А нынче? Подумать только, папа, именующий себя царем душ человеческих, настежь открывает своим ключом врата вечности всякому, кто преклоняет колени перед ним и просит: «Впустите меня!»
Таков был ход моих мыслей, и мысли эти сопровождались горьким смехом; швыряя на землю возвышенные сочинения отцов церкви и философов-спиритуалистов всех времен и народов, я с яростью топтал их ногами и повторял любимую фразу Эброния, которая, как мне казалось, таила в себе решение всех моих проблем: «Сколько невежества! Сколько лжи!»
– Ты бледнеешь, дитя мое, – обратился Алексей ко мне, на мгновение прервав свое повествование, – твоя рука дрожит в моей, а глаза смотрят на меня растерянно и тревожно. Успокойся, не бойся стать жертвою тех же заблуждений: рассказ мой, надеюсь, убережет тебя от них.
Человек не ведает мыслей Господних и часто отрицает само их существование, однако, на его счастье, Господь сотворил не только мир, но и людей, его населяющих, с любовью и тщанием. Он наградил людей способностью стремиться к добру и раскаиваться во зле. Если в обществе человек зачастую ощущает себя для общества потерянным, в одиночестве он никогда не остается потерянным для Бога, ибо до тех пор, пока жизнь теплится в его груди, в груди этой могут зазвучать неведомые струны, и много струн разорвется в душе человека, полюбившего истину, до тех пор, пока за ним не придет смерть. Часто возвышенные способности человеческие дремлют, подобно зерну в лоне земли, и лишь после долгого сна расцветают с нежданным блеском. Потому-то я и ставлю так высоко уединение и покой, потому-то и продолжаю хранить верность монашеским обетам, что знаю, как никто, не только опасности, которыми чреваты эти долгие беседы один на один с собственной совестью, но и победы, которыми они увенчиваются. Живи я в миру, я бы погиб безвозвратно. Люди истребили бы во мне те добрые задатки, какие вложил в меня Господь. Я не выдержал бы искушения суетной славою, любовь моя к науке, питаясь чужим одобрением, разрасталась бы и крепла, так что я жил бы, пьянея от ложной радости и не ведая счастья истинного. Иное дело жизнь монастырская: никем не понимаемый, предоставленный самому себе, побуждаемый к изысканиям исключительно собственной гордостью и собственной любознательностью, я в конце концов утолил свою жажду и пресытился уважением к самому себе. Пребывая в разлуке с небесным другом, я ощутил потребность поделиться своими радостями и горестями с каким-нибудь земным существом, – ощутил безотчетно и помимо воли. Гордыня и надменность сделались из свойств ума также и чертами моего характера; вдобавок жил я в окружении людей, с которыми не имел ничего общего: ответом на мои сердечные излияния стали бы грубость и злоба. Впрочем, это, пожалуй, уберегло меня от многих бед. Общество людей умных разожгло бы во мне жажду беседы, потребность в споре, и это лишь утвердило бы меня в моей склонности к отрицанию; напротив, долгими вечерами, проведенными в одиночестве, я, несмотря на безраздельную преданность атеизму, ощущал порой приливы страстной любви к тому самому Богу, веру в которого именовал заблуждением молодости, и, как бы ни презирал я себя в эти мгновения, не подлежит сомнению, что именно тогда я вновь становился добр, именно тогда сердце мое храбро сопротивлялось собственному разрушению.
В тяжких болезнях наступает такой период, когда сильное ухудшение оборачивается значительным улучшением; страшный кризис сменяется чудесным выздоровлением. В пору, предшествовавшую моему возвращению к вере, я почитал себя убежденным адептом чистого разума. Я сумел полностью заглушить в себе голос сердца и находил удовольствие в презрении к каким бы то ни было верованиям, в забвении каких бы то ни было религиозных чувствований. Но не успел я ощутить эту безграничную философическую мощь, как меня охватило отчаяние. Однажды несколько часов подряд я обдумывал некий научный вопрос; мысль моя работала с небывалой четкостью, и я в очередной раз, причем яснее, чем когда-либо, ощутил всемогущество материи и невозможность существования иного творца и зиждителя, кроме той силы, которую я, прибегая к языку естествоиспытателей, именовал витальными свойствами материи. В эту-то самую минуту ледяной холод пронизал все мое тело, и я слег в постель со всеми признаками горячки.
Прежде я никогда не заботился о своем здоровье. Болел я долго и трудно. Жизни моей ничто не угрожало, однако нестерпимые боли не позволяли мне предаваться занятиям умственным. Глубочайшая скука овладела мною; бездействие, одиночество и страдания навевали на меня смертную тоску. Я не желал ничьей помощи, однако настоятель, движимый деланным сочувствием, подослал ко мне послушника по имени Христофор, чтобы тот ходил за мной. Мне пришлось согласиться терпеть его общество по ночам; меня мучила страшная бессоница, Христофор же, являвшийся якобы за тем, чтобы помочь мне скоротать время, каждый вечер забывался рядом с моей постелью тяжелым, глубоким сном. Христофор этот был человек превосходнейшего нрава и ограниченнейшего ума. Монахи прощали ему чрезвычайную тупость за чрезвычайную же доброту. Обращались они с ним как с неким домашним животным – работящим, зачастую очень полезным и неизменно безобидным. Жизнь его представляла собою непрерывную цепь благодеяний и самопожертвований. Поскольку монахи постоянно прибегали к помощи Христофора, он уверовал в свою незаменимость, и эта вера, которую я ни в малейшей степени не разделял, раздражала меня особенно сильно. Тем не менее чувство справедливости, которое атеизм не смог истребить в моей душе, заставляло меня сносить общество Христофора терпеливо и кротко. В первое время мне случалось вспылить и выгнать его из моей кельи. Он, однако, нисколько не обижался на меня и тревожился лишь о состоянии моего здоровья; он гнусавым голосом затягивал у меня под дверью долгую молитву, а наутро я обнаруживал, что он никуда не ушел и спит, сидя на лестнице и уткнув голову в колени; конечно, ему было холодно и неуютно, но он не смел провести в своей постели те часы, которые рассчитывал посвятить мне. Терпение и самоотвержение этого человека покорили меня. Чтобы доставить ему удовольствие, я сносил его общество; ведь, к моему великому сожалению, других больных в ту пору в монастыре не имелось, а когда Христофору не за кем было ходить, он становился несчастнейшим человеком в мире. Постепенно общество Христофора и его собачки, которая настолько сжилась с хозяином, что переняла его характер и его обыкновения и, кажется, отличалась от него только неумением готовить больным отвар и щупать пульс, сделалось для меня привычным. Эти двое пробуждались и отходили ко сну одновременно. Когда монах ходил по комнате на цыпочках, собачка тоже старалась производить как можно меньше шума; если хозяин засыпал, животное мирно следовало его примеру. Когда Христофор молился, Бакко с важным видом усаживался перед ним и, навострив ушки, самым внимательным образом следил за движениями рук и головы молящегося. Когда же Христофор обращался ко мне с глупыми утешениями и избитыми уверениями в том, что я скоро поправлюсь, Бакко становился на задние лапы подле моей постели и, очень аккуратно и деликатно опираясь о нее передними лапами, принимался с величайшей нежностью лизать мне руку. Я так привык к этой паре, что уже не мог обходиться без них. Пожалуй, в глубине души я отдавал предпочтение собаке, ибо она была гораздо умнее хозяина, не храпела во сне, а главное, не умела разговаривать.
Физические страдания мои тем временем сделались поистине нестерпимы. К концу года я так измучился, что не имел сил даже желать смерти: ведь она могла причинить мне мучения еще более страшные. Теперь пределом мечтаний стало для меня простое отсутствие боли. Я был так плох, что постоянно нуждался в присутствии Христофора. Мне нравилось смотреть, как он ест: его здоровый аппетит забавлял меня. Все, что раньше коробило меня в нем, теперь стало казаться мне привлекательным, – все, включая тяжелый сон, бесконечные молитвы и нелепые истории, которыми он пытался меня позабавить. Я получал удовольствие даже от его уговоров и каждый вечер нарочно отказывался пить микстуру, после чего он добрых четверть часа без устали донимал меня своими глупыми увещеваниями и простодушными уловками, которые представлялись ему верхом хитрости. То было мое единственное развлечение, дарившее мне толику веселья, и добряк, судя по всему, об этом догадывался, хотя губы мои, увядшие, искаженные болью, разучились улыбаться.
Лишь только я начал выздоравливать, как грянул гром: в монастыре началась эпидемия страшной, неизлечимой болезни. Она обнаружилась внезапно; спастись от нее было невозможно. Одним из первых заболел мой бедный Христофор. Я позабыл о собственной немощи и о грозившей мне опасности; покинув свою келью, я провел три дня и три ночи подле его постели. На четвертую ночь он испустил дух у меня на руках. Смерть эта потрясла меня так сильно, что я сам оказался на краю могилы. Тем не менее мне удалось выжить; во мне совершилась удивительная перемена: я выздоровел быстро и окончательно; но этого мало: нравственное существо мое очнулось после долгого сна, и, впервые за долгие годы, я сердцем почувствовал людские беды. После смерти Фульгенция Христофор был единственным человеком, к которому я привязался. Быстрая и горестная его кончина напомнила мне о первом моем друге, о моей молодости, набожности, чувствительности – обо всех тех усладах, которые я потерял навсегда. Я возвратился в свою уединенную келью, но теперь одиночество не радовало, а страшило меня. За мной последовал Бакко: я был последним больным, которого пользовал его хозяин, пес привык находиться в моей келье и, кажется, хотел полюбить меня так же сильно, как любил Христофора, но ему это не удалось: горе его оказалось безутешным. Пес не спал, постоянно обнюхивал кресло, в котором обычно засыпал его покойный хозяин и которое я ставил по ночам у изголовья своей постели в память о моем бедном друге. Бакко охотно принимал мои ласки, но тревога не покидала его. При малейшем шорохе он вскакивал и со смесью надежды и отчаяния смотрел на дверь. В эти минуты я испытывал неодолимую потребность говорить с Бакко, как с разумным существом.
– Он не придет, – убеждал я пса, – теперь ты должен любить одного меня.
Я уверен, что он меня понимал: при этих словах он подходил ко мне и с видом грустным и покорным лизал мне руку. Затем он пробовал заснуть, но спал беспокойно и во сне издавал слабые стоны, надрывавшие мне душу. Когда же он потерял всякую надежду увидеть того, кого не переставал ждать, он решил умереть. Лежа в кресле своего хозяина, он отказывался от еды и в конце концов угас, глядя на меня укоризненно, как будто именно я был причиной его горя, виновником его смерти. Когда глаза его закатились, а тело похолодело, я не смог сдержать потока слез; я плакал еще горше, чем в день смерти Христофора. Мне казалось, что я потерял друга во второй раз.
Происшествие это, на первый взгляд столь незначительное, окончательно низвергло меня с высоты, куда я вознесся на крыльях гордыни, в бездну отчаяния. Много ли пользы видел я от этой гордыни? Много ли проку видел я от своего ума? Болезнь поразила мой гордый ум бессилием; смирение добросердечного человека, верность любящего животного помогли мне куда больше, чем все мои познания. Теперь, когда смерть разлучила меня с теми двумя, кого я любил, разум, который я поставил на место Бога, твердил мне взамен утешения, что эти предметы моей сердечной привязанности исчезли бесследно и потому мне надлежит начисто их забыть. Смириться с этим абсолютным исчезновением я не мог, а между тем наука моя запрещала мне в нем сомневаться. Я попытался продолжить свои ученые занятия, надеясь таким образом побороть терзавшую меня тоску; однако это позволяло мне скоротать всего несколько часов. Лишь только я возвращался в свою келью, лишь только укладывался в постель, одиночество принималось терзать меня с новой силой; словно малое дитя, я обливал слезами подушку; я сожалел о физических страданиях, которые некогда казались мне нестерпимыми; теперь я охотно согласился бы терпеть их вновь, будь мне при этом позволено вновь увидеть подле себя Христофора и Бакко.
Именно в ту пору я всем существом почувствовал, что дружба существа самого незначительного есть дар более драгоценный, нежели все открытия гения; что самое простое движение души приносит отраду более сладостную и более насущную, нежели все обольщения тщеславия. Нутро мое подсказало мне, что человек создан для любви, а одиночество, не скрашенное ни верой, ни любовью Божественной, есть не что иное, как могила, вдобавок лишенная загробного покоя! Вновь обрести веру я даже не мечтал; эта прекрасная греза, к великому моему сожалению, растаяла навеки; то, что я именовал моим разумом и моими познаниями, изгнало ее из моей души безвозвратно. Мне суждена была бесплодная жизнь в иссушающем мире. Отчаяние внушало мне замыслы самые безрассудные. Я был готов оставить монастырь, броситься в вихрь света, предаться пьянству или даже разврату – лишь бы убежать от самого себя. Впрочем, желания эти угасли очень быстро; слишком рано я задушил в себе страсти – воскресить их я был не в силах. Самый атеизм, плод ученых занятий и глубоких размышлений, лишь укрепил во мне привычку к аскетическому образу жизни. А кроме того, какие бы превращения я ни претерпевал, ничто не могло вытравить из моей души тягу к прекрасному, потребность в идеале; ум сколько-нибудь возвышенный подобные чувства отринуть не способен. Я больше не обольщался грезами относительно божественного совершенства; но один только вид мира материального, одно только величие звездного неба и стройность законов мироздания вселяли в меня такую страстную любовь к порядку, долговечности и красоте всего сущего, что любая попытка покуситься на эти возвышенные, гармонические идеи вызывала во мне непреодолимое отвращение.
Я попытался отыскать новые предметы сердечной привязанности; в монастыре мне их найти не удалось. Повсюду я встречал злобу и хитрость; когда же мне попадались люди более простодушные, за кротостью их я очень скоро различал трусость. Я попытался свести знакомство с мирянами. Во времена аббата Спиридиона все выдающиеся люди из числа местных жителей и образованных путешественников имели обыкновение посещать наш монастырь, невзирая на то, что он расположен в местности дикой и труднодоступной. Однако с тех пор, как обитель наша сделалась рассадником лени, невежества и пьянства, сюда изредка забредали лишь люди равнодушные либо праздно-любопытные, да и те по чистой случайности. Мне некому было открыть душу, и я предавался унынию в полном одиночестве.
Недели, месяцы напролет я жил, не зная радости, но, пожалуй, не испытывая и горя: душа моя, истомленная скукой, разучилась чувствовать. Наука утратила для меня всякую привлекательность и постепенно сделалась мне противна: она только и могла, что напоминать мне о страшном уделе человека, который живет на земле, обреченный на страдания и гибель, не имея будущего, не питая надежд, не ожидая воздаяния. Я спрашивал себя, для чего же в таком случае жить, но не понимал также и для чего умирать. Смысла не было ни в том, ни в другом, и потому я наблюдал, как течет время и выпадают мои волосы, не противясь этому медленному дряхлению тела и души, призванному в конце концов даровать мне покой – вечный и печальный.
Наступила осень, и вид увядающей природы немного смягчил горечь моих мыслей. Мне нравилось ступать по сухой листве и следить за стаями перелетных птиц, которые ровными рядами двигались к югу и оглашали окрестность тревожными криками. Я завидовал этим созданиям, которые повинуются инстинктам и не знают, что такое неудовлетворенные желания, ибо желают лишь того, что им по силам; конечно, им постоянно приходится защищать свою жизнь, зато они не знают скуки – томительнейшей из мук. Нравилось мне и любоваться цветением последних осенних цветов. Даже этим эфемерным созданиям, думал я, выпала участь счастливее участи человеческой; я привязался к ним и поспешил обнести изгородью возделанный мною уголок сада, чтобы ничья грубая нога не растоптала мои посадки, ничья святотатственная рука не покусилась на мои цветы. Праздношатающихся монахов я отгонял от своего цветника так яростно, что, к великой радости настоятеля, был сочтен помешанным.
Осенними вечерами воздух свеж, но приятен; днем я работал в саду, надеясь, что физическая усталость прогонит бессонницу, а на закате нередко ложился на скамейку, которую сам же сложил из дерна, и надолго погружался в смутные мечтания. Мысли мои уносились вдаль, подобно листьям, сорванным с дерева осенним ветром; я привыкал вести растительный образ жизни; мне хотелось разучиться думать. Постепенно я впадал в забытье, которое нельзя назвать ни явью, ни сном, ни страданием, ни блаженством; иных, более острых наслаждений я уже не искал. Мало-помалу я начал с большей легкостью впадать в это оцепенение и находить в нем известную приятность. Особенное удовольствие доставляла мне возможность не вспоминать о прошлом и не опасаться будущего. Я всем своим существом предавался настоящему. Я постигал жизнь природы, наблюдал за мельчайшими подробностями ее бытия, проникал в самые сокровенные ее тайны. Я вслушивался в ее прихотливую музыку, и сознание моей причастности к этой гармонии, недоступной умам суетным, отвлекало меня от мыслей о самом себе. Благостные эти восторги облегчали томление сердца, не знающего, кого любить и кем восхищаться. Я любовался изяществом ветки, нежно колеблемой ветром, я со слезами на глазах внимал слабому и печальному пению кузнечика. Я благодарил цветы за их ароматы, я гордился их красотой, которую взращивал и лелеял. Впервые за долгие годы я вновь ощутил, какой поэтической может быть жизнь в монастыре, в этом святилище, выстроенном на возвышенности, дабы человек, удалившись от мирского шума, предавался там созерцанию небесной сферы. Ты знаешь то место над морем, где стоит белая мраморная беседка, увитая виноградом. Там растут четыре пальмы – их посадил я; там же росли некогда и мои цветы, от которых нынче не осталось и следа; теперь место моей клумбы и прекрасного сада, разбитого Эбронием, занял монастырский огород. В пору, о которой я веду речь, место это, по признанию редких путешественников, его видевших, было одним из живописнейших уголков на земле. В то время воды мраморных фонтанов, которые теперь служат для удовлетворения нужд низменных и презренных, струились лишь для услаждения музыкального слуха истинных ценителей. Прозрачная родниковая вода падала из одной красномраморной раковины в другую и скрывалась под сенью кипарисов и смоковниц, унося с собой свою тайну. Ветви лимонов и цератоний низко нависали над цветником и, переплетаясь, укрывали его, к моей радости, от посторонних взоров. Впрочем, с той стороны, где склон горы отвесно спускается к берегу, я оставил проем среди деревьев: в этой раме из цветов и листьев взору моему представало величественное зрелище морских волн, которые разбивались о прибрежные скалы, а на горизонте вспыхивали огнем заката или рассвета. Погруженный в бесконечные грезы, я проводил в своем саду дни и ночи напролет; здесь, думал я, мне открывается гармония, невнятная грубым чувствам прочих людей, здесь до слуха моего доносится и жалобная песнь, принесенная южными ветрами с мавританского берега, и песнопение затерянного среди бесплодных громад Атласских гор безвестного дервиша, который ведет жизнь нищую и отшельническую, но вкушает куда больше радостей, чем я, ведущий жизнь сытую и безбедную, ибо он верит, а я нет.
Мало-помалу мельчайшие перемены в жизни природы наполнились для меня глубоким смыслом. Отдаваясь своим впечатлениям с тем простодушием, на какое способны лишь люди, испившие чашу уныния до дна, я нечувствительно раздвигал узкие рамки достоверного до более широких рамок возможного, а вскоре возможное, воспринятое любящим сердцем, открыло мне еще более широкие горизонты – те, каких разум мой не дерзал даже вообразить. Во всем, что прежде казалось мне достоянием слепого рока, я находил теперь следы таинственного промысла. Мне открылся смысл счастья, который я так бездарно позабыл. Прежде я размышлял только о страданиях живых существ, теперь я обратил свой взор на их радости и поразился тому, как равномерно распределены среди смертных те и другие. Все живые существа, обретя новый облик и новый голос, поведали мне секреты, о каких холодное и поверхностное наблюдение, принимавшееся мною за науку, не могло дать мне ни малейшего понятия. Природа развернула передо мною список бесконечных тайн и опровергла скороспелые суждения людей полуобразованных. Одним словом, жизнь обрела в моих глазах священный характер и великую цель, какой не могли сообщить ей ни религия, ни наука и о какой мой заблудший ум смог узнать лишь от моего прозревшего сердца.
Однажды вечером я вслушивался в рокот морских волн, лениво набегающих на песчаный берег; я пытался понять, отчего через равные промежутки времени море, словно следуя какой-то вечной мелодии, посылает на сушу три волны выше и сильнее остальных; тут до меня донесся голос рыбака, который, растянувшись на корме лодки, обращал свою песню к звездам. Конечно, мне и прежде не раз доводилось слышать пение рыбаков – и этого певца, возможно, ничуть не реже других. Слух мой, однако, оставался невосприимчив к музыке, а мозг – к поэзии. Народные песни казались мне выражением одних лишь грубых страстей, и я от всей души презирал их. В тот вечер я, как обычно, испытал раздражение при звуках голоса, который заглушал шепот волн и мешал мне размышлять о них. Однако спустя несколько мгновений я заметил, что рыбак невольно следует в своей песне ритму морских волн, и подумал, что, возможно, слышу одного из тех великих, истинных художников, воспитанием которых занимается сама природа и которые по большей части живут и умирают в безвестности. Поскольку догадка эта вполне соответствовала обычному ходу моих тогдашних размышлений, я стал терпеливо слушать полудикое пение этого полудикого музыканта, который неспешно и печально восхвалял тайны ночи и ласки ветра. В стихах его было мало рифм и мало складу, в словах – мало смысла и еще меньше поэзии, однако колдовская прелесть его голоса, простодушное обаяние ритма и удивительная красота напева, печального, тягучего и монотонного, словно мелодия моря, поразили меня так сильно, что внезапно мне открылось самое существо музыки. Мне показалось, что музыка – это и есть истинный поэтический язык человека, не зависящий ни от слов, ни от писаной поэзии, подчиняющийся особой логике и способный выражать идеи самые возвышенные и столь грандиозные, что никакой иной язык передать их не в силах. Я решился заняться музицированием, чтобы проверить это предположение, и в самом деле, как ты, возможно, слышал, добился на этом поприще некоторых успехов. Лишь одно смущало меня: в прежние годы я заплатил слишком большую дань логике, чтобы безболезненно отринуть ее теперь. Оттого мне так и не удалось научиться сочинять музыку самому, а ведь мечтал я именно об этом. Убедившись, что я не способен выразить свои мысли на этом языке, по всей вероятности чересчур возвышенном для меня, я обратился к поэзии и стал сочинять стихи. Результат получился столь же неутешительный: я страстно хотел говорить стихами, но мало заботился об их источнике, а между тем поэзия нуждается в источнике, в сильном и глубоком чувстве, которое бы ее питало; понятия об этом чувстве я имел лишь самые смутные, и потому поэзия моя была несовершенна.
Недовольный своими стихами, я перешел к прозе, которой силился придать вид как можно более лирический. Единственный предмет, который я мог описать со знанием дела, была моя собственная печаль и те муки, какие я претерпел, ища истину. Вот образчик моего творчества:
«О величие мое! О моя сила! Грозовой тучей нависли вы над землей, огненной молнией пали на нее. Смертью и бесплодием поразили вы все плоды и цветы на поле моем. Обратили вы его в унылую пустыню, и воссел я один среди развалин. О величие мое! О моя сила! Добрую службу сослужили вы мне или злую?О гордыня моя! О моя наука! Жгучим вихрем взметнулись вы, точно самум в пустыне. Под песком и пылью погребли вы пальмы, замутили и иссушили водоемы. Искал я родник, чтоб напиться, и не нашел родника; не помнит безумец, возмечтавший о надменных вершинах Хорива, укромного пути к тенистому ручью. О наука моя! О моя гордыня! Бог ли послал вас мне или дьявол?
О добродетель моя! О мое воздержание! Встали вы, точно башни, протянулись, точно стены мраморные, выросли, точно медные щиты. Скрыли вы меня под ледяными сводами, погребли в мрачных склепах, где царят тревога и страх; жестко и холодно было мне спать, и часто грезил я о теплом небе и мирах изобильных. Искал я солнечный свет, но света не нашел, ибо во тьме потерял я зрение, и отказали мне ноги, и не дошел я до края бездны. О добродетель моя! О мое воздержание! Гордыня ли питала вас или вдохновляла мудрость?
О вера моя! О моя надежда! Утлым, ненадежным челном обернулись вы для меня, и носился я по безбрежным морям, среди лживых туманов и пустых иллюзий, смутных образов неведомого отечества. Когда же, устав сражаться с ветром и стенать под его порывами, спросил я, куда вы ведете меня, тогда зажгли вы огни на скалах, и узнал я, чего мне бежать, но не узнал, к чему стремиться. О вера моя! О моя надежда! Кто внушил вас – грезы безумия или таинственный голос Бога живого?»
Все эти невинные занятия возвратили покой моей душе и бодрость моему телу; однако ровное течение моей жизни было прервано новым, нежданным бедствием. На смену заразной болезни, обрушившейся на монастырь и его окрестности, пришла чума, поразившая весь наш край. У меня имелись некоторые соображения относительно способов предотвратить эпидемические заболевания посредством весьма простых гигиенических мер. Особам, с которыми я поделился этими соображениями, они сослужили добрую службу, и потому я прослыл человеком, знающим лекарство от чумы. Отказываясь от репутации столь лестной, я, однако же, охотно обнародовал свои скромные открытия. Тогда страждущие потянулись ко мне со всех сторон, и вскоре у меня уже едва хватало времени и сил на то, чтобы принять всех желающих; более того, в виде исключения настоятелю пришлось даже разрешить мне покидать монастырь в любое время суток и отправляться к больным. Однако чем больше жертв уносила чума, тем меньшее место занимали в душах монахов благочестие и сострадание, поначалу заставлявшие их держаться милосердно и человеколюбиво. Эгоистичный, подлый страх вытеснил из их сердец все добрые чувства. Мне запретили иметь сношения с больными чумой; двери монастыря закрылись для несчастных, нуждающихся в помощи. Я не мог скрыть от настоятеля своего возмущения. В другие времена он заточил бы меня в темницу, но в ту пору страх смерти до такой степени ослабил его дух и волю, что он выслушал меня с величайшим спокойствием и предложил мне поселиться в двух лье отсюда, в пустыни Святого Гиацинта, и жить в обществе тамошнего отшельника до тех пор, пока эпидемия не прекратится и возвращение мое в монастырь не перестанет грозить опасностью нашим братьям. Оставалось узнать, согласится ли отшельник делить хлеб и кров с новоявленным лекарем. Получив разрешение побывать в пустыни и поговорить с ее обитателем, я немедля отправился в путь. Я мало надеялся услышать благосклонный ответ: отшельник, раз в месяц приходивший к воротам монастыря просить милостыню, никогда не внушал мне симпатии. Хотя благочестивые простецы не оставляли его в нужде, он обязан был во исполнение своих обетов, не столько ради пропитания, сколько для смирения собственной гордыни, регулярно просить милостыню. У меня обычай этот вызывал величайшее презрение; угрюмый, молчаливый отшельник с его вытянутым лицом и блеклыми, глубоко посаженными глазами, которые, казалось, не выносили солнечного света, с его сгорбленной спиной, седой бородой, пожелтевшей от непогоды, и тощей длинной рукой, которую он протягивал скорее настоятельно, нежели смиренно, сделался для меня воплощением фанатизма и лицемерной гордыни.
Поднявшись на гору, я взглянул на море; вид его пленил меня. Сверху оно казалось огромной лазурной равниной, резко кренящейся к громадным береговым скалам; волны его, в эту пору пребывавшие в относительном спокойствии, напоминали ровные борозды, проведенные плугом. Эта голубая бездна, вздымавшаяся подобно холму и представлявшаяся твердой и плотной, словно исполинский сапфир, привела меня в такой головокружительный восторг, что, борясь со страстным желанием броситься вниз, я был вынужден ухватиться за ветки ближайшего масличного дерева. Мне чудилось, что при виде этого великолепия тело должно обрести силу духа и обнаружить умение летать. Я вспомнил тогда Иисуса, идущего по воде, и стал думать об этом божественном человеке, великом, как горы, сияющем, как солнце. «Кто бы ты ни был, метафизическая аллегория или греза восторженной души, – воскликнул я, – в тебе есть величие и поэзия, какой нет во всех наших достоверных фактах и логических рассуждениях, во всех наших замерах и подсчетах!..»
Не успел я произнести эти слова, как слух мой поразило некое заунывное пение, едва слышная скорбная молитва, раздававшаяся, казалось, из самых недр горы. Я обернулся. Некоторое время я пытался понять, откуда несутся эти странные звуки; наконец, взобравшись на соседний утес, я заметил в расщелине поодаль отшельника; голый по пояс, он рыл в песке могилу. У ног его лежал завернутый в циновку труп; из грубого савана торчали ноги, изъеденные чумными язвами. Из полуразверстой ямы, в которой не далее как вчера были в спешке зарыты другие трупы, исходило зловоние. Подле нового покойника лежал невысокий, грубо сколоченный деревянный крест – единственное украшение общей могилы; тут же стояла глиняная плошка с кропилом из ветки иссопа; костер из веток можжевельника очищал воздух. Падавшие отвесно солнечные лучи немилосердно жгли лысый череп и хилые плечи отшельника. С длинной янтарной бороды на грудь стекали струи пота. Охваченный почтением и жалостью, я кинулся к нему. Не выразив ни малейшего удивления, он, отбросив лопату, знаком велел мне взять труп за ноги, а сам подхватил его за плечи. После того как мы предали тело несчастного земле, отшельник вновь установил крест, окропил могилу святой водой, затем, попросив меня подбросить веток в костер, опустился на колени, прочел короткую молитву и удалился, не обращая на меня ни малейшего внимания. Он заметил, что я иду за ним следом, лишь когда мы достигли его пустыни; посмотрев на меня не без удивления, он осведомился, не нуждаюсь ли я в отдыхе. Я постарался как можно короче объяснить ему цель моего прихода. В ответ он молча пожал мне руку и, открыв дверь своего жилища, выдолбленного в скале, показал нескольких больных, лежавших на циновках; было видно, что дни их сочтены.
– Это рыбаки и контрабандисты, которых родные, страшась заразиться, выбросили на улицу. Я не могу вылечить этих несчастных; я утешаю их словами веры и любви, а затем, когда их страданиям приходит конец, предаю тела земле. Не входите, брат мой, – остановил он меня, видя, что я ступил на порог, – этим людям вы уже не поможете, а воздух там внутри насквозь отравлен; сберегите свою жизнь для тех, кого еще можно спасти.
– А за себя, отец мой, вы не боитесь? – спросил я.
– Нет, – отвечал он с улыбкой, – у меня есть верное средство.
– Какое же?
– Мое дело, – отвечал он вдохновенно. – Пока оно не исполнено, я неуязвим. Когда же во мне не будет больше надобности, я стану как другие люди. Если я заболею, то скажу: «Господи, да исполнится воля Твоя; раз Ты прибираешь меня, значит, Тебе больше нечего мне приказать».
При этих словах тусклые глаза его загорелись и, казалось, принялись излучать впитанный ими солнечный свет. Они сияли так ярко, что я вынужден был отвести взгляд и невольно посмотрел на море, сверкавшее у наших ног.
– О чем вы думаете? – спросил отшельник.
– О том, как Иисус шел по воде.
– Что же в этом удивительного? – не понял меня этот достойный старец. – Меня удивляет лишь одно: что святой Петр, видевший Спасителя своими глазами, мог усомниться в нем.
Я тотчас воротился в монастырь, желая рассказать настоятелю об успехе своего предприятия. Впрочем, я мог бы избавить себя от этого труда, если бы вспомнил, что монахам нет дела до устава, особенно когда ими владеет страх. Монастырские ворота были наглухо закрыты, а когда я постучался, привратник крикнул, что, чем бы ни кончился мой поход, в монастырь меня не впустят. Итак, я отправился назад в пустынь.
В обществе отшельника я прожил три месяца. Старец этот был настоящий святой, человек, какие встречались лишь на заре христианства. Пожалуй, во всем, что не касалось служения ближним, его можно было счесть существом весьма заурядным, но зато необходимость помогать страждущим обращала его в подлинного гения милосердия. Более всего восхищали меня его напутствия умирающим. В эти минуты он казался поистине богодухновенным; слова теснились в его душе и изливались бурно, подобно горному потоку. Горькие слезы омывали усталое лицо, изборожденное морщинами. Он знал дорогу к сердцам человеческим. Со страхом смерти он сражался так же бесстрашно, как Георгий Победоносец – со змием. Каким-то чудом он угадывал страсти, некогда волновавшие умирающих, и умел найти для каждого особые слова, даровать каждому особую надежду. Я с удовлетворением отмечал, что сильнее всего он желал облегчить каждому последние минуты пребывания на этой земле; соблюдение пустых формальностей, предписываемых Церковью, волновало его куда меньше. Эта снисходительность была тем драгоценнее, что, когда дело шло о нем самом, он соблюдал католические обряды с величайшей дотошностью и непреклонностью, однако милосердие есть дар Божий, чья власть выше Церкви и ее угроз. Одна слеза умирающего казалась отшельнику важнее всей церемонии соборования; мне случилось услышать от него фразу, поразительную в устах католика. Он поднес распятие к губам человека, стоявшего на пороге смерти; тот отвернулся и поцеловал вместо распятия руку отшельника, после чего испустил дух.
– Ничего! – произнес отшельник, закрывая покойнику глаза. – Тебе простится, ибо ты знал, что такое благодарность; если ты умел оценить самоотверженность человека в этом мире, ты сумеешь понять доброту Господню в мире ином.
Лето кончилось, а вместе с летним зноем прекратилась и эпидемия. Однако прежде чем монахи набрались храбрости и позволили мне воротиться в монастырь, я еще несколько времени прожил в пустыни. И я, и отшельник, мы оба нуждались в отдыхе; должен сказать, что эти дни поздней осени, проведенные в покое и прохладе, на лоне прекраснейшей природы, какую только можно вообразить, в полной независимости и бок о бок с человеком, воистину достойным уважения, доставили мне наслаждение ни с чем не сравнимое. Скудная и суровая жизнь, какую вел отшельник, нравилась мне, главное же, я чувствовал, что стал иным человеком: самоотверженный труд на благо ближних переродил меня. Сердце мое расцвело, словно цветок под дуновением весеннего ветерка. Только теперь я понял, что значит – любить всех людей, как братьев, что значит – служить всему человечеству, что скрывается за разговорами о милосердии и самопожертвовании; говоря короче, я понял, что такое жизнь души. Конечно, после того, как существование наше возвратилось в привычную колею, я стал различать в образе мыслей моего товарища некую ограниченность. Когда энтузиазм не служил ему опорой, в нем пробуждался узколобый святоша; однако я не пытался спорить с его предрассудками; слишком велико было мое почтение к вере, переплавленной в горниле подобной добродетели.
Наконец я получил приказ воротиться в монастырь; в то время я слегка приболел; болезнь моя не имела ничего общего с чумой, однако настоятеля эта весть напугала так сильно, что он согласился терпеливо ожидать полного моего выздоровления. Мне было дано позволение оставаться вне монастырских стен столько, сколько потребуется; я решил провести это время с как можно большей пользой.
До той поры я не разрывал обет по преимуществу из боязни скандала: не то чтобы я дорожил мнением света, с которым не желал иметь ничего общего; не то чтобы меня волновало уважение монахов, которых сам я не уважал ни в малейшей степени, однако природная твердость характера, глубокая убежденность в том, что всякая клятва священна, а главное, неодолимое почтение к памяти Эброния удерживали меня. Теперь, когда монастырь, можно сказать, сам исторг меня из своих пределов, я счел, что смогу оставить его, не подавая дурного примера и не изменяя собственным убеждениям. Я размышлял о жизни, какую вел в монастыре и какую мог бы продолжать, останься я в его стенах. Я спрашивал себя, может ли выйти из моего монастырского существования что-нибудь великое или полезное. Спиридион желал вести жизнь ученого бенедиктинца, однако для меня жизнь эта, какую он избрал для себя и какой, по всей видимости, желал для своих преемников, сделалась невозможной. Должно быть, первые спутники Спиридиона вселили в его душу мечту об уединенных ученых занятиях, о великих трудах, совершаемых под древними сводами святилища науки людьми сведущими и упорными. Спиридион успел узнать последних замечательных людей, воспитанных в монастыре, и тем не менее, по рассказам очевидцев, перед смертью он окончательно разочаровался в своем создании и не питал иллюзий относительно его будущего. Что же касается меня, то могу сказать о себе – без гордости, ибо имею право хвастать отнюдь не славными свершениями, а всего лишь тяжкими трудами, – что я был последним бенедиктинцем этого века, однако я ясно сознавал, что даже избранная мною роль мирного ученого более мне не подходит. Для покойных ученых занятий потребен покойный ум, а разве мог я сохранять хладнокровие в то время, когда род человеческий переживал грозные потрясения? Я видел государства, пребывающие на грани крушения, видел троны, колеблющиеся словно тростник в бурю, видел народы, просыпающиеся после долгого сна и грозящие отомстить всем своим врагам, видел добрых и злых, вместе стремящихся разорвать цепи, вместе питающих ненависть к прошлому. Я видел, что скоро разодрана будет завеса в храме надвое сверху донизу, как в час воскресения Распятого, и предстанут гневному взору народов, за коих страдал он, все гнусности, творящиеся за церковными стенами. Как же мог я взирать равнодушно на все эти предвестия великого переворота? Как мог я оставаться глух к рокоту людского океана, который грозил сломать плотины и затопить империи? В ожидании катастрофы, свидетелями которой все мы станем очень скоро, последние монахи могут в спешке опустошать винные погреба, дабы, напившись допьяна и наевшись до отвалу, растянуться на нечистой постели и ожидать гибели во хмелю. Но мне подобная участь не мила; мне потребно знать, как и зачем я жил, зачем и как должен умереть.
Всесторонне обдумав способы распорядиться обретенной свободой, я понял, что создан исключительно для трудов умственных. Разумеется, в первые годы моего разочарования в католицизме я вынашивал честолюбивые замыслы и предавался дерзким мечтаниям; я намеревался реформировать Церковь куда решительнее, чем Лютер; я желал усовершенствовать протестантизм. Ибо, подобно Лютеру, я был христианином; вскормленный в лоне Церкви, я не мог вообразить себе религию, рожденную вне
Церкви. Однако, перестав верить в Христа, сделавшись философом вослед своему веку, я не видел больше возможностей обновить Церковь; все они были уже испробованы и исчерпаны. В отношении свободы принципов я зашел так же далеко, как и прочие, и видел, что, дабы построить что-либо в мире, состоящем из одних руин, надобно предложить разрушителям хоть какой-нибудь план созидания. Я мог бы сделать нечто полезное в области естественных наук и, пожалуй, должен был это сделать, однако перспектива составить себе имя на открытиях такого рода нимало меня не привлекала; более того, я чувствовал, что хочу и могу заниматься только одним – исследованием вопросов философических. Я изучал естественные науки лишь в надежде, что они станут для меня путеводной нитью в лабиринтах метафизики и приведут к познанию Верховного существа. Потерпев неудачу, я разлюбил эти занятия, с самого начала имевшие для меня интерес второстепенный; утрата же каких бы то ни было верований оказалась испытанием столь нелегким, что я не стремился объявлять о нем людям. Да и что значил бы лишний голос в том громком хоре проклятий, который звучал по адресу гибнущей Церкви? Было бы подло бросать камень в установление умирающее, ставшее вдобавок жертвой французской революции, последствия которой, Анжель, скажутся в наших краях куда сильнее и скорее, чем полагают здешние обитатели. Вот почему я столько раз советовал тебе не покидать поста, на котором, возможно, ты в самое ближайшее время сможешь встретить лицом к лицу опасность, достойную отпора. Что же касается меня, то хотя дух у меня уже давно не монашеский, платье я ношу монашеское и никогда его не сброшу. Я принадлежу к этому сословию; не скажу, что оно ничем не хуже других, но оно существует, и чем хуже его репутация, тем важнее людям, к нему принадлежащим, вести себя с достоинством. Если нам придется жить в миру, мы, уверяю тебя, встретим не один иронический или презрительный взгляд; печальным ночным птицам, пятнадцать столетий скрывавшимся за темными и пыльными старыми стенами, нелегко выйти на свет. Сколько ни отращивай волосы, они все равно не спрячут лежащей на нас несмываемой печати нашего сословия – тонзуры; будем же идти по жизни с гордо поднятой головой, не стыдясь этого стигмата, прежде вызывавшего у народов почтение, а теперь пробуждающего в них ненависть. Разумеется, Анжель, нам придется нести наказание за преступления, которых мы не совершали, за пороки, которых мы не знали. Пусть спасается бегством тот, кто чувствует себя виновным; пусть прячет лицо тот, кто заслужил пощечину. Но мы – иное дело; пусть ударят нас по щеке, пусть свяжут нам руки, мы сохраним в уме и в душе память о крестной муке Христа, этого возвышенного философа, чье имя я произношу редко, ибо слишком часто твердят его вокруг меня уста нечистые, я же стараюсь упоминать это славное имя, лишь когда веду речь о вещах серьезнейших, о чувствах глубочайших.
Как же мог я с толком распорядиться своей свободой? Я искал ответа на этот вопрос, но не находил его. Конечно, если бы меня влекла светская суета, охота к перемене мест и зрелищ, я бы уехал надолго, а быть может, и навсегда. Я исследовал бы дальние страны, пересек бескрайние моря, познакомился с дикими племенами. Подобные соблазны не раз дразнили меня. Я мечтал вместе с каким-нибудь ученым миссионером покинуть шумные молодые нации и вкусить спокойной жизни среди народов, свято хранящих законы и верования древности. В Китае и тем более в Индии открылось бы мне обширное поприще для разысканий и наблюдений. Однако стоило мне вообразить этот замогильный покой, на который я обрек бы себя еще при жизни, как меня охватывало непреодолимое отвращение. Мне не хотелось видеть народы, которые умерли в отношении умственном, которые, точно быки с ярмом, смиряются с законами далеких предков и живут, спеленутые по рукам и ногам, точно египетские мумии. Какой бы страшной, жестокой и кровавой ни оказалась развязка драмы, готовившейся в непосредственной близости от меня, я знал, что это – история, это – вечный круговорот вещей, это – злой рок или воля Провидения, одним словом, это – жизнь, кипящая у моих ног, словно лава. Я скорее согласился бы уподобиться травинке, уносимой этим бурлящим потоком, нежели отыскивать под охладелым пеплом окаменелые останки жизни давно угасшей.
Не успел я утвердиться в этих мыслях, как меня посетило новое искушение; теперь я вознамерился броситься в самый водоворот событий, покинуть здешние края, еще не очнувшиеся от дремоты, и отправиться туда, где сверкают молнии и гремит гром. Забыв, что я монах и намерен оставаться монахом до конца своих дней, я почувствовал себя мужчиной, причем мужчиной, полным энергии и страсти; я стал воображать себе жизнь действенную и, наскучив размышлениями, ощутил, словно юный школяр (вернее было бы сказать, словно юный скакун), настоятельную потребность двигаться, растрачивать свои силы. Тщеславие мое принялось дурманить меня лживыми обещаниями. Оно шептало мне, что там, в миру, я, возможно, смогу принести пользу, что философические идеи сделали свое дело и настал момент воплотить их в жизнь; что нынче общество нуждается в высоких чувствах, что скоро для всех людей пробьет час испытания, и тут-то выяснится, что возвышенные сердца столь же необходимы, сколь и редки. Я ошибался. Великие эпохи порождают великих людей; одно великое дело влечет за собой другое. Французская революция, многократно оболганная тупицами, которых она приводит в ужас, и святошами, которых она грозит истребить, ежедневно – хотя ты, Анжель, об этом не подозреваешь – рождает на свет фаланги героев: в здешних крах этих людей осыпают бранью, но наступит день, когда ты станешь с жадностью выискивать их имена в анналах современной истории.
Что же до меня, я покину этот мир, так и не узнав до конца разгадку великой революционной загадки, поставившей в тупик множество узколобых гордецов и дерзких умников. Я не рожден для знания. Можно сказать, что жизнь моя представляла собою не что иное, как стремительное скольжение в бездну, куда я ринулся, не успев оглядеться по сторонам и не принеся никакой пользы человечеству, если не считать таковыми мои страдания – крохотную точку на циферблате вечности. Тем не менее, когда я вижу, что сегодня люди совершают еще больше зла во имя будущего, чем совершали мы во имя прошлого, я говорю себе, что все это зло не может не принести много добра; ибо сегодня я верую в Провидение, верую в то, что человечество безотчетно, по наитию исполняет великие и глубокие замыслы Господа.
С этим новым приступом честолюбия – последним порывом сердца, которое отказывается взрослеть, стареть и набираться опытности, – совладать мне было нелегко. Меня манила американская революция; французская революция манила меня еще сильнее. Буря заставила пристать к нашему берегу корабль, плывший во Францию. Пока моряки готовили судно к продолжению пути, иные из пассажиров поднялись к пустыни, намереваясь отдохнуть здесь от тягот плавания. То были люди выдающиеся; во всяком случае, мне они показались таковыми, ибо я испытывал страстную потребность услышать свободные речи о последних политических событиях и философическом движении, их породившем. Люди эти были исполнены веры в будущее, веры в самих себя. Они расходились в представлениях о средствах достижения цели, однако нетрудно было понять, что в минуту опасности всякое средство покажется им превосходным. Этот способ решения сложнейших вопросов социальной справедливости был мне приятен и страшен одновременно. Отвага и самоотверженность находили отзвук в моей душе и будили дремлющие в ней чувства; страсть к насилию и безоглядному разрушению, напротив, противоречила моему понятию о справедливости и привычке терпеть страдания.
Среди людей этих был юный корсиканец, чьи суровые черты и пронзительный взгляд никогда не изгладятся у меня из памяти. Небрежность его наряда вкупе с величайшей сдержанностью манер, речи энергические и краткие, светлые проницательные глаза, римский профиль, очаровательная неловкость, проистекавшая, кажется, из некоего недоверия к самому себе и готовая при малейшем вызове превратиться в дерзкую отвагу, – все в этом юноше поразило меня, и, хотя он делал вид, будто презирает все современное и почитает лишь спартанскую суровость, я, как мне казалось, угадал страстное его желание броситься в водоворот жизни, где, предчувствовал я, ему суждена блестящая будущность. Не знаю, прав я был или ошибся. Быть может, юноша этот так до сих пор и не сумел прославиться, быть может, напротив, имя его ныне уже у всех на устах, а быть может, он пал на поле боя, подкошенный, словно юный колос задолго до времени жатвы. Если он живет и здравствует, да помогут ему небеса употребить могучие силы на следование строгим принципам, а не на поощрение тщеславных порывов! Старый отшельник не вызвал у него ни малейшего интереса, я же привлек его внимание, хотя был этого куда менее достоин, и мы провели то недолгое время, что было нам отведено судьбой, прогуливаясь по каменистой террасе рядом с пустынью. Он шел быстрым, но неровным шагом, то и дело меняя ритм, подобно морю, к шуму которого он постоянно прислушивался, замирая от восторга, ибо он был равно чувствителен и к поэзии жизни, и к ее действительности. Ум его, казалось, обнимал и небо, и землю, но был больше привержен земле, нежели небу, так что промысел Божий представлялся ему не чем иным, как заступником рода человеческого и его великих судеб. Богом его была воля, идеалом – могущество, жизненною стихией – сила. Я хорошо помню порыв энтузиазма, охвативший его в ту минуту, когда я попытался заговорить с ним о его религиозных убеждениях.
– О! – вскричал он живо. – Я не хочу знать никого, кроме Иеговы, ибо это бог силы. Долг, дарование закона на горе Синайской, тайна пророков – все это сводится к одному-единственному – к силе! Все существа алчут силы, ибо без силы нет развития. Всякая вещь хочет существовать, ибо существование есть ее долг. У кого нет сил желать, тому суждено погибнуть; вот судьба всех – от человека без сердца до травинки без почвы. О отец мой! тебя влекут тайны природы, склонись же перед силой! Взгляни окрест: какая страсть к господству, какая воля к сопротивлению! Как алчет лишайник покорить камень! Как обвивает плющ деревья и, не умея пронзить их кору, сжимает ее в гибельном объятии, словно разъяренный аспид! Взгляни, как скребет землю волк, как разрывает снег медведь, прежде чем устроиться на ночлег. Увы! Как же могут люди и народы не идти войной друг на друга? Как может жизнь общественная не быть постоянным столкновением противных воль и нужд, когда вся жизнь природы есть беспрестанная борьба, когда волны морские налетают одна на другую, когда орел камнем бросается на зайца, а ласточка вонзает клюв в дождевого червя, когда иней истачивает мрамор, а снег не тает на солнце? Подними голову; взгляни на эти гранитные глыбы, которые нависают над нами, точно великаны: много столетий подряд они противостоят бешеным порывам ветра! Чего ищут эти каменные боги, против которых бессилен сам Эол? Отчего Атласские горы не рушатся под тяжестью материи? Отчего свершаются циклопические труды в бездонных недрах вулкана, отчего извергает он наружу кипящую лаву? Оттого, что всякая вещь ищет занять свое место и заполнить как можно большее пространство; оттого, что потребна огромная внешняя сила, дабы оторвать крупицу гранита от этих скал; оттого, что всякое существо и всякий предмет несут в себе зародыши своего рождения и смерти; оттого, что весь Божий мир есть не что иное, как зрелище великой битвы, и порядок в пространстве и времени зиждется исключительно на борьбе – борьбе всеобщей и бесконечной. Будем же трудиться, о смертные, во имя собственного нашего существования! О человек! Переделывай свое общество, если оно дурно; бери пример с трудолюбивого бобра, строящего себе дом. Охраняй свое общество, если оно хорошо; бери пример с рифа, умеющего устоять под натиском хищных волн; ведь если ты опустишь руки, если положишься на волю вздорного случая и не позаботишься о своем будущем, если покоришься игу и не станешь бороться за собственную свободу, ты умрешь в пустыне, подобно роптавшим сынам Израилевым. Если предашься трусости, если согласишься терпеть беды знакомые, дабы избежать тех, каких еще не знаешь, если станешь терпеть жажду, потому что не веришь роднику в горах и жезлу пророка, по заслугам покинет тебя небо, захлестнет тебя море равнодушной волной. Да, и еще раз да, лень и равнодушие – вот величайшее зло, кое способен сотворить человек, вот величайшее кощунство, коим способен он себя запятнать. Грех тем, кто именует священным словом «смирение» сию трусливую и беспечную покорность, тем, кто славит человека за то, что он безропотно сносит наглость и деспотизм других людей; будь проклята та дорога, которой ведут человечество эти ложные пророки!
Так говорил он, а морской ветер раздувал его длинные темные волосы. Не стану и пытаться передать тебе силу и сжатость его речей; мне это не удастся; в памяти моей осталась лишь суть его идей, а перед глазами у меня долго стояло его лицо. Я проводил его; я доплыл с ним в лодке до борта корабля. Когда настал час прощания, он с силой пожал мне руку и спросил:
– Что же, поедемте с нами?
Сердце мое дрогнуло в ту минуту и забилось так сильно, словно хотело выскочить из груди; оно звало меня последовать за этим юношей, чья энергия тронула неведомые струны моей души. Однако в то же самое время другая, непостижная сторона характера корсиканца приводила меня в ужас, и я выпустил белую его руку, холодную, как мрамор. С вершины прибрежных скал я долго следил глазами за кораблем и видел своего нового знакомца на верхней палубе: он рассматривал в бинокль морские рифы; обо мне он тотчас забыл. Когда корабль исчез за горизонтом, я пожалел, что не сообразил спросить имя корсиканца.
И вот я остался в одиночестве; казалось, будто на моих глазах погас последний луч солнца и я погрузился в вечную тьму. Сердце мое сжалось; хотя стоял белый день и солнце палило немилосердно, для меня свет померк. Тут-то пришли мне на память слова из моего сна, и в порыве отчаяния я произнес их вслух:
– То, что принадлежит могиле, должно уйти в могилу!
Остаток дня я пребывал в величайшем волнении. Пока путешественники уговаривали меня последовать за ними, я не сомневался, что, отвергая их советы, поступаю правильно; теперь же, когда они уплыли навсегда, мне стало казаться, что отказ мой продиктован не мудростью, но трусостью. Я был подавлен, я пребывал во власти сомнений; свет вокруг меня померк, черная сутана тяготила, словно свинцовый колпак; я опротивел самому себе. Из последних сил добрался я до своего камышового ложа и заснул, мечтая никогда не просыпаться.
Впервые за двенадцать лет я увидел во сне аббата Спиридиона. Мне снилось, что он вошел в пустынь, миновал мирно спящего отшельника и спокойно уселся подле меня. Я различал его нечетко, но знал, что вижу и слышу именно его; я узнавал его голос, тот же самый, что и в предыдущих снах, хотя не слышал его уже много лет. Он говорил со мной долго, страстно, и речи его взволновали меня. Проснувшись, я не мог вспомнить ни единого слова, однако мне было ясно, что Спиридион в чем-то упрекал меня, и весь день я томился, словно ребенок, застигнутый врасплох и не сознающий тяжести своего прегрешения. Мысль о Спиридионе не покидала меня, да я и не думал ее прогонять; прежде я опасался, как бы она не оказалась предвестием душевной болезни, теперь же был готов потерять разум при условии, что безумие мое будет не буйным; при моей склонности к меланхолии тихое помрачение ума казалось мне куда привлекательнее трезвого отчаяния.
Следующей ночью тот же сон повторился; и в третью ночь Спиридион снова пришел ко мне. Я перестал задаваться вопросом, следует ли считать его посещение результатом мании, завладевшей смятенным разумом, или же сношения между душами живых и мертвых в самом деле возможны. Если не ум, то сердце мое пребывало в покое, ибо с некоторых пор я посвящал все свое время делам милосердия. Я больше не стремился сделаться более просвещенным и более сведущим, теперь мне хотелось стать более честным и более справедливым. Итак, я положился на судьбу. Последняя жертва моя, как ни дорого она мне далась, принесла свои плоды: я уверился в том, что поступил правильно. Не знаю, осуждала ли тень, навещавшая меня с таким постоянством, мои сомнения; главное, что я больше не боялся ее; навсегда порвав с живыми, я почувствовал в себе довольно силы, чтобы пренебречь мнением мертвых.
На четвертый день стало известно, что церковное начальство велит мне возвратиться в монастырь. До епископа дошли слухи о моем общении с путешественниками, которые попали в наши края так неожиданно, что ускользнули от его надзора. Высшее духовенство опасалось, как бы я не установил тайных связей с местными мятежниками или с неблагонадежными иностранцами; мне предписывали немедленно вернуться на прежнее место. Я покорился этому приказу с полнейшим безразличием. Тронули меня только сожаления доброго отшельника. Правда, почтение к воле начальства не позволило ему воспротивиться моему уходу или высказать свое недовольство, однако, увидев, что я вот-вот скроюсь среди деревьев, он окликнул меня, обнял, а затем оттолкнул и быстрым шагом направился в свою молельню. Тогда я в свой черед бросился за ним и, впервые за долгие годы преклонив колени перед человеком, да притом перед священником, испросил у него благословения. Мы простились навеки; следующей зимой он умер; ему шел девяностый год, и он был человеком слишком безвестным, чтобы в Риме удосужились причислить его к лику святых. Меж тем мало кто из христиан был этого так достоин. Окрестные крестьяне разрезали на мелкие кусочки его грубое монашеское одеяние и до сих пор носят эти лоскутки ткани у себя на груди вместо ладанок. Контрабандисты, всегда находившие приют в его пустыни, заказали в приходской церкви великолепную службу за упокой его души.
Я расстался с отшельником около полудня и берегом моря направился в монастырь; я избрал самую длинную дорогу, ибо знал, что наслаждаюсь свободой в последний раз в жизни; плечи мои сгибались под тяжестью прожитых лет, а сердце щемила печаль.
День выдался жаркий; на солнечных склонах скал было уже заметно наступление весны. Дорогу, которою я шел, проложили не люди; ее отвоевали у камней морские волны, и борьба этих двух стихий еще не пришла к концу, о чем свидетельствовали тысячи неровностей почвы. После двухчасового пути под раскаленным солнцем я, выбившись из сил, присел отдохнуть на черном гранитном валуне, омываемом белыми пенистыми волнами. Дикий этот уголок полнился мрачным рокотом моря. Старая полуразрушенная башня, приют буревестников и чаек, грозила обрушиться мне на голову. Камни ее, изъеденные соленой водой, цветом и шероховатостью, не отличались от соседних утесов, так что создание рук человеческих почти полностью сливалось с созданиями природы. Я сравнивал себя с этим покинутым обиталищем, постепенно разрушаемым бурями, и задавался вопросом, обязан ли человек так же ожидать полного своего уничтожения от времени или случая; не имеет ли он права, исполнив все обязанности и принеся все жертвы, приблизить час перехода в мир иной, туда, где ему уготован вечный покой; мысли о самоубийстве смущали мой ум. Волнуемый ими, я поднялся и стал расхаживать по краю валуна; я ходил так стремительно и так неосторожно, что не свалился в море лишь по чистой случайности. Внезапно что-то прошелестело за моей спиной, как будто край чьего-то платья задел за ветви кустарника. Я обернулся, но никого не увидел. Не успел я, однако, сделать и нескольких шагов, как шелест за моей спиной послышался вновь, а на третий раз ледяная рука легла на мой пылающий лоб, и тогда я узнал Духа и сказал, объятый страхом:
– Открой мне твою волю, и я исполню ее, если то будет воля родителя и друга, а не фантазия прихотливого призрака; ибо я могу найти защиту от всего, и даже от твоих приказов, в смерти.
Ответа я не услышал, но ледяная рука отпустила мой лоб, а взглянув вперед, я увидел в некотором отдалении аббата Спиридиона в старинном платье – точно таком же, в каком он предстал мне у смертного ложа Фульгенция. Спиридион стремительно удалялся по длинной огненной полосе, зажженной в море солнечными лучами. Дойдя до горизонта, он обернулся, сам сияя, словно солнце, и одной рукой указал мне на небо, а другой – на дорогу, ведущую в монастырь. Затем он исчез, а я продолжил свой путь, исполненный радости и восторга. Пускай я лишился ума, зато меня посетило видение величавое и возвышенное».
– Отец Алексей, – перебил я рассказчика, – должно быть, вам было нелегко вновь свыкнуться с монастырской жизнью.
«Разумеется, – отвечал он, – жизнь отшельническая больше отвечала моим вкусам, нежели та, какую следовало вести в монастыре; однако это волновало меня очень мало. Не суетного земного счастья я искал; не ребяческое стремление к благополучию двигало мною; единственное, чего я желал, было обретение если не веры в Бога, то, по крайней мере, надежды на него. Сумей я усовершенствовать свою душу так, чтобы она открылась истине, мудрости и добродетели, я почитал бы себя счастливым настолько, насколько может быть счастлив человек на этой земле; но увы! – даже принеся последнюю, громадную жертву, я не избавился от сомнений. Правда, я вел теперь жизнь более добродетельную, чем в ту пору, когда покинул монастырь. Устав возделывать бесплодное поле чистого ума или, вернее сказать, осознав, как велики те просторы души, которые ложная философия желает свести к холодным метафизическим спекуляциям, я ощущал суетность всего, что прежде пленяло меня, и мечтал о мудрости, которая сделала бы меня лучше и чище. Самоотвержение возвратило мне способность быть милосердным; дружба научила сердечной нежности; поэзия и искусство внушили предчувствие жизни вечной; Спиридион, мой добрый гений, возвратил веру и энтузиазм; однако я сделал еще не все необходимое; оставалось исполнить свой долг, но прежде надобно было понять, в чем он заключается. Заботу о нескольких больных, которым я облегчил физические страдания, я не мог поставить себе в заслугу: я помог им походя, Провидение же вознаградило меня за это сторицею, даровав мне дружбу двух возвышенных душ – отшельника на земле и Эброния на небе. Итак, возвратившись в монастырь, я занялся поисками своего предназначения. Порой я по-прежнему испытывал недоверие к тому, что в другое время назвал бы наваждением, фантазиями ума, склонного к вере в чудеса; я спрашивал себя, какую пользу может принести монах, затворившийся в стенах монастыря, в наш век, когда великие труды монастырских эрудитов прошлых столетий уже принесли свои плоды и все сокровища, прежде скрытые от людских глаз, явлены роду человеческому для его обучения и просвещения; в наш век, когда – и это куда более важно! – религия перестала нуждаться в монастырском уединении, а люди перестали нуждаться в религии. Что же могу я сделать для настоящего, если сам прикован к прошлому? Как могу идти и показывать дорогу другим, если сам связан по рукам и ногам?
Вот великий, единственный поистине великий вопрос, какой поставила перед мною жизнь. Разрешению его посвятил я свои последние годы; не скрою от тебя, бедный мой Анжель, что ответа я не нашел. Мне осталось одно – с грустью признать, что больше я ни на что не способен, и смириться со своей участью.
О дитя мое! До сих пор я не предпринимал ничего, чтобы разрушить в тебе католическую веру. Я не сторонник обучения чересчур стремительного. Не стоит спешить с разрушением идей твердо усвоенных, если на их место хочешь поставить идеи новые, неизведанные; не стоит торопиться низвергнуть юный ум в бездну сомнения. Сомнение есть необходимое зло. Можно даже сказать, что оно есть великое добро и что сомнение человека страждущего, смиренного, нетерпеливо алчущего обрести веру есть одно из величайших достоинств прямой души перед Господом. Да, разумеется, человек, закосневший в безразличии к истине, подл, человек, находящий отраду в циническом отрицании, безумен или порочен, но тот, кто плачет над собственным невежеством, достоин почтения, а тот, кто для борьбы с невежеством не жалеет ни времени, ни сил, велик, даже если труды его не принесли еще плода. Однако для того, чтобы пересечь бурное море сомнения и не пойти ко дну, потребны могучая душа или зрелый разум. Многие юные умы отважились пуститься вплавь по этому морю и, не имея компаса, навсегда сгинули в пучине, стали добычей подводных чудищ, жертвой страстей, ничем не сдерживаемых. Расставаясь с тобою, я вверяю тебя Провидению. Оно позаботится о физическом и нравственном твоем спасении. Просвещение нашего века, пролившее такой яркий свет на прошлое и бросившее лишь несколько слабых лучей в будущее, придет тебе на помощь даже под этими темными сводами. Встреть его без страха, но не пленяйся им сверх меры. В порыве отвращения или гнева люди могут разрушить свой дом очень быстро, но отстроить его заново так же быстро им не удастся. Будь уверен, что жилище, которое они предложат тебе, окажется тебе не по росту. Построй же свой дом сам, и пусть он укроет тебя от бурь. У меня нет для тебя иных наставлений, кроме истории моей жизни. Я хотел преподать тебе этот урок чуть позже, но время идет быстро, события свершаются стремительно. Я умру, и, если тридцать лет страданий принесли мне хотя бы несколько чистых истин, я хочу завещать их тебе: распорядись ими согласно велениям своей совести. Я сказал тебе, и не удивляйся спокойствию, с каким я это повторяю, что жизнь моя представляла собою долгое противоборство веры и отчаяния; окончится она в печали и смирении. Однако это – удел моей бренной оболочки, душа же моя полна надежды на жизнь вечную. Не смущайся тем, что видел меня во власти великих сомнений; это также должно послужить тебе уроком. Помни, что человеческий разум и сознание человеческое не созданы для отчаяния, ибо, какую бы власть ни имели надо мною софизмы гордыни, доводы безверия, горести уныния, тревоги страха, в преддверии смерти я вновь питаю надежду. Надежда, сын мой, есть вера нашего века.
Но продолжу свой рассказ. Я возвратился в монастырь в состоянии крайнего возбуждения. Не успел я, однако, переступить порог обители, как эти ледяные своды, под которыми я по доброй воле решился погрести себя вторично, легли мне на плечи исполинским грузом. Когда ворота с ужасным грохотом захлопнулись за мной, эхо, словно очнувшись, повторило этот мрачный звук на тысячи ладов. Этот похоронный марш ужаснул меня невыразимо, и, повернув назад, я бросился к роковым воротам. Будь они приоткрыты, полагаю, я бежал бы из монастыря навсегда. Привратник осведомился, не забыл ли я чего-нибудь за воротами.
– Да, – отвечал я в смятении. – Я забыл там свою жизнь.
Я надеялся найти утешение в саду и устремился туда, не успев даже явиться к настоятелю. Там, где некогда красовались мои клумбы, теперь не росло ни единого цветочка; все заполонил огород; беседки мои были разрушены начисто, прекрасные растения вырваны с корнем, от прошлого остались одни пальмы, которые, страдая от жажды, грустно клонили головы долу, словно пытаясь отыскать на перекопанной земле следы трав и цветов, произраставших некогда в их сени. Я возвратился в свою келью; здесь все оставалось точно таким же, как в день моего ухода из монастыря, но пробуждало в моей душе воспоминания самые тягостные. Я пошел к настоятелю; по выражению моего лица он тотчас заметил, как сильно я опечален, и не скрыл оскорбительной радости победителя. Презрение, переполнявшее мою душу, помогло мне собраться с силами, и, хотя беседа наша, по видимости, касалась лишь предметов самых общих, я в немногих словах дал ему понять, что не заблуждаюсь относительно дистанции, которая отделяет его, хранящего верность монастырскому уставу исключительно из низкой корысти, от меня, возвратившегося под ярмо из благородного самоотречения. Несколько дней я был для монахов предметом подлого и недоброго любопытства. Убежденные, что я вернулся в монастырь исключительно из страха наказания, они радовались, предвкушая мои страдания. Я не доставил им ожидаемого удовольствия: ни единого вздоха не вырвалось в их присутствии из моей груди, ни единого роптания не сорвалось с губ. Я не показал им своих чувств; один я знаю, чего мне это стоило.
От восторга, который вселило в мою душу чудесное видение, явившееся мне на берегу моря, очень скоро не осталось и следа, ибо, вопреки моим надеждам, видение не повторялось; поэтому, очутившись лицом к лицу с печальной действительностью, я вновь уверился в том, что видения эти были лишь плодами временного умопомрачения и что мне следует трезво отдавать себе в этом отчет до конца своих дней. В другую эпоху подобные видения могли бы сделать из меня святого; но в наш век я был вынужден скрывать их как признак слабости или болезни; они вдохновляли меня только на унизительные раздумья о странной нищете человеческого ума. Впрочем, размышления мои приводили меня и к другим выводам: я говорил себе, что, раз природа души загадочна, способности ее загадочны в не меньшей степени; не подлежит сомнению справедливость одного из двух утверждений: либо ум мой временами обретал способность оживлять в моем воображении то, что смерть сделала достоянием прошлого; либо тот, кого сразила смерть, обладал способностью оживать для общения со мной. Между тем в сфере идей подобные способности испокон веков считаются делом совершенно обыкновенным. Никому и в голову не придет им удивляться. Разве можно поверить, что шедевры науки и искусства, приводящие в трепет наши сердца и исторгающие у нас слезы, суть творения мертвецов? Разве смерть истребляет память о великом человеке? Разве по прошествии времени не начинает эта память блистать еще ярче прежнего? Разве в умах и сердцах потомков занимает она место наравне с прочими воспоминаниями? Нет, эта память особая, живая, никогда не перестающая излучать свет и тепло. Разве Платон и Христос не присутствуют среди нас вот уже много столетий? Они думают и чувствуют через посредство миллионов душ, действуют через посредство миллионов тел. Да и что такое, в сущности, само воспоминание? Разве не вправе мы назвать его величественным воскрешением людей и событий, достойных избежать гибели в пучине забвения? И разве воскрешение это не свидетельствует о могуществе прошлого, являющегося на встречу с настоящим, и о могуществе настоящего, отправляющегося на свидание с прошлым? Философам-материалистам угодно было утверждать, что смерть истребляет все живое и мертвецы оказывают на нас лишь то влияние, каким мы наделяем их из приязни или подражания. Однако в согласии с ходом мысли более передовым следует возвратить прославленным людям бессмертие более полное и объединить усилия мертвых и живых, связанных в веках узами нерушимыми. Лишив нас не только доступа на небо, но и бессмертия на земле, философы заплатили слишком большую дань небытию.
А между тем бессмертие на земле существует столь несомнительно, что кажется, будто мертвые воскресают в живых; что до меня, я верую, свято верую в бесконечную преемственность душ – преемственность, которая подчиняется не законам материи, но иным, таинственным законам, зависит не от уз крови, но от иных, невидимых уз. Порой мне случалось задаваться вопросом, не являюсь ли я сам Эбронием, но Эбронием, преображенным в соответствии с наступившим новым веком. Однако поскольку мысль эта была чересчур дерзкой, чтобы оказаться полностью правдивой, я говорил себе, что Эброний мог сделаться мною, не переставая быть самим собой, так же как в мире физическом человек, повторяющий предков статью, чертами и наклонностями, воскрешает их в своем облике, оставаясь при этом существом самостоятельным. Из чего я сделал вывод, что в мире существует два бессмертия, оба материальные и нематериальные разом: одно, принадлежащее земному миру, сберегает для человечества наши идеи и чувства посредством наших творений и свершений; другое, принадлежащее миру небесному, даруется нам по нашим заслугам и мукам и сообщает нам чудесную власть над людьми и вещами в мире земном. Теория эта позволяла мне, не греша самодовольством, признать, что Спиридион живет разом и во мне, и надо мной; во мне – как человек, хранивший при жизни верность долгу и питавший любовь к истине; надо мной – как человек, в награду и утешение за земные муки обращенный в некое божество.
Погруженный в эти мысли, я нечувствительно забывал внешний мир, звуки которого так волновали меня в то недолгое время, когда я имел возможность их слышать. Неистовые порывы, пробудившиеся во мне под влиянием этого мира, утихли, и я сказал себе, что, если одни призваны улучшать устройство общества с помощью героических поступков, другим суждено искать решение великих проблем, подспудно волнующих человечество, с помощью уединенных размышлений. Ведь люди, взявшиеся за оружие, пролагали дорогу в новый мир, еще не освещенный ни одним лучом солнца. Они сражались в потемках, отстаивая для начала свое священное право на свободу. Однако я знал, что после того, как они уяснят и защитят свои права, им придется вспомнить о долге, до которого в продолжение бурной ночи, когда они нередко поражали братьев вместо врагов, им не было никакого дела. Причиной такого грандиозного переворота, как французская революция, не могла быть одна лишь потребность бедняков в хлебе и крове; несмотря на все, что свершилось во Франции, и все, чего там свершить не удалось, я убежден, что революция эта преследовала цели гораздо более высокие. Она должна была не только даровать народу заслуженное благополучие, она должна была довершить начатое до нее и даровать всему роду человеческому полную свободу совести, свободу мысли и веры, и, что бы ни случилось, она – не сомневайся в этом, сын мой, – исполнит свой долг. Но какое употребление приищут люди новообретенной свободе? Какое понятие будут они иметь о своем долге, если обратятся в отважных солдат, которые только и знают, что днем и ночью с оружием в руках отстаивать свои права? Увы! Всякий солдат, павший на поле боя, в последний час устремляет глаза к небу и спрашивает себя, за что он сражался, за что умирает мученической смертью? Вне всякого сомнения, он предчувствует воздаяние; ибо если долг его заключался в том, чтобы отстоять права – свое собственное и своих потомков, то этот долг он исполнил, а всякий, кто исполнил свой долг, достоин воздаяния; однако солдат ясно видит, что воздаяние он получит не на этом свете, ибо своим правом он воспользоваться не успел. Быть может, им воспользуются, в полной мере и к вящей радости, грядущие поколения, которые будут жить на земле в эпоху, когда люди придут к обоюдному согласию относительно своих обязанностей; однако довольно ли будет этого для счастья человека? Если тело мое не будет знать нужды, а свобода будет ограждена от вражеских посягательств, успокоит ли, насытит ли это мою душу, терзаемую жаждой бесконечности? Какой бы мирной и сладостной ни сделалась жизнь на этом свете, сумеет ли она удовлетворить потребности человеческие; как бы широко ни раскинулась земля, не будут ли ее просторы тесны для человеческих мыслей? О, не отвечайте мне на этот вопрос утвердительно, я все равно вам не поверю. Я слишком хорошо знаю, что такое жизнь, сведенная к удовлетворению нужд эгоистических; я слишком хорошо знаю, что такое думы о будущем без надежды на жизнь вечную! В бытность мою монахом я жил, не ведая опасностей и лишений, но меня терзала скука – ложка дегтя, отнимавшая вкус у любой пищи. В бытность мою философом я стремился подчинить все сердечные чувствования власти холодного разума, но меня терзало отчаяние – бездна, стерегущая всякого, кто доверяется одной лишь мысли. О, не говорите мне, что человек познает счастье, когда подле него не останется ни государей, принуждающих его к тяжкому труду, ни священников, грозящих ему загробными муками. Разумеется, ни тираны, ни фанатики ему не нужны, но ему потребна религия, ибо у него есть душа, а значит, он нуждается в Боге.
Вот почему, следя с величайшим вниманием за политическими событиями, свершавшимися в Европе, и видя, сколь химерическими были мои мимолетные мечтания, сколь неосуществимо было намерение посеять и собрать урожай за столь короткий промежуток времени, сколь далеко отбросили людей действия от их цели нужды сиюминутные и сколь часто, прежде чем сделать шаг вперед, сбиваются эти люди с непроезжего пути то вправо, то влево, – видя все это, я примирялся со своей участью и признавал, что не рожден человеком действия. Конечно, я ощущал в своей груди страсть творить добро, упорство и энергию, но жизнь свою я провел в размышлениях; я слишком пристально всматривался в судьбы всего человечества в целом, чтобы начать прокладывать дорогу в чащобе умов человеческих. Я с сочувствием и уважением взирал на бесстрашных первопроходцев, которые, решившись возделывать нераспаханную землю, двигают горы, рушат скалы и, залитые кровью, не страшась ни терний, ни пропастей, поражают с равным хладнокровием и грозного льва, и пугливую лань. Им приходится отвоевывать землю у кровожадных племен, насаждать правила человеческого общежития среди особей, руководствующихся одними лишь слепыми инстинктами физическими. Им все дозволено, ибо все необходимо. Альпийский стрелок убивает не только грифа, но и ягненка, которого тот несет в когтях. Бедствия частных людей раздирают душу наблюдателю; однако бедствия эти неизбежны, ибо их требует благо всеобщее. В злоупотреблениях и крайностях войны не виновато ни дело, за которое бьются воины, ни воля их полководцев. Изображая великую битву, художник непременно рисует на заднем плане ужасные детали, которые производят на нас впечатление тягостное. Замки и храмы рушатся, охваченные огнем; дети и женщины гибнут, раздавленные копытами лошадей; храбрый боец испускает дух среди скал, орошая их своей кровью. Между тем на переднем плане мы видим фалангу победителей; они торжествуют, и пролитая кровь нисколько не умаляет их славы; с ними Бог воинств, и чело их сияет оттого, что дело их – святое и правое.
Так думал я о людях, за которыми отказался последовать. Я восхищался ими, но понимал, что не смог бы подражать им, ибо слишком различна наша природа. Они могли действовать, как не мог действовать я, но я мог мыслить, как не могли мыслить они. Ими владела героическая, хотя и романическая, убежденность в том, что цель близка и что, пролив еще немного крови, они окажутся в царстве справедливости и добродетели. Они заблуждались; равнинные туманы и дым сражений заслоняли от их взоров то, что хорошо различал я, пребывавший на вершине горы; однако если бы не это святое заблуждение, у них недостало бы сил сдвинуть с места весь мир и помочь ему освободиться от пут, его связывавших! Дабы человечество шло вперед по воле Провидения, каждому поколению потребны люди двух родов: одни живут надеждой, верой, иллюзией, и труды их не знают завершения; другие живут предусмотрительностью, терпением, определенностью, и труды их клонятся к завершению того, чего не закончили первые, пусть даже дело это кажется бесплодным и безнадежным. Одни суть матросы, другие – кормчие; одни пускаются в плавание и, смотря по тому, в какую сторону дует ветер судьбы, либо огибают рифы, либо разбиваются насмерть; другие видят рифы и возвещают о них; но, что бы ни случилось с теми и другими, корабль плывет, ибо человечество не может ни погибнуть, ни прервать вечное свое движение.
Итак, я был слишком стар, чтобы жить в настоящем, и слишком молод, чтобы жить в прошедшем. Я сделал выбор, я возвратился к ученым трудам и философическим размышлениям. Я начал все сначала, ибо имел основания считать неудавшимся все сделанное прежде. Я перечел с холодным терпением все те книги, какие прежде поглощал с неистовой жадностью. Я снова дерзнул исследовать землю и небо, творение и Творца, я вознамерился отыскать разгадку жизни и смерти, обратить сомнения в веру, возвратиться на развалины тех построек, которые сам же и разрушил, и возвести их на новых основаниях. Одним словом, я с тем же упорством стремился вернуть Божеству его возвышенную тайну, с каким прежде старался его этой тайны лишить. Именно тогда понял я, как легко разрушать и – увы! – как трудно строить. Одного дня довольно, чтобы уничтожить то, что созидалось в течение столетий. Движимый сомнением и отрицанием, я летел вперед семимильными шагами; возжаждав обрести толику веры, я предпринял труды, на которые ушли годы, и какие годы! Годы, полные тягот, колебаний и печалей! Каждый день их был полит слезами, каждый час наполнен борениями. Анжель, Анжель, несчастнейший из смертных есть тот, кто, взявшись за дело исполинское, поняв его величие и важность, забыв из-за него покой и сон, ощущает, что изнемог в пути и что силы его на исходе. Злополучнейший из сынов человеческих есть тот, кто возмечтал о премудрости, уму его недоступной! Прискорбнейшая из участей есть участь поколения, которое в муках и тревогах тщится добыть знания, скрытые от человеческих взоров вплоть до лучших времен! На зыбучих песках желал я воздвигнуть святилище нерушимое; однако недостало мне ни кирпичей, ни фундамента. Век мой имел понятия ложные, обладал познаниями неполными, выносил о прошлом и о настоящем суждения ошибочные. Я знал это, хотя изучал историю людей и Божьего мира по книгам, слывшим безупречными; я знал это, ибо, на беду, всемогущая логика души моей всякую минуту опровергала логику этих книг. О если бы мог я перенестись на крыльях мысли к источнику всех человеческих знаний, исследовать всю поверхность земного шара и все его недра, угадать далекое прошлое земли по тому праху, коему служит она гигантской усыпальницей, и по тем руинам, в коих погребли бесчисленные поколения память о своей жизни! Но мне приходилось удовлетворяться наблюдениями и предположениями ученых и путешественников несведущих, высокомерных и легкомысленных. Порой, движимый жаждой познания, я принимал решение сделаться миссионером, дабы самолично исследовать славные руины, чей язык остался непонятым, самолично извлечь из-под спуда неведомые сокровища, чьи тайны остались нераскрытыми. Но я был стар; здоровье мое, ненадолго поправившееся благодаря свежему горному воздуху, вновь ухудшилось из-за монастырской сырости и ночных бдений над книгами. И то сказать, как много времени потребовалось бы мне для того, чтобы приподнять хотя бы уголок той завесы, что скрывает тайну мироздания! Вдобавок мелочи – не моя стихия; упорный труд людей дотошных и прилежных восхищает меня, но сам я создан для другого. Я знал, что человеком действия мне не быть ни в политике, ни в науке; мне пристали рассуждения более общего и более возвышенного порядка; я желал возводить постройки гигантские, желал выстроить на основе всевозможных сочинений и всевозможных штудий просторный портик – вход в науку грядущих веков.
Меня влек не анализ, но синтез. Из всего я жаждал извлечь вывод, но вывод не подтасованный и не навязанный извне; даже под страхом смерти я не принял бы того, с чем не согласны мое сердце и мой разум, мои чувства и мой рассудок, и это свойство обрекало меня на вечную муку, ибо жажда истины неутолима, и всякий, кто не может довольствоваться подсказками гордыни, страсти или невежества, обречен страдать беспрерывно. О! – восклицал я нередко, отчего не могу я уподобиться тупому монаху из картезианской обители, отчего не могу, как он, впасть в состояние скотское, отчего не могу, как он, страшиться ада и трудиться, как ломовая лошадь, на монастырском огороде в ожидании того дня, когда останки мои удобрят этот клочок земли? Отчего не могу зарабатывать покой, читая молитвы, а нагуливать аппетит и прогонять докучные мысли, работая мотыгой, отчего не могу умертвить ум свой еще при жизни?
Порой мне случалось даже завидовать тем из наших монахов, кто составлял исключение из общего правила и сохранил истинное благочестие. Помнишь отца Амбруаза, который умер в прошлом году, как они выражаются, в святости: он изнурял себя постами и умерщвлял свою плоть не из лицемерия, а по зову сердца. Однажды ночью лампа моя погасла, а я не успел закончить работу и решил попросить огня у кого-нибудь из монахов; дверь в келью Амбруаза была открыта, и я вошел туда бесшумно, ибо предполагал, что хозяин кельи молится, и не хотел ему мешать. Амбруаз, однако, спал, причем лампа светила ему прямо в глаза. Каждую ночь уже сорок лет кряду он укладывался спать при зажженной лампе, ибо боялся заснуть слишком глубоко и хотя бы на минуту опоздать в церковь на службу. Свет, падавший отвесно на его увядшее лицо, подчеркивал губительные последствия добровольной муки. Амбруаз спал не лежа, а полусидя и притом одетым, ибо не хотел тратить ни единой минуты на бесполезную заботу о собственном удобстве. Долго смотрел я на его вытянутое лицо, на черты, обострившиеся от поста духовного даже сильнее, чем от поста телесного, на впалые щеки, напоминавшие тончайший пергамент, на высокий желтый лоб, блестевший так, как будто его натерли воском. Поистине то был не живой человек, а скелет, иссохший вместе с кожей, труп, который люди забыли похоронить, а черви отказались есть, потому что плоть была слишком тоща. Сон его походил не на покой жизни, а на бесчувственность смерти: ни единый вздох не волновал его грудь. Мне стало страшно, ибо передо мной был человек и не живой, и не мертвый; глазам моим предстала жизнь в смерти, нечто, не имеющее ни названия в языке человеческом, ни места в мире Божьем. И вот это-то святой? – думал я. Разумеется, даже первые пустынники не держали более сурового поста, не обращали к Богу более ревностных молитв. И тем не менее я не испытывал к этому святому ни почтения, ни сочувствия; вид его не вызывал в моей душе ничего, кроме ужаса. Разве мог Господь сжалиться над этим смертным, самовольно приближающим свою кончину? А я, человек, разве мог я восхищаться этой бесплодной жизнью, этим ледяным сердцем? Каждую ночь, старик, ты зажигаешь лампу, подобно страннику, спешащему покинуть ночлег до зари, – но кому ты сам указал дорогу в ночи? Кого ты сам направил по верному пути при свете дня? Кому помог ты в своем долгом благочестивом хождении? Земле ты не дал ничего – не оставил наследника физического, не создал плода умственного, ничего не сделал руками, никого не полюбил сердцем. Ты думаешь, что Господь создал землю исключительно ради того, чтобы ты мог очищаться от скверны; ты полагаешь, что исполнишь свой долг перед нею, завещав ей свои кости! О, недаром ты страшишься и трепещешь, готовясь предстать перед Предвечным! Найдешь ли ты в свой последний час слова, которые откроют тебе врата райские? Раскаешься ли хоть на минуту в страшнейшем из преступлений – в том, что ты не любил никого, кроме самого себя? С этим мыслями я вышел бесшумно, не став даже зажигать свою лампу от лампы этого эгоиста; с того дня собственное ничтожество казалось мне предпочтительнее того, в каком коснеют святоши.
Душа моя, тщетно искавшая верный путь, пребывала в вечном смятении и вечной тревоге, однако я должен был испить до конца чашу усталости и отчаяния, чтобы согласиться со страшным приговором: я бессилен сделать то, что хотел. Сегодня я не стану лукавить: я знаю, что грешу гордыней. Да, я убежден, что с самого начала был гордецом и остался им по сей день. Всепоглощающая жажда истины – чувство почтенное, однако и ему опасно предаваться сверх всякой меры. Нам надобно напрягать все силы, дабы возделывать поле грядущего; однако когда силы иссякают, надобно смиренно довольствоваться тем немногим, что удалось сделать; надобно уподобиться наивному пахарю и сесть подле борозды, нами проведенной. Небесный друг, являвшийся мне, не раз наставлял меня на сей счет, но я так и не сумел воспользоваться его уроками. Воистину жажда бесконечности сводила меня с ума. Живи я в миру и не питай видов более возвышенных, я алкал бы славы и побед; я брал бы пример с Карла Великого или Александра Македонского, а не с Пифагора или Сократа; я мечтал бы о власти над миром; я сделал бы, возможно, немало зла. Благодарение Богу, жизнь моя подходит к концу, и главное преступление мое состоит в том, что я никому не сделал добра. Воротившись в монастырь, я мечтал продолжить свои ученые занятия с пользою для человечества и написать обширный труд о возвышеннейших вопросах религиозных и философических. Я, однако, не взял в расчет свой возраст, не расчислил своих сил. Мне уже исполнилось пятьдесят, а каждый год моих двадцатипятилетних страданий стоил века; вдобавок мне не хватало для работы сочинений, заслуживающих доверия, поэтому я решил ограничиться закладкою фундамента и набросать план моего труда, дабы мне было что завещать человеку, способному продолжить мои разыскания самостоятельно или с помощью третьих лиц; размышляя об этом, я вспомнил свою юность, тайну, которую завещал мне Фульгенций и которая была завещана ему Спиридионом; я пришел к выводу, что настала пора извлечь рукопись из могилы. Теперь мною двигало не заурядное тщеславие, не холодное любопытство, но и не суеверное покорство: теперь меня вела искренняя потребность расширить круг собственных знаний и принести пользу людям, извлекши из этого документа – по всей вероятности, драгоценного – важные сведения касательно тех проблем, какие я стремился разрешить. Мне казалось, что мой долг заключается в том, чтобы рано или поздно обнародовать таинственную рукопись, ибо, как бы ни относился я к тем странным узам, какие связывали мой дух с духом Эброния, я продолжал быть уверенным в величии этого человека.
Итак, однажды ночью я в третий раз за двадцать пять лет предпринял попытку добыть рукопись из гроба. На сей раз исполнить намеченное мне помешало обстоятельство совершенно заурядное и естественное, однако разбудившее во мне бездну дум.
Я вооружился теми же орудиями, что и в прошлый раз. Как ни длинен мой рассказ, ты, надеюсь, не забыл, что случилось в ту давнюю ночь; ты помнишь, что тогда мне пошел тридцать первый год и под действием горячки я стал жертвой ужасного кошмара. Я тоже помнил об этой страшной галлюцинации, но не боялся ее повторения. Есть образы, которые покидают наш мозг навсегда после того, как иные идеи и чувства навсегда покидают нашу душу. С годами я окончательно разорвал те цепи, какими сковывал меня католицизм; цепи эти так тяжелы, так крепки, что на освобождение от них уходит целая жизнь, однако именно по этой причине, однажды освободившись от них, покориться им вновь уже невозможно.
Ночь стояла светлая и прохладная; я чувствовал себя довольно бодро; я нарочно выбрал такую ночь, ибо предвидел, что мне предстоит нелегкая физическая работа. И что же! Вообрази, Анжель, как я ни старался, камень Hiс est не только не сдвинулся с места, но даже не пошатнулся. Я провел подле него три часа, подступал к нему с разных сторон, убеждал себя, что его держит на месте лишь его собственная тяжесть, видел даже следы долота, с помощью которого я прошлый раз отвалил этот камень быстро и без всякого труда. Все было тщетно; камень не поддавался. Взмокнув от пота, не помня себя от усталости и огорчения, я вернулся в свою келью и рухнул в постель.
Первая неудача меня не обескуражила. Неделю спустя я предпринял вторую попытку; она оказалась ничуть не успешнее первой. Неудачным оказался и третий приступ, на который я решился через месяц; после этого мне пришлось навсегда проститься с надеждой добыть рукопись, ибо в этой бесплодной борьбе с могилой я растратил те немногие физические силы, какие у меня еще оставались. Могила между тем оставалась безгласна, мертвецы были глухи, смерть – неумолима; я выбросил долото и рычаг в садовые заросли и возвратился, покойный и печальный, к этой могиле, не желавшей отдавать скрытые в ней сокровища.
Погруженный в раздумья, я сидел на могильной плите до восхода солнца. Утренняя прохлада обратила в лед капли пота, струившиеся по моему телу, и меня разбил паралич; я утратил не только способность двигаться, но и волю; я не услышал колоколов, созывавших к мессе, не обратил ни малейшего внимания на собравшихся в церкви монахов. Я был один во всей Вселенной; между Богом и мною не было никого, кроме этой могилы, которая не желала ни принять меня в свое лоно, ни отпустить на свободу; этот символ всего моего существования поразил меня своею точностью и заворожил мне ум и сердце! Когда меня попытались поднять, выяснилось, что я не могу ни ходить, ни говорить; монахи решили, что мозг мой парализован, как и все остальные члены. Они ошибались; рассудок не отказал мне ни на мгновение за все время болезни, последовавшей за этим происшествием. Разумеется, все объясняли его чистой случайностью; об истинных причинах никто не догадался.
На смену смертному холоду пришел горячечный жар; я страдал сильно и долго, но бредовые видения меня не посещали; у меня хватало даже сил не показывать, насколько тяжело я болен, чтобы за мной не ходили больше, чем мне того хотелось, и почаще оставляли меня одного. В те часы, когда келью мою освещали лучи солнца, болезнь отступала; меня посещали мысли более спокойные и радостные, зато ночью неизбывная печаль завладевала мною безраздельно. Для деятельных умов бездействие невыносимо; скука, худшая из мук, какие влечет за собою болезнь, терзала меня немилосердно. Вид моей кельи мне опротивел. Стены ее, вызывавшие у меня в памяти все порывы энтузиазма и приступы уныния, какие я испытал в тщетном стремлении к истине; постель, на которой я так часто метался в жару и потерял здоровье в борениях со смертью; книги, которые я читал без пользы, астролябии и телескопы, служившие лишь для исследования бездушной материи, – все это пробуждало во мне угрюмую ярость. К чему жить человеку, который пережил самого себя? – думал я. К чему жить человеку, который ничего не сделал? О безумец, ты хотел осветить грядущее лучом своего ума, но не нашел в себе сил сдвинуть могильный камень и узнать, что написано в спрятанной под ним рукописи! О несчастный, пока ты был юн и пылок, ты стремился охладить свой ум и сердце, а теперь, когда близится смерть, ум и сердце твои вздумали воспылать! Умри же, раз тебе изменили разом и голова, и руки; ибо если сердце твое еще дерзает жить и гореть любовью к идеалу, этот божественный пламень сумеет лишь сжечь дотла твое нутро и осветить безжалостным светом твое бессилие и ничтожество.
Мысли эти заставляли меня ворочаться на моем жалком одре и проливать слезы ярости. Внезапно чистый голос нарушил ночную тишину:
– Неужто ты полагаешь, что тебе не в чем покаяться, – тебе, дерзающему жаловаться так горько? – спросил меня этот голос. – Кого винишь ты в своих несчастьях? Не ты ли сам свой единственный, свой заклятый враг? Кто наградил тебя преступной гордыней, кто внушил тебе бесконечную, слепую любовь к самому себе, кто заворожил мыслью, будто наука приблизит тебя к идеалу, кто заставил искать этот идеал исключительно в глубинах собственного ума?
– Ты лжешь! – вскричал я гневно, не успев даже задуматься о том, кто может задавать мне такие вопросы. – Ты лжешь! Я всегда ненавидел себя; я всегда был скучен, противен, мерзок себе самому. Я искал идеал повсюду, как ищет олень жарким днем прохладный водоем; меня снедала жажда идеала, и если я не нашел его…
– То виной тому идеал, не так ли? – перебил меня тот же голос с холодным участием. – Господь Бог обязан предстать перед людским судом и открыть тайну, какой он дерзнул окутать участь человека и к какой человек соблаговолил проявить интерес, – и это, по-вашему, не называется гордыней?
– По-вашему? – переспросил я с удивлением. – Но кто ты сам, взирающий с такой жалостью на род человеческий и, по всей вероятности, почитающий себя свободным от его слабостей?
– Я тот, – отвечал голос, – кого ты не хочешь знать, ибо ты всегда искал меня там, где меня нет.
При этих словах пот прошиб меня, а сердце едва не выскочило из груди, и, приподнявшись на постели, я спросил его:
– Неужели ты тот, кто спит под камнем?
– Ты искал меня под камнем, – отвечал он, – и камень не поддался тебе. Разве ты не знаешь, что рука человеческая слабее цемента и мрамора? Зато ум человеческий двигает горами, а любовь способна воскрешать мертвых.
– О учитель мой! – вскричал я в исступлении. – Я узнаю тебя. Это твой голос, это твои речи. Будь же благословен ты, кто приходишь ко мне в час скорби. Но где надобно было искать тебя и где найду я тебя на земле?
– В сердце своем, – отвечал голос. – Устрой в нем приют для меня. Очисти его, укрась, как украшают дом к приходу дорогого гостя, воскури благовония. А иначе – что сделаю я для тебя?
Голос замолк, и тщетно я вопрошал его: ответа мне не было. Я остался один во тьме. Волнение душило меня, и я заплакал. Объятый скорбью, я исследовал всю свою жизнь в сердце своем. Я понял, что жизнь эта в самом деле была не чем иным, как нескончаемой битвой и нескончаемым заблуждением, ибо я всегда желал сделать выбор между разумом и чувством и никогда не имел силы их примирить. Вечно желая опереться на доказательства неопровержимые, на основания рукотворные и вечно находя основания эти ненадежными, я не имел ни гения, который позволил бы мне пренебречь мнениями человеческими, ни могучей уверенности – достояния великих душ, – которая позволила бы мне их исправить. Я не осмелился отвергнуть положения метафизики и геометрии, противоречившие голосу моей совести. Сердцу моему не хватило жара, а мозгу – мощи для того, чтобы сказать науке: «Ты ошибаешься; мы не знаем ничего, нам предстоит долгая учеба. Раз путь, которым мы идем, не приводит нас к Богу, значит, мы сбились с пути; возвратимся в исходную точку и попытаемся отыскать Бога: ибо мы блуждаем впотьмах вдали от него, и сколько бы люди ни убеждали нас, что мы и сами благодаря своей сноровке уже сделались богами, мы чувствуем смертный холод и устремляемся в пустоту, уподобляясь тем небесным светилам, что гаснут, нарушая вечный закон мироздания».
С того дня я дал волю самым пылким своим чувствованиям, и тогда свершилось великое чудо. Я старел, но сердце мое, вместо того чтобы охладевать нравственно, оживало и возрождалось; чем сильнее дряхлело тело, тем моложе становилась душа. Как сбрасывают изношенное платье, так я освобождаюсь от животных инстинктов; но чем меньше завишу я от своей телесной оболочки, тем сильнее верю в свое бессмертие. Небесный друг приходил не раз, но не жди от меня подробного рассказа об этих посещениях. Они так же загадочны для меня, как и прежде, и я не пытаюсь разгадать эту загадку, ибо остерегаюсь подвергать случившееся со мной холодному анализу: я слишком хорошо знаю, чем чреват пристальный разбор подобных впечатлений: ум леденеет, а впечатление рассеивается. Хотя в сочинениях, с которыми ты познакомишься после моей кончины, я почел своим долгом изложить нынешнее мое исповедание веры как можно более логично и упорядоченно, все же я позволил себе набросить покрывало поэзии на те часы, когда потемки мира физического рассеивались для меня и, весь во власти энтузиазма и умиления, я входил в прямые сношения с этим высшим духом. Есть вещи сокровенные, которые лучше хранить в тайне и не выставлять на поругание. В бесхитростной истории моей жизни, жизни безвестной и горестной, о Спиридионе не говорится ни слова. Если самого Сократа обвиняли в шарлатанстве и обмане за рассказы об общении с тем, кого он называл своим домашним гением, сколько упреков в фанатизме навлек бы на себя монах вроде меня, дерзни он признаться, что вел беседы с призраком! Я не сделал этого признания и делать его не собираюсь. И тем не менее я запросто мог бы объясниться на сей счет с ученым скромным и добросовестным, который согласился бы без иронии и предрассудков обсуждать чудеса, старые как мир, но ждущие нового объяснения. Где, однако, отыскать в наши дни такого ученого? Сегодня наука спешит отвергнуть все рассказы о явлениях сверхъестественных, ибо ими слишком долго злоупотребляли невежество и ложь. Если политики вынуждены пускать в ход меч, дабы разрешить вопросы социальные, ученые почитают себя обязанными, дабы открыть новые просторы для исследования, без разбора предавать огню и заклинания колдунов, и жития святых. Придет, однако, час, когда все, что должно быть разрушено, исчезнет с лица земли, – тогда люди примутся разыскивать среди развалин прошлого бессмертную истину, которую отличат от заблуждений и домыслов по приметам несомнительным: так некогда Крез понял, что все оракулы лгут, кроме дельфийской Пифии, ибо она непостижимым образом прознала о самых потаенных его деяниях. Быть может, тебе позволено будет увидеть зарю этой новой науки, без помощи которой невозможно объяснить судьбу человечества и постигнуть смысл его истории. Быть может, ты доживешь до времени, когда чудеса, предсказания и предзнаменования древности перестанут казаться всего лишь проделками колдунов или глупыми выдумками священников, измышленными для запугивания паствы. Разве уже теперь наука не дала удовлетворительного объяснения многим явлениям, которые предки наши почитали сверхъестественными? Отчего же не допустить, что иные факты, кажущиеся невероятными и лживыми в наши дни, получат истолкование не менее естественное и убедительное в ту пору, когда наука расширит людские горизонты. Что же до меня, то, хотя я не вижу смысла прибегать к слову «чудо», ибо ежеутренний восход солнца ничуть не менее чудесен, чем явление мертвеца живому, я не пытался пролить свет на эти сложные вопросы: мне недостало времени. Я слышал о Месмере; не знаю, обманщик он или пророк; по рассказам он вызывает у меня недоверие, ибо выводы его слишком смелы, а так называемые свидетельства очевидцев слишком многочисленны для открытия столь недавнего. Я не успел понять, что разумеют они под словом «магнетизм»; исследовать это в должное время и в должном месте надлежит тебе. Я же не мог позволить себе тратить время на разбор этих смелых теорий; более того, я, как мог, боролся против их притягательной силы. Я был обязан исполнить долг куда более очевидный и неотложный – занести на бумагу отдельные фрагменты вечной моей думы, плода бесед с Духом».
Тут Алексей на мгновение замолчал и положил руку на книгу, которая была мне прекрасно известна, ибо он нередко справлялся с нею, хотя я, к своему великому изумлению, видел, что все страницы в ней чисты и ни единого слова на них не написано. Поскольку я взглянул на него с изумлением, учитель мой отвечал с улыбкой:
– Я не сошел с ума, не бойся; книга эта написана особыми чернилами, и тот, кто знает их состав, прочтет ее без всякого труда. Я счел необходимым прибегнуть к этой предосторожности, дабы не стать жертвою монастырских шпионов. Я научу тебя простому способу, который позволит тебе в назначенный срок сделать невидимые буквы видимыми. Не знаю, сможет ли эта рукопись когда-либо кому-либо принести пользу; до тех пор, пока нужды в ней не возникнет, спрячь ее. В том виде, какой она имеет сейчас, – недописанная, не приведенная в порядок, не завершающаяся никакими выводами, – она недостойна обнародования. Людям нового поколения – тебе ли или кому-то иному – предстоит написать ее заново. Единственное ее достоинство заключается в том, что она содержит честный рассказ о жизни, полной тягот, и бесхитростный набросок нынешнего моего образа мыслей.
– Но позволено ли будет мне, отец мой, узнать побольше об этом образе мыслей?
– Я обрисую тебе его тремя словами, выражающими всю мою теологию без остатка, – отвечал он, открывая свою книгу на первой странице. – «Верить, надеяться, любить». Если бы католическая церковь могла привести все положения своей доктрины в согласие с этим возвышенным определением трех теологических добродетелей: веры, надежды, милосердия, – она сделалась бы воплощенной мудростью и справедливостью, одним словом, истиной на земле. Но римская церковь нанесла себе последний, роковой удар; она сама подписала себе смертный приговор в тот день, когда изобразила Господа неумолимым, а проклятие вечным. В тот день все благородные сердца отвернулись от нее; католическая философия забыла о любви и сострадании, а теология сделалась простой игрой ума, чередой софизмов, забавой великих умов, тщетно пытающихся заставить молчать голос своего чувства, покровом для ненасытных амбиций, маской для чудовищных несправедливостей…
Тут отец Алексей снова замолчал и внимательно посмотрел мне в глаза, желая узнать, какое впечатление произведет на меня этот суровый приговор. Я понял его тревогу и, крепко сжав его руки, сказал твердо и с улыбкой, призванной доказать, как безгранично я ему доверяю:
– Значит, отец мой, мы больше не католики?
– Не только не католики, – отвечал он громко и уверенно, – но и не протестанты. Но также и не философы вроде Вольтера, Гельвеция или Дидро; и не социалисты вроде Жан-Жака и членов французского Конвента; но в то же самое время мы не язычники и не атеисты!
– Но кто же мы такие, отец Алексей? – удивился я. – Ведь вы сами сказали, что у нас есть душа, что Бог существует и что нам потребна религия.
– И у нас она есть, – вскричал он, приподнимаясь на постели и простирая исхудавшие руки к небу в порыве энтузиазма. – Наша религия – единственно истинная, единственно всеобъемлющая, единственно достойная Божества. Мы верим в Божество, иными словами, мы знаем его и к нему стремимся; мы надеемся на Божество, иными словами, мы желаем обладать им и ради этого трудимся, не жалея сил; мы любим Божество, иными словами, мы ощущаем его и мысленно им обладаем; сам Бог есть не что иное, как возвышенная троица, слабым отблеском коей и становится наша смертная жизнь. Что у человека вера, то у Бога – наука; что у человека надежда, у Бога – мощь; что у человека милосердие, или, говоря иначе, благочестие, добродетель, трудолюбие, то у Бога – любовь, или, говоря иначе, вечное сотворение, сохранение и совершенствование. Итак, Бог знает нас, зовет и любит; именно Бог открывает нам Бога, именно Бог внушает нам потребность в Боге, именно Бог разжигает в нас любовь к Богу; одно из величайших доказательств бытия Божия обретается в человеке и его инстинктах. Человек постоянно задумывает, лелеет и предпринимает в своей конечной сфере то, что Бог знает, хочет и может в своей сфере, имя которой – бесконечность. Если бы Бог мог перестать быть средоточием ума, мощи и любви, человек низвел бы себя до состояния скотского, и всякий раз, когда человеческий ум отрицает умное Божество, он убивает самого себя.
– Но как же, – перебил я его, – быть с теми великими атеистами нашего века, чьи познания и красноречие пользуются такой славой?
– Атеистов не существует, – с жаром отвечал отец Алексей, – нет, не существует! Бывает так, что в эпохи философических исканий рождаются на свет люди, которые, наскучив заблуждениями прошлого, решают отыскать новую дорогу к истине. Тогда принимаются они блуждать по тропам неизведанным. Одни, выбившись из сил, усаживаются на земле и предаются отчаянию. Что же такое это отчаяние, как не вопль, который исторгает из их душ любовь к Божеству, скрывающему свой лик от их усталых глаз? Другие с жаром устремляются на штурм всех вершин и с простодушной самоуверенностью полагают, будто достигли цели и выше подняться невозможно. Что же такое эта самоуверенность, что такое это ослепление, как не безудержное, нестерпимое желание поскорее припасть к Божеству? Нет, эти атеисты, справедливо превозносимые за их интеллектуальное величие, суть люди глубоко религиозные, которые стремятся к небу, но в стремлении своем выбиваются из сил или сбиваются с пути. Если же следом за ними увязываются люди низкие и развращенные, которые поминают небытие, случай и грубую природу лишь для того, чтобы оправдать свои постыдные пороки и низменные склонности, то и в этом нетрудно разглядеть еще одно свидетельство Божьего величия. Ибо для того, чтобы избавить себя от стремления к идеалу, от честного труда во славу человеческого достоинства, люди вынуждены обрушивать на этот идеал хулу. Между тем если бы внутренний голос не нарушал подлый покой развратника, тот не отрицал бы с таким пылом существование верховного судии. Взывая к Провидению, природе, законам творения, философы нашего века по-прежнему взывали к Богу истинному, давая ему, однако же, новые имена. У всемирного Провидения или у неисчерпаемой природы философы эти искали защиты от мрачных сект, обрушивавших одна на другую страшные проклятия, от злодеяний инквизиции, от нетерпимости и деспотизма. Когда при виде звездного неба Вольтер толковал о великом часовщике, когда Руссо вел своего ученика на вершину горы, дабы преподать ему первые понятия о Творце при виде восходящего солнца, эти доказательства бытия Божия были, разумеется, неполны и несовершенны сравнительно с теми неопровержимыми, ослепительно яркими доказательствами, какие будут явлены человечеству в будущем, и тем не менее и Вольтер, и Руссо обращались к тому самому Богу, какого славили под разными именами, какому поклонялись в разных формах все поколения рода людского.
– Но откуда же мы извлечем эти ослепительно яркие доказательства, – спросил я, – если мы отрицаем откровение, а одним внутренним чувством обойтись не можем?
– Мы не отрицаем откровение, – живо отвечал отец Алексей, – а внутренним чувством можем обойтись до определенной степени; мы, однако, подкрепляем его доказательствами другого рода: в том, что касается прошлого, это опыт всего человечества в целом, в том, что касается настоящего, это единение всех чистых душ в поклонении Божеству и красноречивый глас собственного нашего сердца.
– Значит, вы принимаете в откровении то, что есть в нем вечно Божественного, – великие представления о Божестве и бессмертии, понятия о добродетели и долге, из них вытекающие?
– Человек, – отвечал отец Алексей, – похищает понятия об идеале у самого неба, так что покорение возвышенных истин, пролагающих дорогу к идеалу, есть не что иное, как договор, брак между человеческим умом, который ищет, надеется и просит, и умом Божественным, который тоже ищет – ищет сердце человека, надеется покорить его и соглашается царить в нем. Потому мы признаем наставников, какие бы имена ни были им присвоены. Герои, полубоги, философы, святые или пророки – мы склоняем голову перед всеми этими отцами и учителями человечества. Мы можем почитать в человеке, наделенном возвышенными познаниями и возвышенными добродетелями, прекрасный отблеск света Божественного. О Христос! Придет время, и тебе воздвигнут алтари новые, более достойные тебя, тебе возвратят истинную славу – славу спасителя и сына земной женщины, славу друга человечества и пророка идеала.
– И преемника Платона, – добавил я.
– Как Платон был преемником других провозвестников, славу которых мы почитаем, дело которых мы продолжаем.
Алексей ненадолго замолк, словно желая дать мне время обдумать его слова, а затем вновь заговорил:
– Да, мы продолжаем дело этих провозвестников, но мы продолжаем его, оставаясь свободными. Мы имеем право исследовать их учение, комментировать его, обсуждать, даже исправлять; ибо сила гения в них – от Бога непогрешимого, а слабость разума – от природы человеческой. Посему не только дозволено, но и должно, и суждено нам толковать их заветы, продолжать их труды.
– Нам, отец мой! – вскричал я с ужасом. – Но по какому же праву?
– По праву людей, родившихся позже них. Господу угодно, чтобы мы не останавливались на на мгновение; во все времена по его воле являются на свет пророки; зачем? Чтобы толкать человечество вперед, а не для того, чтобы тащить его за собой; первое – удел людей; второе – участь подлого скота. Когда Иисус приступил к расслабленному, он не сказал ему: «Пади ниц и ползи за мною следом». Он сказал: «Встань и ходи».
– Но куда пойдем мы, отец мой?
– Мы пойдем в будущее; пойдем, полные памяти о прошлом, пойдем, заполняя настоящее учеными занятиями, сосредоточенными размышлениями и постоянным стремлением к совершенству. Выказывая отвагу и смирение, черпая в созерцании идеала волю и силу, обретая в молитве энтузиазм и веру, мы добьемся того, чего алчем: Бог просветит нас и поможет нам передать наши знания людям… Каждый из нас сделает то, что ему по силам; мои силы, дитя мое, на исходе. Я не сделал того, что мог бы сделать, ибо был воспитан в лоне католицизма. Ты знаешь, ценою каких долгих тягот завоевал я право теперь, у врат могилы, произнести всего два слова: «Я свободен!»
– Но зато два эти слова стоят множества других, отец мой! – вскричал я. – Услышанные из ваших уст, они имеют надо мною безраздельную власть, и только из ваших уст я могу слышать их без недоверия и смятения. Быть может, не услышь я от вас этих слов, я всю жизнь коснел бы в заблуждении. Живи я до конца дней в этом монастыре, я, должно быть, изнемог бы под игом фанатизма. Живи я в вихре света, я, пожалуй, уступил бы гибельному влиянию человеческих страстей и соблазнов безбожия. Благодаря вам я утвердился на верном пути. Я надеюсь, что уже никогда не поддамся на обольщения атеизма; я чувствую, что навсегда освободился от оков суеверия.






