Потерпевшие претензий не имеют Вайнер Георгий
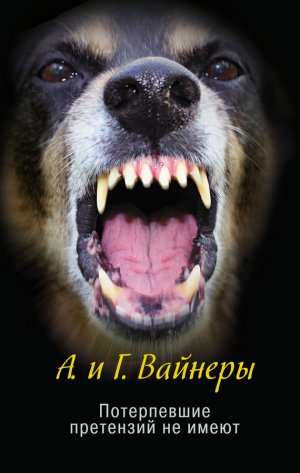
И мне это нравится. Вот только злопыхательски ехидный вопрос не дает покоя: а что же все это время происходило с остальными восемью – десятью делами, которые должен вести всякий следователь?
Приостановили ли по ним срок производства?
Чем занимались арестованные, по ним обвиняемые?
Куда девались подозреваемые?
Не запамятовали ли чего свидетели?
И вообще – как к этой сосредоточенности относились надзорные инстанции?
Очень досадно, конечно, но сейчас у меня вместе с тремя верещагинскими в производстве одиннадцать дел. Если же я выберу из них какое-то самое нужное, самое яркое, самое справедливое и буду долгими днями и бессонными ночами заниматься только им, то как раз к триумфальному его завершению меня с полным удовольствием выпрут с работы за волокиту по остальным делам. О, печальный разрыв яркой художественной достоверности с серой, но суровой реальностью!
К сожалению, не только по важным или интересным, а по всем без исключения делам должно происходить следственное движение. Скучная процессуальная динамика. И как пастух не может бросить на пастбище малоудойных или несимпатичных ему коров, так и следователь обязан привести в срок все доверенные ему дела к законному их окончанию.
Другой вопрос, что в своем хозяйстве следователь сам устанавливает первоочередность и иерархию, в которой главную роль играют арестантские дела. Самые ответственные – по ним сидит в заключении человек, обвиняемый, которому мерой пресечения избрано содержание под стражей.
Существует одна вещь, которая теоретически кажется простой, как аксиома, для нас же она сложна, как жизнь, и всегда бритвенно остра. Это всеобщий договор цивилизованных людей о том, что человеческая свобода священна и отнять ее можно только по приговору суда, доказавшего и утвердившего вину человека. И любой гражданин, будь он семь раз убийца, совратитель и поджигатель, считается по закону невиновным до тех пор, пока суд – только суд! – не вынесет приговор, утверждающий его вину.
Те заключенные, что числятся за мной по расследуемым делам, никакого наказания не отбывают и покуда виновными еще не признаны. Есть веские основания обвинить их в совершении тяжких преступлений, но мне еще надлежит доказать их вину. И для того чтобы предполагаемый преступник не сбежал, не помешал установлению истины, мне предоставлены государством чрезвычайные, ни с чем не сравнимые полномочия, равных которым нет ни у кого. На основании закона, своих предположений, очевидных фактов и свидетельских показаний я имею право ограничить свободу другого человека. А попросту говоря, посадить в тюрьму. По существу, лишая свободы обвиняемого, я под свою ответственность отмеряю ему заранее часть наказания из того срока, который по моему представлению назначит суд.
Поэтому следователь, вынося постановление о взятии обвиняемого под стражу, и прокурор, санкционирующий арест, прежде чем принять такое решение, долго думают и взвешивают все обстоятельства. Потому что время от времени в силу самых разных причин происходит кошмарное ЧП – выясняется, что обвиняемый невиновен или вина его не доказана и мера пресечения во время предварительного следствия оказалась необоснованной. А если называть вещи своими именами – я заставил человека авансом отбыть позорное и тяжкое наказание, которого он не заслужил.
И чтобы муки нашей следовательской совести, душевная горечь, сердечная боль, профессиональный стыд и другие возвышенные, но трудноизмеримые чувства запомнились на весь оставшийся срок службы – нам всем по инстанции снимают в таких случаях наши многомудрые головы.
Оттого-то каждый следователь, принимая к производству новые дела, для начала ставит на контроль арестантские – по ним предусмотрен жесткий срок расследования и содержания обвиняемых под стражей. Не управился вовремя, не передал к сроку обвинительное заключение в суд – иди к начальству, валяйся в ногах, плачь, вымаливай отсрочку или выпускай подследственного на волю до суда.
Я раздумывал об этом в канцелярии следственного изолятора, дожидаясь, пока ко мне доставят арестованного Александра Степанова, а подсознательно угадывал, что все эти мысли – лишь оправдания перед самим собой или несуществующими критиками моей вялой, несамостоятельной личности: стоило мне получить пачку чужих дел, тех, что свалились с пиршественного стола чужой жизни, как я сразу же отодвинул все свои дела, нужды и задачи и бросился выполнять данное поручение.
Наверное, я еще много чего надумал бы о себе всякого, но пришел замнач следственного изолятора по режиму майор Подрез, приветственно похлопал меня по спине, тепло поздоровался и озабоченно сообщил:
– Слушай, Борис, а ты стал полнеть… – Он это говорит всем – жирнягам и дистрофикам, и не от внимания, и не от рассеянности, а от желания сразу поставить собеседника в оборонительную позицию.
– Ну да, – кивнул я. – С позавчера, как не виделись, полпуда прибавил…
Подрез радостно захохотал:
– Вот дает! Но все равно сейчас каждую субботу по телевизору показывают музыкальную гимнастику, аэробика называется. Ты учти, тебе не помешает…
– Ладно. В субботу к тебе заеду, мы тут, в тюрьме, с тобой попрыгаем.
– Да ты и без меня хорошо напрыгаешься со своим Степановым…
– А он что, тоже стал полнеть?
– Безобразничает он. Видать, хулиган тот еще! Подрался вчера. Пришлось его в карцер на три дня посадить.
– А с кем дрался?
– С сокамерниками. Там разве точно установишь, со шпаной этой? Но Степанова с Кузькиным надзиратель засек. Обоих и отправил на три дня просвежиться.
– Хорошо, проводи меня к нему…
Чтобы попасть из служебного корпуса в следственный изолятор, надо пройти через внутренний двор, неестественно пустой и неправдоподобно чистый, – такие дворы бывают только в инфекционных больницах и тюрьмах. Отшлифованная брусчатка, ровные линейки газонов с чахлыми астрами. На краснокирпичной башенке выложена дата сооружения – 1846. В те времена это грустное заведение называлось дисциплинарными казармами. И прозвище носило неплохое – Живодерный форт. Рассказывали, что в первом, тогда еще недостроенном корпусе содержали какое-то время пленного Шамиля, которого везли на поселение в Россию. Каких только названий не имел форт за свой долгий век: арестантские роты, сугубый централ, исправительный дом, дом предварительного заключения, тюрьма, а теперь вот следственный изолятор.
Сколько лет я хожу сюда, а все равно не исчезает неприятное теснение в груди, когда конвойный солдат, внимательно прочитав удостоверение и тщательно всмотревшись в лицо, сравнивает его с фотографией и коротко говорит:
– Проходите…
И сзади лязгает стальная, с решеткой дверь. Сводчатый потолок, темно-зеленые и грязно-синие стены, сбоку ворота из тяжелых дубовых брусьев в железной оковке.
Коридоры, коридоры, лестничные переходы, стук каблуков по каменному полу, скрежет ключей в замках на тамбурах-«рассекателях». Два марша вверх, надзиратель, предварительно заглянув в «волчок», распахивает дверь в карцер.
Глава 5
Высокий русый парень встал нам навстречу, руки по швам, четко отрапортовал:
– Заключенный Степанов, двадцать четыре года, ранее не судимый, статья сто вторая, отбываю наказание в штрафном изоляторе за нарушение режима в камере.
– Здравствуйте, Степанов. Садитесь. Я ваш новый следователь.
Степанов сел на койку, усмехнулся криво:
– А старый что, на допросах со мной весь измылился?
– Нет, ваш бывший следователь Верещагин перешел на другую работу. Дело поручили мне. А почему вы о нем так? Вам что, Верещагин не нравился?
– А чего там нравиться? Небось не девка в парке. Нравился! Видал я вас всех… – Он на миг запнулся и добавил все с той же кривой ухмылкой: – …в белых тапочках…
Подрез не выдержал такого злостного нарушения субординации и сообщил ему железным голосом:
– За хамничание со следователем можно и увеличить срок пребывания в штрафном изоляторе…
Степанов взялся за голову:
– Ох, напугали, гражданин майор! Ох и напугали! Еще неделю посидеть без горячей баланды! И без этой шантрапы!
– Шантрапы?! – взвился Подрез. – А вы кто, Степанов? Народный артист?
Степанов встал и сказал свистящим шепотом Подрезу в лицо:
– Я не артист, я шоферюга. Но человек! А они барахло приблатненное!
– Держитесь скромнее, Степанов! – строго заметил Подрез. – Они приблатненные, а вы убийца. И нечего нос задирать…
Я мягко остановил Подреза:
– Спасибо, Иван Петрович, я сейчас сам разберусь, – тихонько отпихнул его и уселся напротив Степанова на табурет. Крошечный столик был между нами. Подрез махнул рукой – разбирайтесь сами! – и вышел. – Послушайте, Степанов, у меня нет охоты и времени тут препираться с вами. А про Верещагина я спросил, поскольку мне показалось, что вы о нем сказали с досадой и злобой…
– Ничего я не говорил. Следователь как следователь. Шустрый парень, задница веретеном. И расследовать ему там особо нечего, я сам рассказал, как дело было, все признал. Раскаиваюсь в совершенном. Готов понести наказание…
– Ну что ж, это меня радует, – сказал я, встал, прошелся по крошечной камере, остановился под окном, расчерченным решетками в крупные квадраты и забранным снаружи «намордником» – частым металлическим жалюзи, из-под которого сочились тонкие серые полоски дневного света.
– Чему вы радуетесь? – настороженно спросил Степанов и откинулся назад, словно хотел внимательно присмотреться ко мне.
– Тому, что вы раскаиваетесь. Как говорит наш прокурор, искреннее раскаяние есть первый шаг к реальному искуплению вины. Вот только беспокоит меня одна подробность…
– Это какая же? – Степанов напряженно смотрел на меня, и мне казалось, что глаза у него налиты йодом.
– Насколько оно искренне, ваше раскаяние…
– Раз говорю, значит, искренне, – со злостью тряхнул головой Степанов. – Раскаяние – оно всегда искреннее.
– Мне так не показалось, – спокойно сказал я.
– Ну, раз не показалось, значит, креститься не надо. Что мне, для доказательства своей искренности здесь, на стенке, распнуться, что ли? – И он широко развел руки в стороны.
– Да не надо распинаться. На Христа-страстотерпца вы все равно не похожи, да и гвоздиков под рукой нет. Я просто хотел обсудить с вами один вопрос… Посоветоваться, что ли. Вы ведь в местах заключения впервые?
– Слава Богу, не доводилось…
– Вот видите, впервые. И к счастью, совсем недавно. А я, можно сказать, отбыл в тюрьме несколько лет. Прикиньте, сколько я тут дней, недель, месяцев провел на допросах, вот и набираются годы.
– Но хоть вечером домой уходите или тут же и ночуете? В свободной камере? – перебил меня, свистя горлом, Степанов.
– И ночевать случалось, – заверил я его. – А то, что меня в отличие от вас вечером домой отпускают, так ведь никого пока не убивал. Так что мне и дней, проведенных в тюрьме, хватает…
– Может быть, – кивнул он. – Только не пойму, что вы этим сказать хотите… Это же не я вам такую работенку кислую подыскал.
– Что я хочу сказать? Как бы вам объяснить… Я ведь здесь много-много раз, десятки раз, а может, и сотни слышал: «Я раскаиваюсь…» Вот я и хотел спросить: а что это такое? Что значит: «Я раскаиваюсь»?
– А вы сами не знаете? Или мне экзамен на совестливость устраиваете? – Он разъяренно, с вызовом вперился в меня своими темно мерцающими глазами.
– Я так понимаю, что раскаиваться по-настоящему, искренне раскаиваться – это мучиться душой, сердцем страдать, совестью убиваться. Горевать от той беды, что ты людям сотворил, от греха своего по земле пластаться, головой о стену биться, выхода искать, как возместить утраченное… Я так это представляю.
– Красиво представляете! – с какой-то необъяснимой злостью выкрикнул Степанов. – А я раскаиваюсь просто! И возместить никому ничего не могу! Кроме годочков, которые я тут отбахаю! Я же сказал вам, что готов отбыть наказание! И зачем вам все эти разговоры, вот чего я не понимаю!
– Ну знаете, есть такой странный обычай, традиция, можно сказать: когда люди знакомятся, они ведут разговоры. И стараются лучше узнать друг друга, понять…
– Это конечно! Наступит у нас полное взаимопонимание, и следствие протянет костлявую руку помощи… – ядовито улыбнулся Степанов, а в глазах у него плыла тоска.
– Трудно сказать, какую там, костлявую или мускулистую, но покамест вы в моей помощи явно не нуждаетесь. Сами в любой ситуации отобьетесь.
– Да уж надеюсь, – сердито прищурился он.
– А в камере вы чего дрались? – полюбопытствовал я.
– Я не дрался! – отрезал Степанов.
– Может, это Кузькин сам с собой дрался? А надзиратель все перепутал?
– И Кузькин сам с собой не дрался, – равнодушно ответил он. – Это я ему и его поганым дружкам пару раз по морде дал…
– Ого! – с восхищением заметил я. – И много их было, дружков-то?
– Двое. Да не имеет это значения…
– А чего вы вдруг с ними так строго?
– Потому что они шпана. Крысиная братия. Большие шалуны. А крыса понимает один резон – опаску. Крысу словом не проймешь, она должна страх знать. Да вообще-то не важно это сейчас, они больше безобразничать в камере не будут.
– А вы это все майору Подрезу сообщили?
– Зачем? – удивился Степанов. – Это же глупо. Убийца жалуется на трех шакалов, что они его хотели с нар согнать? Неприлично. Да и бесполезно, их ведь трое, они коллектив, сами друг другу свидетели, и тихари их боятся. Ладно, плевать…
Его кулаки лежали на столике будто отдельно от него, это была не часть тела, а здоровенный ладный инструмент вроде хорошо помолотившего, а теперь забытого здесь цепа.
– Понятно, понятно, – сказал я и достал из портфеля папку с документами. – Я ознакомился, Степанов, с вашим делом, и обстоятельства его мне более или менее ясны…
– Вот и замечательно, – с энтузиазмом откликнулся он. – Скорее сяду – скорее выйду…
– Вы никак в колонию торопитесь?
– Конечно! Скорей бы суд миновать и в колонию. Здесь сидеть, время мять невмоготу…
– А в колонии что?
– Работа какая ни есть. Я колонии не боюсь. Я шофер, слесарь, электрик, монтажное дело знаю. Я всю жизнь вкалываю! В колонии тоже есть передовики и лодыри. Я там три нормы буду вламывать, зачет мне пойдет. Глядишь, условно-досрочно через пару-тройку лет на воле буду…
Я видел, как он накачивает себя, как изо всех сил духарится, как старается держаться, не пустить в сердце льдистую кислоту страха. Но мне обманывать его тоже никакого смысла не было.
– К сожалению, Степанов, дела обстоят не так розово, – сказал я. – К осужденным за умышленное убийство условно-досрочное освобождение не применяется…
Он яростно вперился в меня, и в глазах его бушевала буря – смятение, надежда, злость, растерянность. У нас случаются такие бури в сентябре: одновременно хлещет ливень, в дырищи черных туч прорываются пылающие столбы солнечного света, небосвод над головой улегся на огромную радугу, а с окоема поднимается отливающая свинцом снежная пелена… Нет, непростой паренек этот Степанов. Глядя сейчас на него, я мог себе легко представить, как он, разъярившись, прыгает за руль своей старой «Победы» и с ревом разгоняет ее, направляя на толпу.
– И что, выходит, трубить мне от звонка до звонка? – потерянно спросил он. – С раскаянием и чистосердечным признанием? Так, что ли, выходит, по-вашему?
– Это, Степанов, не по-моему, а по закону. Я понимаю, что вы сейчас чувствуете…
– «Я понима-аю»!.. – передразнил он меня. – Все вы тут понимаете!..
Не обращая внимания на его нахальство, я сказал:
– А тут особого понимания не требуется. Не надо быть курицей, говорят французы, чтобы представить, как она чувствует себя в кастрюле.
– Дураки ваши французы! – заявил Степанов с большой проникновенностью.
Я помолчал немного и сказал без нажима:
– И все-таки я бы хотел напомнить этой страдающей курице, что как раз сегодня поминки по человеку, которого эта курица склевала. Это может облегчить курице ее боль и обиду.
– Да бросьте, гражданин следователь! Не ремонтируйте мне мозги! – сказал, как сплюнул через губу, Степанов, и на лице его после разразившейся бури не осталось ни малейших следов раскаяния и скорби.
– Хорошо, – охотно согласился я. – У меня к вам один вопрос по существу. В первом объяснении, которое вы написали ночью в милиции… Помните?.. – Я достал из папки голубой бланк милицейского протокола и показал ему. – Вы помните, что вы писали в объяснении?
– Ну, помню… Смутно, конечно… – настороженно ответил Степанов, явно ожидая от меня какого-то подвоха.
– Вот вы здесь изложили случившееся на площадке для отдыха несколько иначе, чем другие участники происшествия… Да и сами вы потом по-другому заговорили…
– А чего по-другому? – спросил он, а сам положил ногу на ногу, и по непрерывно раскачивающемуся носку тяжелого тюремного ботинка было видно, что он сильно нервничает.
– Ну, вот здесь, вот в этом объяснении вы собственноручно написали, что затормозили, увидев, как несколько человек кого-то бьют, а присмотревшись, узнали в избитом Алексея Плахотина, шофера с вашей автобазы. Вы вступились за него, и тогда все остальные накинулись на вас и вы, испугавшись, решили бежать с места драки на машине, но они вас не пропускали, и вы ударили бампером и облицовкой двоих нападавших… Вы это писали?
– Наверное, писал… – кивнул он, продолжая упорно смотреть мимо меня, будто на болотно-зеленой стене было нарисовано что-то очень интересное.
– А через день на допросе официально заявили следователю Верещагину, что вы сами пристали к этим людям и ударили Плахотина, в результате чего и произошла драка со всеми последовавшими событиями. Так?
– Ага. Так оно все и было, – твердо сказал он, но смотрел упорно вбок, так что я был вырублен из поля его зрения.
– Тогда уточните мне сейчас, когда же вы говорили правду и почему изменили показания.
Нервное лицо его стало твердеть, будто затекало медленно цементом. Он глубоко вздохнул и уверенно заявил:
– Я Верещагину сказал, как было дело. А в объяснении напутал… Испугался, волновался сильно… Умозатмение… Оправдаться думал… Я ведь тогда не знал еще, что Дрозденко умер…
– Ладно. – Я встал, сложил листы в папку и убрал дело в портфель. – Обещаю вам не тянуть с расследованием. И вести его со всей возможной объективностью.
– А там уже и расследовать-то нечего, и так все ясно. Скорей бы суд и – в колонию. Ничо, все переживем. Ишаков даже волки не едят…
Умозатмение. Последняя стихия после сокрушительной бури. Или перед ней?
Глава 6
Плохая погода, ничего не попишешь. Небо лежит на затылке и давит на мозжечок. Маленько кружится и гудит голова, чуток ножонки подгибаются. А может, и не в погоде вся беда. Аккуратный читатель «Вечерки», я всегда внимательно прорабатываю рубрику «Погода на завтра и рекомендации врача». И постепенно заметил удручающую закономерность: какую бы погоду ни обещали синоптики, врачебные прогнозы всегда довольно грозные, а рекомендации неутешительные. Малопонятные пугающие слова вроде «метастатического давления» предписывают мне избегать стрессов, эмоциональных перегрузок, избыточного физического утомления. Сначала я хотел согласовать эти советы с поборником физического здоровья Шатохиным, указавшим мне на то, что телесная сила – залог молодости души, но потом на всякий случай воздержался. Тем более что он огорченно-заботливо напомнил бы о том, что в распечатанной мной с утра пачке осталось всего две сигареты.
Любому дураку ясно, что в больничной палате курить нельзя. Тем более в присутствии дамы. Молодой, красивой, в модных брючках-«бананах» и темно-синей кофточке – выходной рубашке американских ВВС. На плечах погончики с птичками, на левой пышной груди орденские ленточки, на правой – золотая эмблема «U. S. Air Force». Ax, какая замечательная летчица! Чарльз Линдберг и Анна Дюваль от зависти умерли бы: они были всего лишь гражданские летчики, хоть и американские, а эта боевая.
Воздухоплавательница сидела верхом на белом больничном стульчике и курила. Когда я открыл дверь, она заливисто, весело хохотала, держа в руке слоящуюся ароматным синим дымом сигарету. Распотрошенный блок «Мальборо» валялся на тумбочке рядом со сложным хирургическим сооружением, в котором можно было признать кровать только потому, что на него был водружен человек, именуемый в документах Суреном Хачиковичем Егиазаровым, 27 лет, метрдотель ресторана «Центральный», процессуально признанный потерпевшим в «деле по обвинению А. А. Степанова в убийстве гражданина Дрозденко В. Ф. и нанесении тяжких телесных повреждений гражданину Егиазарову С. X.».
Грандиозный ансамбль из пластиковых матовых деталей и нестерпимо сияющих хромированных штанг, рычагов и ручек позволял – так мне, во всяком случае, показалось – лежать хоть на потолке. И Егиазаров, видно, в этом нуждался, поскольку обе его ноги, закованные в тяжелые гипсовые доспехи, были высоко подвешены сложной системой блоков, хомутов и лямок. Первое, что мне бросилось в глаза, прежде чем я рассмотрел его лицо, – желтая, намазанная йодом пятка и спицей проткнутая насквозь лодыжка, к которой крепилась вся подвеска.
Печальное это зрелище могло бы хоть кого расстроить, если бы не хохочущие пациент и его посетительница-летчица. И бешеный рок из динамиков стереофоника «Акаи».
– Здравствуйте, веселые молодые люди, – сказал я приветливо.
– Здорово, если не шутишь! – отирая слезы радости, крикнул Егиазаров. – Заходи, дед.
Я даже оглянулся на всякий случай – не пришел ли со мной, не просочился ли незаметно какой-нибудь дедуган? Да нет, один я вошел. И на деда я еще не очень похож. Интересно знать, Шатохина он бы тоже назвал дедом?
– Что ты головой машешь, как ишак на овода? Проходи, не тушуйся, садись! Гость не гость, а все-таки человек при деле! Намотался за день, а?
– Да вот, не скрою, притомился маленько, – сказал я осторожно, немного обалдев от веселого нахальства моего потерпевшего.
– Маринка! – скомандовал он летчице. – Ну-ка, притарань из холодильника салями, рыбки копченой, ну, там еще чего, помидорчиков-огурчиков. А бутыляка в шкафу… Давай, стариканчик, присосись к стаканчику, очень с устатку бодрит…
– Собственно, я не пью, – заметил я выжидательно, поскольку мало-мало растерялся.
– Ну, это не ври! Сейчас не пьют только больные или подлюги. А ты мужик вполне здоровый, помрешь еще не скоро. Ха-ха-ха! Ты что стоишь, Маринка? Ну-ка, бегом!
Летчица-пилотка очень плавно, неспешно взлетела, и даже невооруженным глазом было видно, как ей неохота меня обслуживать. А Егиазаров ловко выщелкнул из пачки сигарету и протянул мне:
– Закуривай, присядь и успокойся…
– Да я как-то не знаю, курить в палате…
– Да ты что! Кури спокойно! Здесь все схвачено, все довольны… Слушай, а ты работаешь сдельно или на твердой ставке?
– Я? На ставке. А что?
– Да просто любопытно. Работа ведь собачья. Наверное, целый день на бегу? Как волк, ногами кормишься?
Я засмеялся:
– Выходит, что так. Ну, еще маленько головой думать приходится…
Тут Егиазаров просто за живот схватился, все блоки и подвески замотались.
– Во дает! Головой думать!.. А о чем думать? За тебя Господь Бог думает: кого подкинет, с тем и возись… И сколько же тебе монет отслюнивают?
– Да ничего, вроде хватает…
– Молодец, хвалю! Больше всего ненавижу, когда скулить начинают, жаловаться. Да ты не дрожи, я в долгу не останусь, подкину детишкам на молочишко…
Надо прямо сказать, что за годы моей сле-довательской работы мне не один раз подсовывали взятку, но, честное слово, мне впервые предлагал вспомоществование потерпевший и в таких драматически-анекдотических обстоятельствах. У меня на миг даже мелькнула мысль, что Егиазаров или пьяный, или от перенесенных физических страданий сошел маленько с ума.
Лицо у Егиазарова было красивое, но какое-то маленькое. Природа наверняка не создает такие лица походя. Все черты были абсолютно правильными, подвижными, но удивительно мелкими. Безусловно, приступая к ответственному акту сотворения личности Сурика Егиазарова, природа сделала для верности предварительный, очень тщательный, масштабно уменьшенный эскиз с филигранной проработкой деталей. Но как часто случается в нашей жизни, текучка и бытовщина, пустяковые хлопоты отвлекли Созидающую Силу от главного дела, а потом и времени осталось в обрез – пришлось природе выкинуть в конце квартала в мир огромного прекрасного молодца с миниатюрным личиком брюнетистого херувима.
Между тем распахнулась дверь и приземлилась наша прекрасная воздухоплавательница с охапкой кульков, свалила их на столик и достала из шкафа бутылку виски «Джонни Уокер».
Егиазаров спросил требовательно:
– Ты сегодня в прокуратуре был?
– Да, почти полдня провел, – робко ответил я.
– Бумаги взял?
– А у меня все дело с собой.
– Да-а? Ну ты, оказывается, шустрик! А как же это тебе все дело дали? – бесконечно удивился Егиазаров.
– Прокурор санкционировал, а следователь Верещагин передал его мне.
– А-а, это тот чернявый, быстрый такой? Он здесь был у меня, показания снимал! Ну, фиг с ним! А как же тебе все дело дали?
– А что же, по частям, что ли?
– Ну, не знаю, я думал, что просто справку выпишут, и большой привет. В общем, это меня не колышет! Маринка, сделай «гармошку» потише. Значит, ты давай закуси, выпей стаканчик-другой, больше не алкай, а то все перепутаешь. И садись пиши, что там надо…
Во мне медленно росло, зрело, кустилось веселое садистское удовольствие от предчувствия близкого кризиса явного недоразумения: веселый разбитной нахал принимал меня за кого-то другого.
– А что надо писать? – спросил я покорно.
– Откуда я знаю, чего вы пишете в таких случаях. Тебе самому надо знать, сынок, это же ты получаешь твердую ставку… Ну, которой тебе хватает! Ха-ха-ха! Слышь, Маринка, ему хватает!
– Так это и видать, что ему хватает, – усмехнулась она равнодушно с заоблачных высот своей военно-воздушной форменки, и связывала ее с землей лишь длинная вьющаяся оранжевая лента, которую она ножичком аккуратно срезала с апельсина сплошной полосой.
– А, дед? Какая девулька! Скажи? Первый класс – «хай-фай»! Так что ты пишешь в таких случаях?
Я встал, прошелся по палате и постным голосом сообщил:
– Обычно в таких случаях пишу: «Я, старший следователь прокуратуры, допросил в качестве потерпевшего гражданина Егиазарова Сурена Хачиковича…» И так далее и тому подобное…
Издевательски грохотала в наступившем безмолвии японская стереофоническая «гармошка». Девочка «хай-фай» Марина замерла на подлете, ножик дернулся в руке, отхватил край яркой ленты, и кожура шлепнулась на пол. У Егиазарова отпала нижняя челюсть, так что можно было рассмотреть гланды, и он со своим детским лицом сразу стал похож на мальчика, говорящего доктору «а-а-а-а».
– Кто следователь? Ты? – медленно, с безмерным удивлением спросил он.
– Я. Что, не похож?
– Елки-палки! – На его беззаботном лице херувима-проходимца, как на дисплее, проплыли поочередно формулы удивления, досады, смущения, раздражения и снова озорства. – Я ведь вас принял за агента Госстраха! Сегодня обещал прийти, оформить страховку за увечье. Я ведь будто предчувствовал, что этот кретин меня изломает, и летом застраховался на пять тысяч! Кстати, а вы не страхуете свою жизнь?
– Нет, как-то в голову не приходило…
– И очень зря! Прекрасное дело! А при вашей профессии особенно! Хоть тысячи две-три. Обязательно! – стал горячо убеждать меня Егиазаров.
– Я не оцениваю свою жизнь так высоко… – Мне очень понравилось, что себя Егиазаров ценит по крайней мере вдвое дороже меня. – Собственно, я вот зачем приехал: мне надо познакомиться со свидетелями и точнее представить некоторые обстоятельства. Тогда можно будет приступать к составлению обвинительного заключения.
– Да я рад помочь, чем смогу, – оживился Егиазаров. – А вы действительно не хотите выпить рюмочку? Вам на службе нельзя, наверное?..
– Нельзя и неохота… Кроме того, выпью я тут с вами на брудершафт, подружимся на всю оставшуюся жизнь, как же тогда быть с моей объективностью в расследовании? Окажется ваш враг Степанов во всем и навсегда виноват…
– Во-первых, я вам точно скажу: дружба объективности не помеха! Вы уж мне поверьте, наверняка знаю. А во-вторых, не чувствую я в Степанове врага. Прошла у меня злость. Только Васю очень жалею, ни за что погиб человек. Безобидный, как муха…
Поднятый над всем земным хирургической кроватью и своим великодушием, Егиазаров посмотрел вокруг затуманившимся философическим взглядом.
– Была бы моя воля, – проникновенно сказал он, – не держал бы я Степанова в тюрьме. Не верю я, что в тюрьме можно сделать человека лучше, перевоспитать его скорее…
– А что бы вы сделали со Степановым на моем месте? – серьезно поинтересовался я.
– Отпустил бы его! Иди, жлобяра, к людям, глянь на сирот, матери несчастной Васиной посмотри в глаза и убивайся, скотина, до конца своих дней! Мучься, собака, думай все время, как ты можешь этим несчастным горе загладить, какое им сотворил! Вот как я думаю! Маринка, правильно я говорю?
– Ты всегда, Сурик, правильно говоришь! – проворковала синяя пышногрудая авиаторша. – Ты очень умный и справедливый! Я и девочкам своим всегда объясняю: как Сурик сказал, так и надо поступать, он все понимает…
От охватившего ее волнения всколыхнулись нашивки и эрфорсовская эмблема на грудях – могучих крыльях покорительницы заоблачных вершин и сердечных глубин.
А мне взгрустнулось немного от патетически высокого человеколюбия Егиазарова. Я ведь совсем недавно почти то же самое излагал Степанову, и если он мои слова воспринимал, как я – пламенные тирады Сурика, то вряд ли я подвигнул его к моральному очищению и искреннему раскаянию. Одни и те же слова. Что же наполняет их содержанием или оставляет пустым колебанием воздуха?
Наши поступки?
Не знаю. Наверное. Но как сделать, чтобы Степанов поверил мне?
– Мне приятно ваше высокогуманное отношение к людям, – сказал я со вздохом Егиазарову, – но удовлетворить ваше ходатайство об освобождении Степанова не могу. Закон возражает. Есть такой народный обычай, можно сказать, древняя традиция, как бы всеобщий предрассудок: убийц полагается держать в тюрьме…
– И никакой это не предрассудок! – возникла на подскоке планеристка. – Это ты, Сурик, никому зла не помнишь, а я бы их сразу на месте расстреливала! Бандиты проклятые, хулиганье! Приличным людям проходу нет! Когда вы им банок начали кидать, я на седьмом небе была…
Ай-яй-яй, Маринка молодцовая, летунья боевая! Как поучительно и полезно общение с бесстрашными воздухоплавательницами! Ведь, по ее словам, получается, что в момент, когда Степанову «накидывали банок», Марина не только пребывала на седьмом небе, но и одновременно присутствовала на месте преступления. Ай, как интересно!
Ни малейшего упоминания о ней в деле я не встретил. Забавно.
Жаль только, что гуманист Сурик тоже обратил на это внимание и весело спросил-напомнил-приказал:
– Подруга, ты на работу-то собираешься? Смотри, опоздаешь, тебе там расскажут про дисциплину…
– Ой, засиделась, Господи! Да, ничего, сейчас тачку схвачу, поспею…
Пока она укладывала свою красивую сумку-«таксу», переодевала что-то за моей спиной, я спросил Егиазарова:
– Надеюсь, вы не в претензии, что я вас допрашиваю в больнице? Это ведь и в ваших интересах, чтобы все быстрее окончилось…
– Конечно! О чем речь?
– Значит, я хотел бы, чтобы вы мне пояснили, как вы все там, на площадке отдыха, оказались…
– Да почти случайно это вышло. Выходной день был, мы ведь тоже люди, всегда других кормим, а сами, случается, за день во рту крошки не имеем: беготня, суета, вы понимаете. Вот и договорились, что Ахмет нас покормит шашлыками со своего мангала. Ясное дело, для своих оно вкуснее будет, чем на потоке общепита… Вот и собрались…
– Прекрасно. Кто да кто собрался? – Я взял блокнот и стал записывать его ответы. Протокольная часть допроса меня сейчас не интересовала.
– Ну, я там был, Вася Дрозденко, царство ему небесное, последний шашлык в жизни скушал, директор наш Эдуард Николаевич, Валера Карманов, шеф-повар, и Лешка Плахотин позже подъехал.
– Все?
– Все.
– Никого не забыли?
– А чего забывать, это же не Афонская пещера, все на виду, – засмеялся Егиазаров; он мне тоже демонстрировал, что наш разговор скорее душевный, чем формальный.
– Прелестно. А Плахотин – ваш сотрудник?






