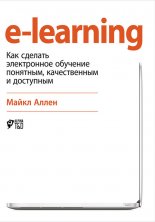Израиль в Москве: повесть Лехт Ефим

— Что это? — удивился Изя. — У вас так принято? Your castle — your rules.[15]
— Чего? Твой английский оставляет желать. Хотя он и у американцев не очень. Вот у Александра был казус…
Старшего сына он называет торжественно — Александр. С детства. Саша, мол, банально, Шурик — пошло, Саня — вульгарно. Вот такой александризм. Теперь, в Штатах, его имя Алекс. Что тоже тривиально.
— Александр с женой приехали в Нью-Йорк. Зашли в магазин, переговариваются, конечно, по-русски. А кассирша, черная, их спрашивает:
— Вы откуда?
— Из Далласа.
— А, — говорит, — понятно, там другой английский.
Зашла речь о техасской внучке Дарье. Студентка чего-то психологического. По словам Гены, равнодушная, как гусеница, и такая же вегетарианка. На майках у нее принты вроде «I don’t eat my friends»[16]. Защита животных. Тихоня, но заметно оживляется, когда просит денег.
Перешли на Изиных внуков. С внучкой Умой у Изи неразбериха. Папу она называет «дедди», дедушку — «деда», когнитивный диссонанс. Проблему разрешила элегантно. Когда дедушка нарисовал ей зайца, Ума среагировала просто: «Thank you, mister grandpa»[17]. На том и порешили. Господин дедушка.
Ума! Разве мало хороших имен? Оливия там, Сьюзен, Джесси. Скарлет, наконец. Крошка всегда в плену гаджетов. Ест с ними, спит, ходит, какает. Гаджет — неслабый заменитель соски. Планшеты, экраны, смартфоны, из которых все время пищат, мельтешат странные милые страшные существа.
К внучкиным «йеп» (ага) и «ноуп» (не-а) он уже привык, а вот «цап» долго не понимал, пока Фима не расшифровал: «what’s up». На гору игрушек Ума смотрит сонно. Передоз. Изя помнит свои детские игры. Пустой спичечный коробок и катушка без ниток вызывали тогда бездну фантазий.
Кто кого перепатриотит
В телевизоре шумит заседание парткома. На коротких ножках переминается ведущий, страшно улыбается новенькими, нестерпимо белыми зубами. То ли в мундире, то ли в ливрее (ах, евреи, не шейте ливреи). Бурлит писатель-империалист, воркует режиссер-конспиролог, брызжет лысый член КПРФ; чекист-любитель из Малаховки; зловеще вкрадчивый думский депутат.
Россия всегда любила юродивых. Вот они, крупным планом. На пропагандистском фрик-шоу. А что? Пипл хавает. Большинство!
— Возможно, это генетическая память, — предположил Израиль. — Вот был я в Кёльне, в гостях, утром в окно выглянул и крикнул: «Немцы — в городе!» Роза, прожившая в Германии одиннадцать лет, вздрогнула. Явно испугалась. А ведь родилась уже после войны.
Да, генетика. Нечто подобное Изя испытал как-то в вестибюле «Диафильма». Спускаясь попить (дирекцией был установлен могучий автомат со стаканами), Изя оцепенел. Перед агрегатом с газировкой стояли два лощеных эсэсовца, один бил стеком по начищенным сапогам, другой, рослый красавец, внимательно смотрел на Изю. Воздух немного вибрировал. И ни души. Ступор продолжался несколько мгновений. Тот, что повыше, сказал одобрительно: «Смотри, даже сироп есть». И тогда до Изи дошло, что это очередная кино-съемка. Просто два статиста в жаркий день зашли попить воды. Их переулок пользовался у киношников популярностью.
Но Изя этот стоп-кадр запомнил.
И наверное, запомнит еще один случай. Были в гостях у Андрейкиного партнера Кирилла. Вместе они давно. Продавали болгарское побережье, строили в Пицунде «Диснейленд». Кирилл — человек без нервов. Крупный малый. (Парадокс языка.) Достаточно сказать, что он — регбист. Костяшки на кулаках сбиты. Руководит охранным предприятием.
В гостиной у него на трех ногах стоял мощный телескоп. Изя смотрел в окуляр из тридцатого этажа на далекие высотки и в одном из окон увидел повешенного, медленно вращавшегося на веревке. Хичкок. Кирилл успокаивал, говорил, что это — кукла, просил не показывать Марине, жене, мол, не уснет. Хорошо, что Марты не было.
А Гена всё витийствовал:
— Военно-патриотический гиньоль! Учат Родину любить. Кто кого перепатриотит. До рвотного рефлекса!
— А ты не смотри, здоровее будешь.
— Идет война холодная, гибридная война, — Гена уже пел. — Призрак Джугашвили бродит по России. Видишь, что делается? Народ продал душу Сталину! От Гугла до ГУЛАГа — один шаг! Гэкачекисты! Инакомыслящих в телевизор теперь не пускают.
— А как же гласность?
— Была гласность, теперь согласность. Путинизм. Опять будем жить шепотом. Заткнули рты вонючими носками, ответьте, люди, не Москва ль за нами, — со слезой в голосе декламировал он стихи Зыкова. — Пропагандисты! Путин дал приказ!
— А ты фигу-то из кармана так до сих пор и не вынул. Салонный диссидент. Выйди на площадь! Прибей мошонку!
— Изька, ты не понимаешь, ты теперь обрезанный ломоть.
— Может, отрезанный?
Генка махнул рукой. Переключился на испанский футбол.
Тёлки делают шоу
Бегающие миллионеры. Эффектно падают, по системе Станиславского. Часто сплевывают, даже профессор Месси. Сколько же у них слюны? А если кто забьет гол — могут задушить в восторге. На другом канале верещат девицы с опухшими губами. Учат, как жить по их лекалам.
— Тёлки делают шоу, — зевая пояснила Галина. — Сплошной бляданс.
— Чучун, — ласково отозвался Гена. Так он иногда называл жену.
Она клевала пальцами сложную прическу, поправляла базедовы очки, объясняла Марте:
— Эти баклажаны продаются в банках.
— Где? — удивился Изя.
— Успокойся, в стеклянных банках.
Опять теннис. Невозмутимая рожа Федерера, шустрый Новак Джокович. Надаль выдернул шорты из ануса, поправил уши и тут же пропустил эйс. Неужели теннису угрожает эйсовая смерть?
А теперь натужно ржет заслуженный мастер вечернего стеба. Он для красного словца не жалеет и отца. Щелк! Звездно-волосатый крикун, хор Еврейского, всероссийский ребе Михаил Маньевич Жванецкий. Встречайте! Золотой пиджак России Филипп Баксов. Это все — кости Эрнста, Кости Эрнста.
Водка морозная, грузди сопливые, лампа в тюльпане. За окном бьются замученные ветром простыни. По кому сохнет это белье?
В углу, в кресле причитает хозяин:
— Куды бечь? Где сбыча мечт? Не выношу пошлости.
Галя смеется:
— Он многого не выносил. Например, мусор. Теперь выносит как миленький.
— Да если по чесноку, и литература русская хваленая, якобы лучшая в мире, — уже багровый, не унимался Гена. — Если взять за точку отсчета…
— А без заточки не можешь?
— Если взять за точку отсчета Возрождение, в котором Россия не принимала участия, она еще была в монгольской жопе. Русская литература запоздала, она начала осваивать западные образцы, когда уже, как говорится, был написан Вертер. Стали заимствовать и сюжеты, и форму, перелицовывали. Уже давно властвовали умами Шекспир, Данте, Гете…
— Наше Возрождение — Пушкин! — успел вставить Израиль.
— Пушкин — после Байрона, Гоголь — после Гофмана, Достоевский — после Диккенса…
— А Толстой? — закипая, спросил Изя.
— А Толстой — после Гюго. Да чего там, даже дедушка Крылов вышел из дедушки Лафонтена. То же и с музыкой, живописью, архитектурой.
— Не говори патриотам — съедят без соли. Последний рубеж!
— А техника?! — Он уже голосил, накаляясь. Не остановить, чистый филибастер. Вопли Видоплясова. — Все, абсолютно все для человека, для блага человека изобрел Запад, от памперса до смартфона. Русский хайтек — это pogrom, Kalashnikoff, Katiusha, Molotoff coctail. Радость террориста. Да, еще Gulag и shtrafbut.
Изя громко молчал. Потом тихо сказал:
— Апломб — сладкая привилегия невежества. — И зачем-то добавил: — Как-то вот так.
Заныло в голове. Он вспомнил маму. Она говорила: «Голова болит, будто с нее сняли скальпель». У его бедной мамы было низкое образование и высокое давление, но творческая натура не давала ей покоя. Изе нравились ее «перлы». Рассказывая, как она отвергла первого жениха, приводила душераздирающие подробности: «Он плакал кровавыми слезами». Трагедия превращалась в фарс.
— Евро — это еврейская валюта, — объясняла она Матильде Самуиловне.
— У них вроде эти, шекели.
— Шекели это в Израиле, а в Европе — евро.
Спидометр она считала измерителем СПИДа. «Эвакупация» — так она объединила два слова. Однажды удивила Гришу Горина, сказав ему: «Я — поклонница вашего обоняния». В письмах писала «слагобогу» на манер «сегодня». Напевала: «Онегин, я с кровать не встану» и еще много прекрасной чуши.
Общество сверкающих кранов
Так, вставать аккуратно. Вертиго. Не слушая криков Бурдянского, Изя с грохотом отодвинул стул, взял себя в руки и понес в ванную.
Здесь была пугающая чистота. Гости — неплохой стимул для уборки. Вот только краны были забуревшие. Чистить их Изя не стал, хотя был членом «Общества сверкающих кранов», которое сам же и основал. Не выносил, когда никель и хром тускнели. Возможно, виновата флотская привычка драить.
Изя быстро превратил голубую воду унитаза в зеленую, вымыл руки и улыбнулся, вспомнив маму Довлатова.
Когда он вернулся к столу, Галя, бывший главврач, заканчивала историю о каком-то медицинском казусе.
Марта тоже вспомнила случай, связанный с медициной. До сих пор она в основном молчала. По двум причинам. Первая — «дазборг». Нос заложен и перезаложен. О второй причине Изя догадывался. Вчера на встрече с одноклассниками Марточка отличилась: рассказывая нечто интересное, она в кульминации вместо того чтобы воскликнуть «глядь!», вдруг выкрикнула чуть другое слово, на «бэ», зарделась и выбежала.
А ведь слыла культурной девушкой из хорошей семьи. Откуда оговорочка выскочила? Казус Фрейда.
Теперь, среди своих, успокоившись, она сосредоточилась, решительно высморкалась и начала известное Изе предание о верной дружбе, высокой медицине и ударах судьбы.
Операция прошла успешно
Жили-были в красивом городе Львове две девочки-подружки. Галя и Соня. Галочка Шевчук и Сонечка Гельфанд. Пионерки, студентки, инженерки. В конце девяностых Соня с мужем и сыном уехали в Израиль. Чуть не каждый день Галя разговаривала с Соней по скайпу, чуть не каждый год приезжала погостить у подруги в приморском городке Ашдоде. Купалась во всех морях Израиля: пересаливалась в Мертвом, ныряла в прозрачном Красном, даже в озере с библейским названием Тивериадское плавала, там, где Иисус по воде пешком ходил. Но больше всего полюбила теплое и ласковое Средиземное. Тем более что от Сониного дома до него было двадцать минут дамской ходьбы с призывным покачиванием бедер. Как говорится, в шаговой доступности. Сказка. Бывало, подружки размечтаются: хорошо бы и Галочке в Израиль перебраться. Да только мама у нее — полька, а отец — украинец. Тут Галя спохватывалась: да что это я, ни на что свой любимый Львов не променяю.
Однажды, как всегда неожиданно, подкрался к ней сердечный приступ. Короче, серьезная проблема. Высоко ценя израильскую медицину, подруги решили: операцию на сердце надо делать в Израиле. Правда, это очень дорого. И Сонечка придумала изящный план — операция будет сделана по ее документам. Она — член больничной кассы и имеет право на бесплатное лечение.
И план удался! Операция, во всех смыслах, прошла успешно. Больница — пять звезд, врачи — виртуозы, уход — супер.
Здоровенькая и довольная, подруга вернулась домой, как теперь говорят, в Украину. Может, теперь принято произносить: в Алтай, в Урал, в Кубу?
Прошло несколько лет. Соне, уже пенсионерке, понадобилась точно такая же операция. И когда она обратилась к врачам, те обнаружили в своих компьютерах, что сердечница Гельфанд у них уже прооперирована. Начались проверки, дошло до суда. Адвокат сказал, что ей за мошенничество грозит серьезное наказание.
В общем, пришлось выплатить крупную, очень крупную сумму. Даже продали квартиру. Операцию сделали за собственный счет. Сейчас снимают жилье в Южном Тель-Авиве. Избежали огласки и позора. Хоть и проиграли игру с законом.
Гале Соня так ничего и не рассказала. И недавно гостила у нее в замечательном городе Львове.
Все помолчали, переживая мелодраму.
На десерт подали клубнику со сливками. Огромные ягоды, почти ягодицы.
Дерзкая муха Лиза непринужденно присела на Изин нос.
Гламур хотел опять запрыгнуть на стол, но промахнулся, смутился и повернул в кухню.
Майн кайф
— Слушай, — оживился Геннадий, — вы что там, с Пелевиным, всерьез затеяли? Ничего не выйдет. У него с издателем договор: он — призрак и нигде не светится. Мне Дима из «Вестей» говорил, что никакого Пелевина вообще нету. А есть три журналюги: Пекаровский, Лернер и, кажется, Винокуров. Они и пекут всю пелевинщину. И вообще, что вы в нем нашли? Носятся, как со списанной торбой. Певец виртуала. Наелся, блин, мухоморов и несет пургу. А про Толстого он и вовсе с Герой сочинял.
— С каким Герой?
— С героином.
— Но он мастер, мастер!
— Изя, представляешь, — вступила Галя, — Генка тоже книгу пишет. Почитать не дает. Там Гитлер у него заключил союз с евреями и преуспел. Такой альтернативный роман. Знаю только название: «Майн кайф».
— Это не окончательно, — смутился Гена. — Пойдем покурим.
— Ты еще куришь?
— Только когда выпью.
— Курить надо с комфортом, погрузившись в глубокое кресло, рассуждая о смысле жизни, смакуя бразильский кофе…
— Хорошо излагаешь, — перебил Гена и вытащил Изю в коридор.
Верхи хотят, а низы не могут
Там пахло Советским Союзом. Щи, пиво, моча, кошки. Молодой таракан спешил к батарее. На подоконнике — большая банка с плавающими окурками.
Изя поморщился, помял правый бок. Кажется, его догнал радикулит. Нежная ветвь позвоночника лизнула нерв.
— Мой прострел везде поспел, — с усилием произнес Израиль и продолжил: — Хандрил от остеохондроза, страдал не меньше, чем Спиноза.
— Ты все еще балуешься рифмами?
— Стихи с возрастом прошли.
— А ты, Изька, мало изменился.
— Спасибо за приятную ложь.
Все трудней притворяться здоровым. Верхи еще хотят, а низы уже не могут. Когда дряхлеющие силы вам начинают изменять…
Ахнула железная дверь, и вышел сосед в трениках. Живот навыпуск, неуверенные усы, отёчное лицо русской национальности. Вероятно, вчера перепил.
— Изя, познакомься. Валера с болезненной фамилией Канцеров. Коммунист со стажем. Мой лучший сосед.
— Валерий.
— Очень приятно. Израиль.
Коммунист, кажется, напрягся. Гена затянулся:
— Как жизнь, Валера?
— Да вот, надоело на гражданке…
— Чего-чего?
— Не то, что ты подумал. Я теперь в отставке, бывший полковник.
— Ну, полковники бывшими не бывают. Так ты полкан? А почему папаху не носишь? Всегда в гражданском? Вот, Валера, друг детства приехал, он живых полковников давно не видел.
— Откуда, если не секрет?
— Из Государства Израиль, — чопорно ответил Изя.
— О, супер. Израиль. — Как многие, он сделал ударение на последнем слоге.
— Мы тоже в Москве недавно. Три годика. Сами мы с Перми.
— Валера, я тебя просил, не «с Перми», а «из Перми».
— Да мне без разницы.
Помолчали. Валера бросил окурок в банку:
— У меня жена ушла.
— А ты женат?
— Немного.
— Развод? Не переживай, мосты и те разводятся.
— Да не, у нас брак гражданский.
— Да? А я думаю, раз ты полковник, то и брак — военный.
Генка был в ударе. Коммунист опять закурил. Короткие затяжки, куда спешит? Мужичок помятый, наверно, пьет горькую, ест острую, курит едкую.
— Валера, что у тебя с глазом? Весь красный. Глаз вопиющего в пустыне. Не жена?
— А вы, Израиль, кто по специальности?
— Валера, он художник, работал на студии «Диафильм».
— Диафильм? А что это? Диабет знаю, диатез…
Изя попытался сменить вектор:
— Кажется, курить скоро можно будет только на Курилах. Отовсюду гонят.
— Супер, — невпопад обрадовался сосед.
— Что ты все «супер» да «супер»? — Генка стряхнул пепел, — в Штатах «супер» — это должность. Управдом — понял?
Сосед отхлынул, подтянув треники, скрежеща невнятным матом.
Играют лестничные марши — пробегают опасные подростки, выносят мусор бабушки-блондинки.
— Слушай, Изя! Оставайся на ночь, — Гена просиял, прошелся маятником в шепелявых тапках с собачьими мордами, — еще виски накатим.
— Нет, пора. И так застрял, как гость в горле.
— Здесь такси не ловятся. Будешь как Ленин стоять, с протянутой рукой.
— Да за мной скоро заедут.
— Погоди, там еще торт.
— Уф, я и так наелся до изумления.
— А на посошок?
Школа тщеславия
Чапаев оказался вандалоустойчив. Стоял фанерный, руки в брюки, уже неделю.
«Съезжалися к ЗАГСу трамваи». У входа в «Generation П» чернела толпа. Все хотели увидеть живого Пелевина, чтобы потом хвастаться, как апостол Павел. Кто-то ошибся, пришел на Прилепина.
Саксофонист-гастарбайтер из Душанбе поставил ногу на подоконник и ловко вытер шторой ковбойский сапожок. Вспыхнул золотой зуб. Вытряхнув мундштук, музыкант начал выдувать медную тоску.
Рогатые вешалки тонули под мокрыми шубами. Как изюм из булки, возникали герои тусовок, рыцари фуршетов. Светская кошка Гражина Срынка. Ее телефон (малахит с бриллиантами) беспрерывно звонил.
— Да поставь ты его на вибратор и засунь себе в… — ее нервный спутник зашипел и затих. Его длинная челка закрывала всю правую половину лица.
Это кто, Макар? Русский Маккартни, водитель «Машины» снимал пуховик. Бравые усы, клетчатый пиджак, неожиданное сходство с Коровьевым. Новый поворот? Дуся и Ната, ведущие «Ярмарки злословия», ставшей «Школой тщеславия». Дизайнер Карина сегодня надела длинные ресницы. Володя Любаров в запущенной бороде. Был график, эстет, «Химия и жизнь». Ушел в лешие. Нелепо ли бяше, ничтоже сумняше. Скромный олигарх Каценельсон. Андрей называет его мини-олигархом. Кто-то из «Уха Москвы».
Раньше всех пришла кинокритик Р. Семенова из журнала «Московский пионер».
— Раиса, ты сегодня первая, — подставился Израиль.
— Люблю быть первой. Я и у тебя была первая, — покосилась на Марту, — ты был влюбчив, но отходчив.
Марта улыбалась, терпела. Закалка. Семенова в седой шубке, прическа «Хакамада». Разбитной редактор бывшего «Диафильма». Была пухленькой и колючей.
— Я пышная, но легкая. Как безе, — говорила она с любимой гримаской.
Изя не верил. Приподнял и удивился. Так и есть. Верней, так и было. Безе. Называли ее «исчадье Рая» за склочность и язвительность. Циничная, как унитаз. Была у нее загадочная поговорка: «Позови, если трудно встанет». Все «кто есть кто», по ее мнению, были «с прожидью». С просьбой она обращалась примерно так: «Изя, тряхни стариной. Только на меня не тряси». Если кто-нибудь из девушек делился с ней пикантными историями: «за колготки в лифте отдалась», Рая сурово цедила: «Ну это ты, милочка, сгляднула». Все забывали, что стены на студии — фанерные. Все слышно. Когда она, покачиваясь, плыла по центральному рынку, кавказцы за прилавками восхищенно скандировали: «Ма-ла-дэс, ма-ла-дэс».
Увидев Изю, не удивилась. Она и не подозревала, что он давно уехал. Рассмотрела:
— Элегант! Ой, мама, шикадам.
Стайка актеров из театрика на Чаплыгина — цыплята Табакова. Ставят пелевинскую «Из жизни насекомых».
Губастая девица из тех, что живут в телевизоре.
Почини мой «Макинтош»
Вечный мальчик Антоша Носик с крошечной кипой на макушке. Криво улыбающийся Азазелло — поэт Генделев. Аркан — фанатик танго.
С Носиком Изя познакомился на курсе компьютерной графики. На античном «Макинтоше» Изя прилежно долбил клавиши. Девушки заигрывали с Носиком, обучавшим владению «фрихендом» и «фотошопом»: Антош, а почини мой «Макинтош». Уже тогда он слыл гуру.
Как упоительны были вечера у Генделева на Бен-Йегуде: Лёва, Аркан, Аглая, Дёма, Антон, иных уж нет. Два года Изя жил в Святом городе. О Иерусалим, самый близкий к Богу. Библейский воздух, гордые горцы, золотая патина, зловещие трещины…
В рыжей овчинной жилетке с отталкивающим всех животом вбежал жовиальный поэт-гражданин Фима Зыков. Похожий сразу на младенца и Бальзака. Вот только зубы его портят. Почему Изины любимцы не ходят к дантистам? Шурвиндт, Бенедиктов, Бенис? Сладко потягиваясь, Зыков обнажил мохнатое брюхо.
Запыхавшись, от «Курской» бегом, два сисадмина Орехов и Борисов, не нашли места. Чай, не баре, сядут в баре. «Прибежали сисадмины, принесли грибы в корзине». Зарифмовать реальность.
С щебетом возникли пожилые девушки, однокурсницы, диафильмовки. Изя обзванивал их два дня.
Ленка Гжельская, гигиенический поцелуй, помнишь Полиграф, розовые от помады зубы и это словцо «отпад».
— Елена, зачем ты красишь зубы?
Она схватилась за зеркальце:
— Ты умеешь всем сказать гадость. За что же я тебя люблю?
Любу Каюкину не узнал — старушка в мелкий горошек. Морковные кудряшки, узкие стародевичьи губы избыточно покрашены за границами рта. А ведь бывала хорошенькой, когда очень хотела. Любаша со странным отчеством «Жановна». Любознательный Изя когда-то поинтересовался, кем был ее отец. Оказалось, сантехником. Водопроводчик Жан. Как у Маяковского. Гламур лоснится на ее лосинах. Джинсовая бабушка. Всю жизнь рисовала стулья. Всех времен и народов. А то парадный портрет одинокого гордого стула. Выставки в МОСХе, Домжуре, «Гараже», Базеле. Застолбила нишу. Появились покупатели, коллекционеры, галеристы. Потек денежный ручеек. В общем, регулярный стул. Оглядев Изины работы на стенах, равнодушно сказала:
— Как-к-кая к-клевость. П-пора выставляться.
— Умна не п-по годам, — Изя прикусил язык. Но она приняла это, как комплимент.
Однажды девочка Люба ехала в метро на Остоженку, в художественную школу. С большим альбомом на коленях. Вдруг над ней возник неизвестный. Он распахнул плащ и положил сидящей Любе на альбом свои причиндалы. Любочка онемела. Эксгибиционист заржал и исчез. С тех пор она заикается. Довольно заразительно.
Энергично пережевывая жвачку, близко прошел одноклассник Попсуйко. Изю не узнал. Чемпион школы по плевкам в длину, ныне — депутат. Пожилой слуга народа.
Появился Коля Кокин, бывший худред журнала «Юность». Более известен как Кока-Коля. Повеса, охарь и ухальник. Пардон, ухарь и охальник. Радикально облысел, но усы семидесятника сохранил. Усы пышные, переходящие в бакенбарды. Баки густые, напоминающие ржавый мех подмышек. Похож на царского сановника. Бенкендорф?
Протягивает руку. Придется пожать. Хотя известно, что ладони у него всегда мокрые.
Директор Средиземного моря
— Привет! Ты, говорят, в Израиле? Я там побывал. Ой-вей! Духота, хасиды с пейсами и плясками, стена с записками. Голгофа! Что ты там делаешь? По жизни?
— Я — директор Средиземного моря.
— Старичок, не гони.
«Старичок», пожалуй, уже буквально. По законам контрапункта лучше бы «юноша».
— Ты чё такой худой? В Израиле не кормят?
— Видишь ли, Кока, я не худой, я стройный. «Худой» — означает «плохой». Во-вторых, в Израиле кормят детей и больных. Остальные питаются сами. И довольно разнообразно. Минимум семь национальных кухонь. Ну а ты-то как?
— Да вот, выживаю. Знаешь закон «выживи сам и выживи другого»? Сдаю квартиру, моя хата — у самого МХАТа. Рента. Трудно жить без фабулы, — грустно закончил Кока, дохнув перегаром.
Извинившись, Изя направился к сортиру. Там его ожидал запах хвои, мягкая салфетка, грустная хрипотца Коэна. Хрипотца, хрип отца — задумался Изя. Неожиданная медная табличка над писсуаром: «После употребления взбалтывать». На кафеле висит картина Комара «Единороссы пишут письмо Бараку Обаме». Репродукция.
Недокрашенный уголок за дверью — ахиллесова пята порядка. Андрей утверждает, что уборная — это лицо заведения. «Покажите мне ваш туалет, и я скажу вам кто вы». Культурный код туалетов. Как это у Кончаловского: два мира — два сортира.
Марта сказала, что у нее болят волосы. Что это значит? Губы лица и волосы головы. Привет Довлатову. Давно она не получала комплиментов. Ведь Марта ими питалась. В Израиле он даже звонил ее сослуживцам, дескать, похвалите. А тут загрустила.
Изе тоже было как-то мутно. Вероятно, похмелье. Да еще сны. Приснилось этой ночью, что заблудился и въехал в арабский поселок Умм-Эль-Фахм. Из толпы уже кричали, что вырвут его сердце голыми руками. Он знал, что это не метафора…
— Игорь! — Перековина называла его «Игорь». — Все хочу тебя спросить: ты сионист?
— М-м-м, да, наверное.
— А какой? Экспрес-сионист или импрес-сионист?
Сакс хрипит что-то из Кутуньо. Шалунья Оля Перековина не унимается:
— Тщетно хохму во рту твоем ищет угрюмый Харон, — показала немолодой язык. Лучше бы не показывала. Оле Лукойе. Шестидесятилетний сорванец. Состарившаяся Анни Жирардо.
— Любишь ты, Олька, мозги вынимать.
На «Диафильме» она была самым юным членом КПСС. Главный редактор Ильинская, она же парторг, зычно вызывала ее через тонкие стены:
— Коммунист Перековина! Ко мне со сценарием!
Стеб. Троллинг. Тогда говорили: издевается. Изя еще раз осмотрел ее. Стальные волосы, короткие квадратные ногти, мужская походка. Ей пошла бы портупея. Неужели это ей он когда-то написал: «И все же что-то есть такое, что с ней не ведаю покоя»? Это она на день рождения привезла ему целый куст махровой сирени. На студию, в начале мая.
Изя вдруг поцеловал ей руку.
— А картинки твои не впечатляют, — дернула плечиком.
— Что ж, цветы не всем пахнут.