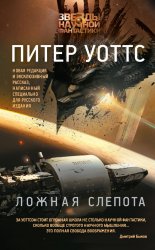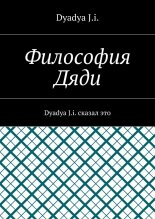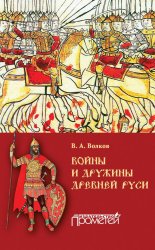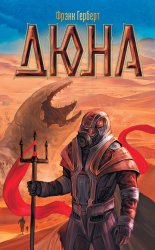Хрупкие вещи. Истории и чудеса (сборник) Гейман Нил
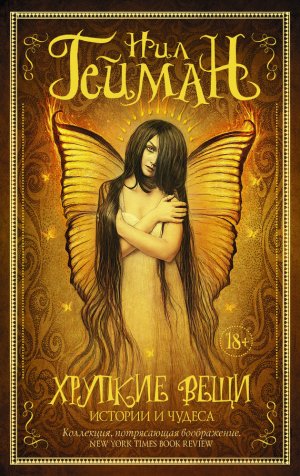
А потом мисс Финч подошла, перегнулась через ограждение, схватила тигра за шкирку и попыталась оттащить его от упавшей женщины. Зверь сопротивлялся, не желая бросать добычу, и мисс Финч ударила его по носу кончиком копья. Тигр испуганно поджал хвост и лап увести себя прочь, послушный и тихий.
Женщина так и сталась лежать на полу.
Крови не было – это я видел.
Оставалось надеяться, что это был просто глубокий обморок.
В дальнем конце помещения забрезжил свет, постепенно набирая силу. Как будто там занимался рассвет. Влажный туман тропических джунглей вился над гигантскими папоротниками и хостами. Где-то вдали стрекотали кузнечики и пели птицы, приветствуя начало нового дня.
Какой-то частью сознания – своей писательской частью, той самой, которая замечает причудливую игру отблесков света на осколках стекла в луже крови, даже тогда, когда я выбираюсь из разбитого автомобиля после серьезной аварии; той самой частью, которая наблюдает, не упуская ни единой детали, за тем, как разбивается или не разбивается мое сердце, когда у меня в жизни случается подлинная, неподдельная, глубоко личная трагедия, – так вот, именно этой частью сознания, которую можно назвать внутренним наблюдателем, я отметил, что все это делается очень просто: дымовая машина, искусственные растения и запись звуков природы. И. разумеется, грамотный мастер по свету.
Мисс Финч рассеянно почесала под левой грудью, потом повернулась к нам спиной и пошла навстречу рассвету в туманных джунглях, и тигры шли рядом с ней, бесшумно ступая на мягких лапах. Один – с одного бока, другой – с другого.
Где-то вскрикнула птица.
Рассвет померк, растворившись во тьме. Туман рассеялся.
Женщина с тиграми исчезла.
Сын коротконогой воинственной тетки помог ей подняться. Она открыла глаза. Вид у нее был испуганный и потрясенный, но сама она вроде бы не пострадала. И действительно: мы убедились, что с ней все нормально, когда он подняла с пола свой зонт, оперлась на него и злобно уставилась на нас исподлобья. Мы облегченно вздохнули и захлопали в ладоши.
Никто не пришел проводить нас дальше: ни дядюшка Фестер, ни вампирская женщина, ни шпрехшталмейстер. В десятую комнату мы прошли сами.
Десятая комната
Судя по всему, здесь должно было состояться грандиозное финальное шоу. Тут даже было где сесть. Мы уселись на пластиковые стулья, расставленные вдоль стены, и прождали достаточно долго, но никто из артистов не вышел. Мы подождали еще, и по прошествии четверти часа нам всем стало ясно, что никто и не выйдет.
Люди начали переходить в соседнюю комнату. Было слышно, как там открывается дверь.
Шум оживленного уличного движения. Шелест дождя.
Я посмотрел на Джонатана и Джейн. Мы молча поднялись и прошли в последнюю, одиннадцатую комнату. Там стоял одинокий стол, на котором были разложены сувениры: значки, открытки, плакаты и диски с символикой цирка. Продавца не было. На столе просто стоял жестяной сундучок, куда надо было класть деньги. Желтый свет уличных фонарей лился в комнату сквозь распахнутую настежь дверь, и порывистый ветер, проникавший снаружи, трепал уголки нераспроданных плакатов.
– А мы ее не подождем? – спросил кто-то из нас, и мне бы хотелось, чтобы это был я, но, по-моему все же не я. В общем, кто-то спросил, надо ли нам подождать мисс Финч, но остальные лишь покачали головами, и мы вы шли под дождь, который теперь превратился в промозглую серую морось.
Нам пришлось поблуждать по запутанным переулкам, пока мы не нашли то место, где оставили машину. Я стоял на ветру, ждал, когда мне откроют заднюю дверцу, и мне вдруг показалось, что сквозь шелест дождя и шум города я услышал рев тигра – где-то рядом, совсем-совсем близко. Низкий раскатистый рев, от которого вздрогнул весь мир. Хотя, может быть, это просто проехал поезд.
СТРАННЫЕ ДЕВОЧКИ
Strange Little Girls
Перевод. Т. Покидаева
2007
Новый век
Она такая крутая, такая сосредоточенная и спокойная, и все-таки ее взгляд остается прикованным к горизонту.
Тебе кажется, ты знаешь все, что вообще можно знать про нее, уже в первый миг после знакомства, но все, что ты знаешь – вернее, думаешь, что знаешь, – это неправильно. Страсть течет сквозь нее, как река крови.
Она отвернулась буквально на миг, и маска сорвалась, и ты упал. Все твои завтра начинаются здесь.
Мама Бонни
Знаешь, как это бывает, когда ты кого-нибудь любишь?
И что самое трудное, самое поганое, даже хуже, чем «Шоу Джерри Спрингера»: если действительно любишь кого-то, ты уже не перестанешь его любить. Какой-то кусочек этого человека навсегда остается в сердце.
Теперь, когда она стала мертвой, она старается помнить только любовь. Каждый удар она представляет как поцелуй. Макияж, неумело скрывающий синяки, ожог на бедре, прижженном сигаретой, – это были проявления любви, решает она.
Ей интересно, что сделает ее дочь.
Ей интересно, кем она станет.
Она держит торт – в своей смерти. Это тот самый торт, который она всегда собиралась испечь для своей малышки. Быть может, они испекут его вместе.
Они сядут за стол, все вместе, втроем, и съедят этот торт, и комната медленно наполнится смехом и любовью.
Так странно
Есть столько всего, от чего она так упорно пыталась бежать: то, о чем она не будет помнить, и то, о чем она даже не может подумать – никогда не решится подумать, – потому что тогда кричат птицы, и червяки выползают из нор, и у нее в голове идет дождь, медленная бесконечная морось.
Тебе скажут, что она уехала из страны, что она хотела подарить тебе подарок, но он потерялся и не дошел до тебя. Однажды под вечер зазвонит телефон, и голос, который мог быть ее голосом, скажет что-то такое, что ты не сумеешь истолковать, а потом в трубке раздастся треск, и связь оборвется.
Спустя несколько лет ты увидишь на улице девочку, очень похожую на нее, но ты будешь ехать в такси, и водитель не остановится сразу, а пока ты будешь его уговаривать, она исчезнет. Ты больше никогда ее не увидишь.
Каждый раз, когда идет дождь, ты будешь думать о ней.
Тишина
Тридцать пять лет на эстраде. У нее болят ноги – изо дня в день. Она танцовщица, ноги болят из-за шпилек, но она может спуститься по крутым ступенькам на высоченных шпильках, а на голове – замысловатый убор весом в сорок фунтов, она проходила по сцене со львом, на высоких шпильках, она могла бы пройти через Ад на высоких шпильках, если бы так было нужно.
Есть то, что спасало, помогало держаться, придавало ей силу ходить и держать спину прямо: ее дочь; человек из Чикаго, который ее любил, хотя любил недостаточно сильно; ведущий теленовостей, который выплачивал ей содержание на протяжении десяти лет и приезжал в Вегас не чаще раза в месяц; два мешка с силиконовым гелем; ее осторожность – всегдашнее стремление беречься от солнца пустыни. Скоро она станет бабушкой, уже совсем скоро.
Любовь
А потом наступило такое время, что он просто не стал отвечать, когда она звонила ему на работу. И она позвонила по номеру, про который он даже не знал, что она его знает – она позвонила по этому номеру и сказала женщине, взявшей трубку, что ей страшно неловко, но поскольку он больше с ней не разговаривает, нельзя ли ему передать, что ей все-таки хочется, чтобы он вернул ее черные кружевные трусики, которые он забрал, потому что, как он говорил, они пахнут ею, пахнут ими обоими. Да, кстати, сказала она, когда женщина на том конце линии продолжала хранить молчание, нельзя ли сначала их выстирать, а потом просто отправить ей почтой. У него есть ее адрес. Покончив с делами, она забывает его – полностью и навсегда – и занимается кем-то другим.
Когда-нибудь она разлюбит и тебя тоже. Твое сердце будет разбито.
Время
Она не ждет. Не совсем. Просто годы уже ничего для нее не значат, сны и улицы больше не задевают ее.
Она остается на краешке времени, непреклонная, целая и невредимая, всегда – по ту сторону, за пределом, и однажды ты откроешь глаза и увидишь ее, а потом не увидишь вообще ничего – только тьму.
Это будет не больно. Она нежно подхватит тебя – как перышко. Не срежет острым серпом, а сорвет, как цветок – чтобы украсить прическу.
Гремучая змея
Она не знает, чья это куртка. Куртка осталась после вечеринки, и никто не пришел ее забирать, и девчонка решила, что куртка ей очень идет.
На куртке написано «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ», но девчонке не нравится целоваться. Многие – и мужчины, и женщины – не раз говорили ей, что она красивая, но ей непонятно, что именно они имели в виду. Когда она смотрится в зеркало, в зеркале не отражается красота. Только ее лицо.
Она не читает книг, не смотрит телевизор, не занимается любовью. Она слушает музыку. Встречается с друзьями. Она любит «русские горки», но никогда не кричит, когда вагончик несется вниз, и кренится, грозя опрокинуться, и переворачивается колесами вверх.
Если ты скажешь, что куртка – твоя, она просто пожмет плечами и отдаст куртку тебе. Ей все равно, абсолютно все равно.
Золотое сердце
...фразы.
Сестры. Быть может, двойняшки. Хотя, может быть, и двоюродные. Чтобы сказать наверняка, надо взглянуть на свидетельства о рождении. На настоящие свидетельства – не на те, которые они предъявили, когда получали удостоверения личности.
Средства к существованию они добывают так; входят, берут, что им нужно, выходят.
Это не круто. Просто такой бизнес. Может быть, не всегда законный. Просто бизнес.
Они для этого слишком умны, слишком пресыщены.
У них все общее; одежда, косметика, парики, сигареты. Неугомонные хищницы, они отправляются на охоту. Две головы. Одно сердце.
Иногда они договаривают друг за друга начатые...
Понедельник
Стоя под душем под тонкими струйками воды, которая смывает все это, которая смывает все, она вдруг понимает, что было самым ужасным: там пахло так же, как в школе.
Она шла по длинным коридорам, сердце бешено колотилось в груди, и там пахло так же, как в школе – и воспоминания вернулись.
Прошло всего лишь шесть лет, может быть, даже меньше, с тех пор, как она заперла свой шкафчик и побежала в класс, с тех пор, как она наблюдала за своими подругами, которые плакали, злились и искренне огорчались из-за насмешек, дурацких прозвищ и тысячи бед и напастей, всегда причиняющих боль беспомощным. Никто из них не зашел так далеко.
Первое тело она обнаружила под лестницей.
В тот вечер, уже после душа, который не смыл то, что ей пришлось сделать, она сказала мужу:
– Мне страшно.
– Чего ты боишься?
– Что я зачерствею на этой работе. Стану кем-то другим. Кем-то, кого я не знаю.
Он обнял ее, притянул к себе, и так – вжавшись друг в друга, – они пролежали до самого рассвета.
Счастье
В тире она себя чувствует, как дома: защитные наушники на месте, бумажная мишень – человек в полный рост – уже готова и ждет.
Она грезит – немножко, она вспоминает – немножко, потом вздыхает и делает первый выстрел. Время пошло. Она больше чувствует, чем видит: простреленная голова и сердце. Запах кордита всегда напоминает ей четвертое июля.
Используй дары, данные тебе Богом. Так говорила ей мама, и почему-то от этого их разрыв кажется еще больнее.
Никто никогда не сделает ей больно. Она лишь улыбнется своей бледной, едва уловимой, прекрасной улыбкой и уйдет прочь.
Дело не в деньгах. Совсем не в деньгах.
Кровавый дождь
Вот: упражнение в выборе. В твоем выборе. Какой-то из этих рассказов – правда.
Она пережила войну. В 1959-м приехала в Америку. Сейчас она живет в собственной квартире в Майами, миниатюрная француженка с белыми волосами. У нее есть дочь и внучка. Она – вся в себе. Она улыбается редко, как будто груз памяти не дает ей обрести радость.
Или все это – неправда. На самом деле ее поймали, когда она переходила границу в 1943-м, ее обнаружили молодчики из гестапо, и она так и осталась на том лугу. Она сама вырыла себе могилу, а потом – одна пуля в затылок.
Ее последняя мысль, за секунду до пули: она беременная, на четвертом месяце, и если мы не сражаемся за наше будущее, у нас просто не будет будущего.
Одна старая женщина в Майами просыпается в тревожном недоумении: ей снился ветер, гнущий цветы на лугу.
В теплой французской земле покоится нетронутый прах, которому снится, как дочка выходит замуж. Хорошее вино пьянит. Если плакать, то только от радости.
Настоящие мужчины
Какие-то девочки были мальчиками.
Точка зрения меняется в зависимости от того, откуда смотреть.
Слова могут ранить, но раны затягиваются.
Все это – правда.
ВЛЮБЛЕННЫЙ АРЛЕКИН
Harlequin Valentine
Перевод. Т. Покидаева
2007
Сегодня 14 февраля. В этот утренний час, когда всех детей развезли по школам и все мужья отправились на работу (кто-то – на собственном автомобиле, кто-то – в набитой битком электричке, с которой они сойдут на окраине города, дыша паром и кутаясь в теплые пальто), я пришпиливаю свое сердце на парадную дверь Мисси. Сердце насыщенно темно-красное, почти коричневое – цвета печенки. Потом я стучу в дверь, очень быстро – тук-тук-тук, – хватаю свой жезл, свою палку, свое такое-пронзающе-колющее, украшенное лентами копье и исчезаю, как остывающий пар в мерзлом воздухе...
Мисси открывает дверь. Вид у Мисси усталый.
Я выдыхаю:
– Моя Коломбина, – но она не слышит. Она смотрит сперва в одну сторону, потом – в другую, но на улице все неподвижно. Вдалеке громыхает грузовик. Она возвращается в кухню, и я танцую, тихий, как ветер, как мышь, как сон – и вот я уже в кухне, стою рядом с Мисси.
Она достает из бумажной коробки пакетик для сандвичей. Открывает шкафчик под раковиной, вынимает аэрозольный баллончик с чистящей жидкостью. Отрывает два бумажных полотенца с рулона над разделочным столиком. Идет к входной двери. Вытаскивает булавку из деревянной панели – это была моя шляпная булавка, которую я случайно нашел... где? Я пытаюсь припомнить. Быть может, в Гаскони? Или в Твикенхеме? Или в Праге?
Она вынимает булавку из сердца и кладет сердце в пакетик для сандвичей. Брызгает чистящей жидкостью на кровь на двери и стирает ее бумажным полотенцем, потом прикрепляет булавку на отворот свитера, где крошечный белолицый Август смотрит на мерзлый мир слепыми серебряными глазами, кривя печальные серебряные губы. В Неаполе. Теперь я вспомнил. Я купил эту булавку в Неаполе, у одноглазой старухи. Она курила глиняную трубку. Это было давным-давно.
Мисси ставит баллончик на кухонный стол, потом надевает старое синее пальто, доставшееся ей от мамы, застегивает все пуговицы – первую, вторую, третью, – решительно убирает в карман пакет с сердцем и выходит на улицу.
Тайком, тайком, тихий, как мышь, я иду следом за ней, иногда – крадучись, иногда – пританцовывая на ходу, она не видит меня, она меня не замечает, лишь зябко кутается в пальто и идет по крошечному городку в Кентукки, по старой дороге, ведущей мимо кладбища.
Ветер пытается сорвать с меня шляпу, и на мгновение мне становится жалко утраченной булавки. Но я влюблен, и сегодня – День святого Валентина. Надо чем-то пожертвовать.
Мисси вспоминает другие разы, когда она бывала на кладбище, на территории мертвых за железными коваными воротами: когда умер отец; когда они приходили сюда детьми в День всех святых, веселились вовсю и пугали друг друга; когда ее тайный любовник разбился в аварии на скоростной автотрассе, и она дождалась окончания похорон, когда день уже был на исходе, и она пришла уже под вечер, перед самым закатом, и положила белую лилию на свежий могильный холм.
О, Мисси, воспеть ли мне тело твое, твою кровь, твои глаза и губы? Я бы отдал тебе тысячу сердец – как возлюбленный. Как влюбленный. Я гордо машу своим жезлом и танцую, безмолвно пою, восхищенный собою, пока мы идем по кладбищенской дороге – вместе.
Низкое серое здание. Мисси открывает дверь. Говорит: «Привет» и «Как жизнь?» – девушке за стойкой, та отвечает что-то невразумительное, она только-только окончила школу и сейчас сидит и разгадывает кроссворд в газете, где печатают исключительно кроссворды и ничего, кроме кроссвордов, и если бы ей было кому звонить, она бы звонила с рабочего телефона, используя его в личных целях, но ей некому звонить, и никогда не будет, это, как говорится, и ежу понятно. Ее лицо – сплошь в нарывах гнойных прыщей, и она твердо убеждена, что это имеет значение, и поэтому ни с кем не общается. Ее жизнь расстилается передо мной. Я вижу все, как наяву: она умрет необласканной старой девой – умрет от рака груди через пятнадцать лет, и ее похоронят в низине у кладбищенской дороги, и напишут ее имя на могильном камне, и первый мужчина, который коснется ее груди, будет хирургом-онкологом, и, вырезая вонючую опухоль, похожую на кочан капусты, он скажет своим ассистентам: «Господи, вы посмотрите, какая огромная. Почему, интересно, она никому не сказала?» – то есть он не поймет самой сути.
Я нежно целую ее в прыщавую щеку и шепчу ей: «Ты очень красивая». Потом легонько бью ее по голове – раз, два, три – своим жезлом и обвиваю яркой лентой.
Она поводит плечами и улыбается. Быть может, сегодня вечером она напьется, и пойдет танцевать, и решит возложить свою девственность на алтарь Гименея, встретит парня, которого больше интересует не ее лицо, а грудь, и однажды он будет мять эту грудь, ласкать ее и сосать, и вдруг скажет: «Котик, а ты обращалась к врачу? У тебя там какое-то странное уплотнение», – и к тому времени у нее больше не будет никаких прыщей, их сотрут, зацелуют и сгладят в забвение...
Но я уже потерял Мисси, и я мчусь вприпрыжку по длинному коридору, застеленному тускло-коричневым ковром, и наконец замечаю синее пальто. Мисси входит в какую-то дверь в дальнем конце коридора, и я иду следом за ней в холодную комнату, отделанную зеленым кафелем.
Запах сшибает с ног – тяжелый, прогорклый, противный. Грузный дядька в грязном белом халате и одноразовых резиновых перчатках. Кожа под носом и на верхней губе лоснится под толстым слоем ментоловой мази. Перед ним на столе – труп мужчины. Чернокожий худой старик с мозолистыми руками и редкими седыми усами. Толстый дядька еще не заметил Мисси. Он как раз сделал надрез и теперь раздвигает черную кожу, которая отходит с влажным сосущим звуком. Кожа снаружи коричневая, а изнутри – ярко-розовая.
Из портативного радио рвется классическая музыка, выведенная на полную громкость. Мисси выключает радио и говорит:
– Здравствуй. Вернон.
Толстяк говорит:
– Здравствуй, Мисси. Хочешь вернуться к нам на работу?
Видимо, это доктор. Потому что он слишком большой, слишком круглый, слишком роскошно откормленный для Пьеро – и недостаточно застенчивый для Панталоне. Он рад видеть Мисси, его лицо морщится складками удовольствия. Она улыбается ему, и я ревную: сердце пронзает острая боль (сейчас мое сердце – в кармане у Мисси, в прозрачном пакетике для сандвичей), и это гораздо больнее, чем когда я проткнул его шляпной булавкой и приколол к двери возлюбленной.
Кстати, о сердце. Мисси вынимает его из кармана и показывает патологоанатому Вернону.
– Знаешь, что это такое?
– Сердце, – говорит Вернон. – У почек нет желудочков, а мозги – больше и мягче. Откуда оно у тебя?
– Я надеялась узнать у тебя. Я думала, это твоя идея, Вернон. Оригинальная валентинка. Человеческое сердце, прибитое к моей входной двери.
Он качает головой.
– Нет, я тут ни при чем. Может быть, стоит вызвать полицию?
Она качает головой.
– С моей-то удачей, они сразу решат, что я – серийный убийца, и казнят без суда и следствия.
Доктор открывает пакет и тычет в сердце короткими толстыми пальцами в резиновой перчатке.
– Орган взрослого здорового человека, который явно заботился о своем сердце. Вырезано умело. Работа специалиста.
Я с гордостью улыбаюсь и склоняюсь над столом – хочу поболтать с мертвым стариком с мозолистыми пальцами гитариста и вскрытой грудиной.
– Уходи, Арлекин, – тихо бормочет он, чтобы не задеть чувства Мисси и своего доктора. – От тебя одни неприятности. А нам не нужны неприятности.
Я отвечаю ему:
– Замолчи. Если я захочу учинить неприятности, меня ничто не остановит. Учинять неприятности – мое непосредственное назначение. – Но на мгновение мне кажется, что внутри поселяется странная пустота: я тоскую, почти как Пьеро, а это – не дело для арлекина.
О, Мисси, вчера я увидел тебя на улице, ты вошла в продуктовую лавку, и я пошел следом, переполненный буйной радостью и восторгом. В тебе я узнал человека, который сможет меня изменить – забрать меня от меня. В тебе я увидел свою любимую, свою Коломбину.
Я не спал этой ночью. Бродил по городу в пьяном дурмане, подстрекая на безобразия тех, кто вообще никогда не пьет. Моими стараниями три непьющих банкира выставили себя дураками, домогаясь женственных педиков из варьете мадам Зоры. Я проникал в спальни к спящим – невидимый, невообразимый, – украдкой раскладывал свидетельства тайных любовных встреч по карманам, под подушки, по разным щелям и представлял себе, как будет весело, когда наутро кто-то найдет посторонние кружевные трусики в пятнах засохших секреций, кое-как спрятанные под диванной подушкой или во внутреннем кармане респектабельного пиджака. Но в сердце моем поселилось иное томление, и перед мысленным взором я видел только лицо Мисси.
О да. Влюбленный Арлекин – жалкое зрелище.
Я пытаюсь представить, что она сделает с моим подарком. Одни девчонки с презрением отвергают мое сердце; другие берут его в руки, целуют, наказывают всеми видами ласки, а потом возвращают обратно. Третьи даже не видят его.
Мисси забирает сердце у Вернона, кладет обратно в пакет.
– Может быть, сжечь его? – спрашивает она.
– Может быть. Ты знаешь, где печь, – говорит доктор, возвращаясь к мертвому музыканту на столе. – И я, кстати, серьезно насчет возвращения на работу. Мне нужен знающий ассистент.
Мне представляется, как мое сердце возносится к небу тонкой струйкой дыма и пепла, накрывая собой весь мир. Не знаю, нравится мне эта мысль или нет, но Мисси твердо качает головой и говорит «до свидания» патологоанатому Вернону. Она сует сердце в карман, выходит из здания и идет по кладбищенской дороге. Возвращается в город.
Я мчусь вприпрыжку, опережая ее. Взаимодействие – это славно, решаю я, и воплощаю свое решение, притворившись согбенной старухой, спешащей на рынок. Мой костюм в алых блестках спрятан под темным затертым плащом, лицо под маской скрыто в тени капюшона. В конце кладбищенской дороги я выступаю вперед и преграждаю путь Мисси.
Замечательный, чудный, волшебный я. Я обращаюсь к ней голосом древней старухи:
– Милая девушка, не пожалей медной монетки для несчастной старухи, и я открою тебе твое будущее, и твой взгляд засияет радостью.
Мисси останавливается. Достает кошелек, вынимает долларовую купюру.
– Вот, возьмите.
Я хочу рассказать ей про таинственного мужчину, которого она встретит уже очень скоро, он будет одет в красное с желтым, его лицо будет скрыто под маской, он пробудит в ней дрожь возбуждения, и станет любить ее вечно, и никогда – никогда – не бросит (потому что нельзя говорить всю правду своей Коломбине), но вместо этого вдруг говорю старым надтреснутым голосом:
– Ты когда-нибудь слышала про Арлекина?
Мисси делает задумчивое лицо. Потом кивает.
– Да. Это персонаж итальянской комедии дель-арте. Носит маску и костюм из разноцветных ромбов. Как я понимаю, он клоун?
Я качаю головой в тени капюшона.
– Не клоун. Он... – Я вдруг понимаю, что собираюсь сказать ей правду, и глотаю слова, готовые вырваться наружу. Притворяюсь, что кашляю. У старух часто бывают приступы неудержимого кашля. Может быть, это и есть пресловутая сила любви. Не помню, чтобы меня беспокоило что-то подобное с другими женщинами, которых я, как мне казалось, любил – с другими Коломбинами, которых мне доводилось встречать на протяжении стольких веков.
Я смотрю на Мисси глазами старухи. Мисси. Ей чуть за двадцать, у нее губы, как у русалки, полные, четко очерченные и уверенные. Серые глаза, напряженный взгляд.
– Вы хорошо себя чувствуете? – спрашивает она.
Я кашляю, брызжа слюной, потом снова кашляю, хватаю ртом воздух.
– Хорошо, моя милая. Спасибо.
– Вы говорили, что предскажете мне будущее.
– Арлекин подарил тебе сердце. – Я слышу собственные слова, словно их произносит кто-то другой. – А биение этого сердца ты должна обнаружить сама.
Она озадаченно смотрит на меня. Я не могу измениться, не могу исчезнуть, пока она смотрит, я застыл в этом обличье, раздраженный и злой – мой язык меня предал.
– Смотри, – говорю я, тыча пальцем в сторону, – там кролик.
И она смотрит туда, и когда ее взгляд отпускает меня, я исчезаю – бамс! – прячусь, как кролик в нору, и когда Мисси опять поворачивается к старой гадалке, ее, то есть меня, уже нет.
Мисси идет дальше, заходит в продуктовую лавку, покупает кусочек сыра, пакет апельсинового сока – натурального, не разведенного из концентрата, – и два авокадо, потом идет в банк и снимает двести семьдесят девять долларов и двадцать два цента, все, что есть на ее депозитном счете, я иду следом за ней, сладкий, как сахар, и тихий, как надгробный камень.
– Доброе утро, Мисси, – говорит хозяин кафе. У него аккуратно постриженная бородка, черная, с легкой проседью, и мое сердце могло бы дрогнуть и пропустить удар, если бы оно не лежало сейчас в пакете в кармане у Мисси, потому что этот мужчина, безусловно, ее вожделеет, и моя легендарная самоуверенность на секунду теряется и сникает. «Я Арлекин, – говорю я себе, – в моем костюме из разноцветных ромбов, и весь мир – мой театр, моя арлекинада. Я – Арлекин, восставший из мертвых, дабы подшучивать над живыми. Я – Арлекин, в моей маске, с моим жезлом». Я тихонько насвистываю себе под нос, и моя самоуверенность вновь встает в полный рост, могуче и твердо.
– Привет, Харв, – говорит Мисси. – Мне, пожалуйста, жареную картошку и кетчуп.
– И все?
– Да. Будет самое то. И еще стакан воды.
Этот Харв, говорю я себе, он – Панталоне, глупый купец, которого я должен обманывать, сбивать с толку, конфузить, дурачить и всячески издеваться. Может быть, там на кухне висит связка колбас. Я настроен весьма решительно. Я внесу в мир восхитительный беспорядок и еще до полуночи уложу в постель соблазнительную Мисси: подарок себе, любимому, на День святого Валентина. Мне представляется, как я целую ее в губы.
В кафе есть еще посетители. Я развлекаюсь, меняя местами тарелки, когда едоки смотрят в другую сторону, но мне почему-то не слишком весело. Официантка – худющая жердь с унылыми кудряшками, которые лезут в лицо. Она не обращает внимания на Мисси. Очевидно, считает, что Мисси предназначена только для Харва.
Мисси садится за стол, достает из кармана пакет и кладет его перед собой.
Харв-Панталоне подходит к ней, ставит на столик стакан с водой, тарелку с жареной картошкой и бутылочку кетчупа.
– Дайте, пожалуйста, острый нож, – говорит Мисси.
Харв уходит на кухню, и я ставлю ему подножку. Он чертыхается, и мне сразу становится легче, теперь я снова похож на всегдашнего себя, и я шлепаю по заднице официантку, когда она проходит мимо столика, где сидит старый дедок и ковыряется вилкой в салате, одновременно читая газету. Официантка с возмущением смотрит на деда. Я хихикаю и вдруг понимаю, что чувствую себя как-то странно. Я сажусь на пол, сижу.
– Это что у тебя? – спрашивает официантка у Мисси.
– Здоровая пища, Чарлин, – отвечает Мисси. – Содержит много железа.
Я смотрю на ее тарелку. Она режет мясо – мясо цвета печенки – на маленькие кусочки, поливает их кетчупом, накалывает на вилку и ест вместе с картошкой.
Я смотрю, как мое сердце исчезает во рту возлюбленной. Рот подобен бутону розы. Моя шутка на День святого Валентина уже не кажется мне забавной.
– У тебя малокровие? – спрашивает официантка, проходя мимо столика Мисси с дымящимся чайником кофе.
– Уже нет, – отвечает Мисси, отправляя в рот очередной кусок сырого мяса, тщательно пережевывает и глотает.
И доев мое сердце, она опускает глаза и видит меня, распростертого на полу. Она кивает и говорит:
– Пойдем на улицу. Прямо сейчас.
Она встает и оставляет на столике десять долларов – рядом с пустой тарелкой.
Она сидит на скамейке и ждет меня. На улице холодно и почти пустынно. Я сажусь рядом с ней. Я бы скакал и прыгал, но теперь это кажется глупым – теперь, когда я знаю, что за мной наблюдают.
– Ты съела мое сердце. – В моем голосе явственно слышится раздражение, и меня это бесит.
– Да, – говорит она. – И поэтому я тебя вижу?
Я молча киваю.
– Сними маску, – говорит она. – А то у тебя глупый вид.
Снимаю маску. Мисси смотрит на меня с легким разочарованием.
– Не сказать, чтобы стало намного лучше. – Она говорит: – А теперь дай мне шляпу. И палку.
Я качаю головой. Мисси снимает шляпу с моей головы, отбирает у меня жезл. Она вертит шляпу в руках, ее тонкие пальцы мнут ткань. Ее ногти накрашены ярко-красным лаком. Ее губы растянуты в улыбке. Поэзия покинула мою душу. Я дрожу на холодном февральском ветру.
– Холодно, – говорю я.
– Нет, – отвечает она. –Все замечательно, дивно и просто волшебно. Сегодня же День святого Валентина. Кому может быть холодно в такой день? Сейчас – самое лучшее время года.
Я опускаю глаза. Разноцветные ромбы бледнеют, сходят с моего костюма, который становится призрачно-белым. Белым, как у Пьеро.
– Что со мной происходит? – спрашиваю я у нее. Она отвечает:
– Не знаю. Кажется, ты исчезаешь. Или находишь другую роль... Может быть, роль влюбленного, страдающего от безнадежной любви, погруженного в сладкие грезы, льющего слезы под бледной луной. Тебе нужна только твоя Коломбина.
– Ты. Ты – моя Коломбина.
– Уже нет, – отвечает она. – В этом-то и заключается все веселье арлекинады. Мы меняем костюмы. Меняем роли.
Она улыбается мне. Улыбается так хорошо – теперь. Потом надевает мою шляпу, мою арлекинскую шляпу. Игриво бьет меня под подбородок.
Я ее спрашиваю:
– А ты?
Она подбрасывает в воздух жезл. Он летит по широкой дуге, красные и желтые ленты развеваются на ветру, а потом жезл возвращается в ее руку – аккуратно, почти беззвучно. Она опирается на него, как на трость, и поднимается на ноги – плавным, едва уловимым движением.
– У меня много дел, – говорит она мне. – Взять билеты. Пригрезиться стольким людям. – Ее синее пальто, доставшееся ей от мамы, уже никакое не синее. Теперь оно ярко-желтое, в красных ромбах.
Она наклоняется и целует меня прямо в губы, по-настоящему.
Громкий выхлоп автомобиля. Я испуганно вздрогнул, обернулся на звук, а когда повернулся обратно, ее уже не было. Пару минут я сидел на скамейке – один.
Дверь кафе распахнулась, и Чарлин выглянула наружу.
– Пит. Ты уже все?
– Все?
– Иди работать. Харв говорит, твой перекур затянулся. И потом, ты замерзнешь. Ладно, давай ноги в руки – и марш на кухню.
Я смотрел на нее. Все смотрел и смотрел. Она накрутила на палец кудрявую прядь и улыбнулась мне. Я поднялся, расправил белую униформу помощника на кухне и пошел следом за Чарлин в кафе.
«Сегодня День святого Валентина, – подумал я. – Вот и скажи ей о своих чувствах. Скажи прямо сейчас».
Но я ничего не сказал. Не решился. Просто вошел в кафе следом за ней – унылый образчик немого томления.
На кухне меня дожидались горы немытых тарелок: я принялся сгребать объедки в мусорное ведро. На одной из тарелок остался кусочек какого-то темного мяса и пара ломтиков картошки, щедро политой кетчупом. Мясо, судя по виду, было почти сырым, но я обмакнул его в загустевший кетчуп и, когда Харв отвернулся, быстро сунул кусок мяса в рот, прожевал и проглотил. Оно было жестким, как хрящ, с металлическим привкусом, но я все равно его съел. Почему – сам не знаю.
Капля красного кетчупа сорвалась с тарелки, упала на мой белый рукав и растеклась в форме ромба.
– Эй, Чарлин, – крикнул я. – С Днем святого Валентина!
И принялся насвистывать веселый мотивчик.
ЗАМКИ
Locks