Вызовите акушерку Уорф Дженнифер
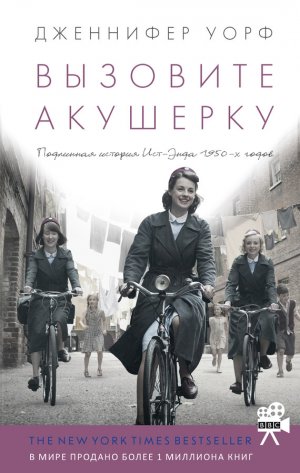
Jennifer Worth
Call the midwife
© Дженнифер Уорф, 2012
© Мария Фетисова, перевод на русский язык, 2016
© Livebook Publishng Ltd, 2016
© CTM Productions Ltd. A Neal Street Production for the BBC Copyright
© Jennifer Worth 2002
***
Посвящается Филипу, моему дорогому мужу
История Мэри посвящается также памяти отца Джозефа Уильямсона и Дафны Джонс
***
БЛАГОДАРЮ
всех медсестёр и акушерок, которые работали со мною более полувека назад и многих из которых уже нет с нами, Терри Коутс, воодушевившую меня написать воспоминания, Кэнон Тони Уильямсон, президента Уэллклоузского фонда, Элизабет Фэрбэрн за её поддержку, Пэт Скуллинг, у которой хватило смелости пойти на публикацию, Наоми Стивенс за её помощь с диалектом кокни, Сюзанну Харт, Дженни Уайтфилд, Долорес Кук, Пегги Сейер, Бетти Хоуни, Риту Перри, всех, кто набирал текст, читал и советовал, Тауэр-Хамлетскую краеведческую библиотеку и архивы, куратора Фонда истории Собачьего острова, E14, архивариуса Музея в Доклендсе, E14, библиотекаря в «Аэрофильмах Симмонса».
Предисловие
В январе 1998 года «Журнал акушерок» опубликовал статью Терри Коатс, озаглавленную «Образ акушерки в литературе». После тщательного исследования Терри была вынуждена прийти к заключению, что в литературе образ акушерки практически не раскрыт.
Почему, во имя всего святого? Вымышленные врачи толпами вышагивают по страницам книг, сея походя перлы мудрости. Медсёстры, хорошие и плохие, тоже отнюдь не редки. Но акушерки? Кто слышал об акушерках как о литературных героях?
А между тем акушерство само по себе полно драмы и мелодрамы. Каждый ребёнок зачинается в любви или похоти, рождается в боли и страдании, для радости или трагедии и мучения.
Акушерка присутствует при каждом рождении; находится в гуще его, видит всё. Почему же она остаётся призрачной фигурой, скрытой за дверью больничной палаты?
Терри Коатс закончила свою статью словами: «Возможно, где-нибудь есть акушерка, способная сделать для своей профессии столько же, сколько Джеймс Хэрриот сделал для ветеринарии».
Я прочитала эти слова и приняла вызов.
Дженнифер Уорф
Введение
Ноннатус-Хаус был расположен в самом сердце Доклендса. Практика охватывала Степни, Лаймхаус, Миллуолл, Собачий остров, Кабитт-Таун, Поплар, Боу, Майл-Энд и Уайтчепел. Район был густонаселён, и большинство семей жили там поколениями, зачастую не переезжая дальше, чем на улицу-другую от места рождения. Семейная жизнь протекала в тесноте, детей воспитывали всем миром: тёти, бабушки и дедушки, кузины, старшие братья и сёстры, жившие все в пределах нескольких домов или, самое большее, соседних улиц. Дети постоянно бегали друг к другу в гости, и не припомню – а я работала и жила там, – чтобы двери когда-либо закрывались, кроме как на ночь.
Ребятишки сновали повсюду, улицы были их игровыми площадками. В 1950-х в переулках не ездило никаких машин – их просто ни у кого не было, так что играть было совершенно безопасно. По главным дорогам, особенно ведущим к докам и от них, разъезжали грузовые автомобили, но на маленьких улочках движения не было вовсе.
Детскими площадками служили и разрушенные бомбами здания. Их было не счесть – страшное напоминание о войне и интенсивной бомбардировке Доклендса, со времени которых прошло всего десять лет. Тут и там в рядах домов зияли огромные бреши, порой про ходившие насквозь через две-три улицы. Такие места обносили сплошным забором, отчасти просто для того, чтобы убрать с глаз долой пустыри, заваленные битым кирпичом среди еле стоящих останков зданий. Вероятно, где-то даже висели таблички «ОПАСНО – ВХОД ВОСПРЕЩЁН», но для любого живого мальчонки лет шести-семи они были что красная тряпка для быка; у каждого разрушенного здания имелся секретный ход – незаметно отодвигающаяся доска, позволявшая маленькому тельцу протиснуться внутрь. Официально заходить туда запрещалось, но все, включая полицию, казалось, закрывали на это глаза.
Несомненно, это был суровый район. Поножовщины и уличные драки никого не удивляли. Дня не проходило без драк и стычек в пабах. В маленьких, перенаселённых домах процветало бытовое насилие. Но я никогда не слышала, чтобы насилию подвергались дети или старики; слабых определённо уважали. То были времена близнецов Крэй, войн группировок, кровной мести, организованной преступности и жёсткой конкуренции. Полицейские были повсюду и никогда не ходили в одиночку. И всё же я ни разу не слышала о сбитых с ног и обворованных пожилых леди, о похищенных или убитых детях.
Подавляющее большинство мужчин в районе работали в доках.
Занятость была высока, зарплата мала, рабочий день длинен. Мужчины, выполняющие квалифицированную работу, имели сравнительно высокую заработную плату и нормированный день и потому держались за свои рабочие места мертвой хваткой. Ремесло, как правило, не выходило за рамки семьи, передаваясь от отца к сыновьям или племянникам. Но разнорабочим жизнь, должно быть, казалась сущим адом. Пока корабль не вставал под разгрузку, не было никакой работы, и мужчины весь день слонялись по докам, курили и препирались. Но приход корабля означал четырнадцать, возможно, восемнадцать часов неустанного физического труда. Приступали в пять часов утра, заканчивали – к десяти вечера. Неудивительно, что после этого они заваливались в пабы и напивались до чёртиков. Мальчики начинали работать в доках с пятнадцати лет и должны были трудиться наравне с мужчинами. Мужчины вступали в профсоюз, стремившийся обеспечить справедливую оплату и разумный график работы, но принцип «закрытого цеха», вероятно, создавал столько же неприятностей и вражды между рабочими, сколько и выгод. Впрочем, не приходится сомневаться, что без профсоюзов эксплуатация рабочих в 1950 году была бы столь же ужасна, как и в 1850-м.
Ранние браки считались нормой. В вопросах секса среди добропорядочных жителей Ист-Энда наблюдался высокий уровень морали и даже ханжества. Не состоявших в браке партнёров почти не встречалось, и ни одна девушка не стала бы жить со своим парнем. А если бы попыталась, её бы сжила со свету своя же семья. Что происходило в разбомбленных руинах или за навесами для мусорных баков, не обсуждалось. Если девушка беременела, давление на парня было столь велико, что немногим удавалось улизнуть от женитьбы. Семьи были велики, порой – очень велики, разводы – редки. Не обходилось без жарких и жестоких семейных скандалов, и тем не менее муж с женой обычно держались вместе.
Работали женщины редко. Девушки – конечно, но как только женщина заводила семью, это начинало вызывать неодобрение. А когда появлялись дети, работать становилось невозможно: непрерывные хлопоты, уборка, стирка, магазины и готовка становились её уделом. Я часто не могла взять в толк, как эти женщины справлялись с тринадцатью, четырнадцатью детьми, живя в крошечном доме всего с двумя-тремя спальнями. Некоторые семьи такого размера жили на съёмных квартирах, часто состоявших всего из двух комнат и кухоньки.
Контрацепция, если и практиковалась, была весьма ненадёжна. Всё было отдано на откуп женщинам, которые бесконечно говорили о безопасных днях, красном вязе, джине и имбире, обливаниях горячей водой и тому подобном, но мало кто посещал центры по планированию семьи, и, судя по тому, что я слышала, большинство мужчин категорически отказывались предохраняться.
Стирка, сушка и глажка занимали большую часть рабочего дня женщины. Стиральных машин практически не было, а сушильные барабаны ещё даже не изобрели. Сушильные дворы были всегда завешаны одеждой, и нам, акушеркам, частенько приходилось пробираться сквозь лес хлопающего белья, чтобы попасть к пациентке. В квартирах висели новые порции белья, между которым приходилось петлять и подныривать в прихожей, на лестнице, на кухне, в гостиной и в спальне. Первая прачечная самообслуживания открылась в 1960-х годах, до этого всё стирали дома вручную.
К 1950-м большинство домов могло похвастаться холодной водой и смывным туалетом во дворе. У некоторых даже была ванная. Однако не в доходных домах, так что общественные бани были по-прежнему весьма востребованы. Непоколебимые матери раз в неделю притаскивали сюда своих упирающихся сыновей. Мужчины, возможно под давлением своих женщин, также проходили процедуру еженедельного омовения. Вы бы видели, как каждую субботу они шли в баню с маленькими полотенцами, кусками мыла и мрачными лицами, на которых отражались все драки, проигранные ими на неделе.
В большинстве домов было радио, но за всю свою жизнь в Ист-Энде я не видела ни одного телевизора, и это, возможно, неплохо способствовало разрастанию семей. Пабы, мужские клубы, танцы, кино, мюзик-холлы и собачьи бега были основными видами досуга. Для молодёжи, что удивительно, центром общественной жизни часто становилась церковь: при каждой церкви имелся ряд молодёжных клубов, в которых каждый вечер проводились всевозможные мероприятия. В церкви Всех Святых на Ост-Индия-Док-роуд, огромном викторианском соборе, был организован посещаемый сотнями подростков молодёжный клуб под руководством пастора и как минимум семи энергичных молодых викариев. Им требовалась вся их молодость и энергия, чтобы вечер за вечером проводить мероприятия для пяти-шести сотен молодых людей.
Тысячи моряков всех национальностей, что приходили в доки, не сильно влияли на уклад живущих там людей. «Мы держимся своих», – говорили местные, не желая вступать в контакт. Дочерей тщательно оберегали: для удовлетворения потребностей моряков хватало борделей. По долгу службы мне доводилось посещать эти жутчайшие места два или три раза.
Я видела проституток на главных дорогах, но ни одной – в переулках, даже на Собачьем острове, куда в первую очередь прибывали моряки. Опытные профессионалки никогда бы не стали тратить время на такой неперспективный район, а если какая-нибудь энтузиастка-любительница оказывалась настолько безрассудна, чтобы попробовать, её вскоре выдворяли, вероятно, с применением силы, возмущённые местные жители, как мужчины, так и женщины. Бордели пользовались известностью и всегда были заполнены. Осмелюсь сказать, они были нелегальны и время от времени подвергались полицейским облавам, но на бизнесе, кажется, это не сказывалось. Существование публичных домов, конечно, оставляло улицы чистыми.
За минувшие пятьдесят лет жизнь безвозвратно изменилась. Мои воспоминания о Доклендсе не имеют ничего общего с тем, что там происходит сегодня. Семейная и общественная жизнь полностью переосмыслились, и одновременно случились три вещи, положившие конец векам традиции всего за одно десятилетие: закрытие доков, расчистка трущоб и изобретение противозачаточных средств.
Снос ветхих зданий начался в конце 1950-х, когда я ещё работала в этом районе. Несомненно, здания никуда не годились, но для людей это был родной дом, и любимый дом. Я помню многих, многих людей, старых и молодых, мужчин и женщин, держащих в руках бумагу из местного совета, сообщающую, что их дома и квартиры сносят, а их переселяют. Многие рыдали. Они не знали другого мира, и переезд на четыре мили казался путешествием на край света. Переезды разбивали большие семьи, отчего страдали дети. Это также буквально убивало многих стариков, которые не могли адаптироваться к переменам. На что тебе новая квартира с центральным отоплением и ванной, если ты никогда не увидишь внуков, тебе не с кем поговорить, а пивная, где разливают лучшее пиво в Лондоне, в четырёх милях отсюда?
Оральные контрацептивы появились в начале 1960-х, и тогда же родилась современная женщина. Не привязанная больше к бесконечной череде младенцев, она могла быть собой. С противозачаточными пришло то, что мы сейчас называем сексуальной революцией. Женщины впервые в истории могли, как мужчины, получать удовольствие от близости, не опасаясь последствий. В конце 1950-х в наших журналах регистрировалось от восьмидесяти до ста рождений в месяц. В 1963 году это число сократилось до четырёх-пяти. Это ли не социальные перемены!
Упадок доков происходил постепенно, в течение лет пятнадцати, но к 1980-м торговые суда уже не приходили. Мужчины цеплялись за свою работу, профсоюзы пытались отстоять их права, 1970-е ознаменовались многочисленными забастовками докеров, но изменить предначертанного они уже не могли. На самом деле забастовки не столько защитили рабочие места, сколько ускорили закрытие порта.
Для местных мужчин доки были не просто работой, и даже не просто образом жизни, – они были самой жизнью, и их мир развалился на части. Порты, в течение многих веков служившие основными артериями Англии, стали не нужны. Перестали быть нужными и сами мужчины. Это был конец Доклендса, каким я его знала.
Первые социальные реформы прокатились по стране в викторианскую эпоху.
Литераторы впервые написали о беззакониях, ранее никогда не разоблачавшихся, и тем самым перевернули общественное сознание. В числе требовавших реформ вопросов внимание многих дальновидных и образованных женщин привлекла необходимость хорошего ухода в больницах. Медсёстринское дело и акушерство пребывали тогда в плачевном состоянии. Эти профессии не считались почётным занятием для образованной женщины, и пробел заполняли недоучки. Карикатурные образы Сары Гэмп и Бетси Приг, созданные Чарльзом Диккенсом, – невежественные, отвратительные, хлещущие джин женщины, – могут показаться смешными, когда мы о них читаем, но перестали бы быть таковыми, если бы по причине беспросветной бедности нам пришлось вверить свою жизнь в их руки.
Выдающиеся организаторские способности Флоренс Найтингейл – нашей самой знаменитой медсестры – радикально изменили облик ухода за больными. Но она была не одинока: в историю сестринского дела вошло множество самоотверженных женщин, посвятивших свою жизнь повышению его качества. Одной такой группой стали акушерки Святого Раймонда Нонната[1]. Это был религиозный орден англиканских монахинь, посвятивших себя благополучию малообеспеченных рожениц. Они открывали родильные дома в лондонском Ист-Энде и во многих трущобах великих индустриальных городов Великобритании.
В девятнадцатом веке (и ранее, конечно) бедная женщина не могла позволить себе плату, требуемую врачом за родовспоможение. Таким образом, она была вынуждена довольствоваться услугами акушерок-самоучек, или «мастериц на все руки», как их часто называли. Некоторые оказывались неплохими практиками, но остальные могли похвастаться лишь пугающими показателями смертности. В середине девятнадцатого столетия материнская смертность среди беднейших классов составляла 35–40 процентов, младенческая – 60. Осложнения вроде эклампсии, кровотечения или неправильного положения плода означали неизбежную смерть матери. Иногда, если какое-либо отклонение обнаруживалось во время родов, «мастерицы» бросали пациенток умирать в агонии. Нет никаких сомнений в том, что они работали в, мягко говоря, антисанитарных условиях, разнося инфекции, болезни и смерть.
Кроме того, что у них не было никакой подготовки, никто не контролировал ни численность, ни практику подобных «мастериц». Сент-Раймондские акушерки считали, что ответ на это социальное зло заключается в надлежащем обучении акушерок и законодательном контроле их работы.
В борьбе за реформу законодательства эти решительные монахини и их сторонники столкнулись с жесточайшим сопротивлением. Битва завязалась примерно в 1870 году; их называли «дурёхами», «канительщицами», «чудачками» и «назойливыми кумушками», обвиняли во всех смертных грехах – от извращения до жажды неограниченной наживы. Однако монахинь Нонната было не победить.
Сражение продолжалось тридцать лет, но наконец в 1902 году был принят первый Закон об акушерках и появился Королевский колледж акушерок.
Работа акушерок Святого Раймонда Нонната основывалась на религиозной дисциплине. Я не сомневаюсь, что в то время это было необходимо, потому что условия работы были настолько отвратительны, а работа столь безжалостна, что за неё могли взяться только верные Богу. Флоренс Найтингейл писала, как ей, едва ли двадцатилетней, явился Христос, возвестивший, что её призвание – в этой работе.
Сент-Раймондские акушерки работали в трущобах лондонского Доклендса среди беднейших из бедных и почти всю первую половину XIX века были единственными достойными акушерками, работавшими там. Они неустанно трудились во время эпидемий холеры, брюшного тифа, полиомиелита и туберкулёза. В XX веке они работали во время двух мировых войн. В 1940-х остались в Лондоне и пережили «Большой блиц» с его массированной бомбардировкой доков. Они принимали роды в бомбоубежищах, землянках, криптах, на станциях метро. Это была неустанная, самоотверженная работа, которой они посвятили свои жизни, их знали и уважали, ими восхищались все жители Доклендса. Все говорили о них с искренней любовью.
Такими были акушерки Святого Раймонда Нонната, когда я впервые их узнала: орден монахинь, давших и соблюдавших обеты бедности, целомудрия и послушания, но также квалифицированных медсестёр и акушерок, в ряды которых я вступила, не подозревая, что это окажется самым важным опытом в моей жизни.
Вызовите акушерку
Как я вообще в это ввязалась? Должно быть, сошла с ума! На свете есть десятки профессий, в которых я могла бы преуспеть: манекенщица, стюардесса, горничная на корабле. Я мысленно перебираю варианты манящих, высокооплачиваемых должностей. Только идиотка могла удумать стать медсестрой. А теперь ещё и акушеркой…
Половина третьего утра! Полусонная, я влезаю в свою униформу. После семнадцатичасового рабочего дня удалось поспать всего три часа. Кому под силу такая работа? Снаружи ужасно холодно и льёт как из ведра. В самом Ноннатус-Хаусе достаточно зябко, а уж на велосипедной стоянке… Дёргаю в потёмках велосипед и больно ударяюсь лодыжкой. Повинуясь слепой силе привычки, прилаживаю к велосипеду акушерскую сумку и выталкиваю его на безлюдную улицу.
Поворачиваю за угол, на Лейланд-стрит, пересекаю Ост-Индия-Док-роуд и гоню на Собачий остров. Дождь смывает остатки сна, мерно крутящиеся педали усмиряют нервы. Почему я вообще подалась в медсёстры? Мысленно возвращаюсь на пять или шесть лет назад. Разумеется, у меня не было никакого ощущения призвания или непреодолимого стремления исцелять болящих, которое должно испытывать медсестре. Что же тогда? Очевидно, разбитое сердце, желание сбежать, принять вызов, сексуальная униформа с манжетами и накрахмаленным воротничком, приталенным силуэтом и дерзкой маленькой шапочкой. Сойдёт за причину? Не знаю. Что касается сексуальной униформы, то это смешно, размышляю я, крутя педали в тёмно-синем габардине и шапочке, исправно сползающей с головы. Куда как сексуально.
Переезжаю первый разводной мост, ближайший к сухим докам. Весь день они наполнены шумом и жизнью загружаемых и разгружаемых огромных судов. Тысячи мужчин: докеры, грузчики, шофёры, лоцманы, матросы, механики, крановщики – все неустанно трудятся. Сейчас доки молчат, слышен только плеск воды. Темень непроглядная.
Проезжаю мимо многоквартирных домов с бесчисленными тысячами спящих, возможно, по четыре или пять человек в кровати, в крошечных двухкомнатных квартирах. Две комнатки на семью с десятью-двенадцатью детьми. Как они там умещаются?
Еду дальше, спеша к своей пациентке. Пара полицейских машут мне, выкрикивая приветствия; короткая встреча безмерно поднимает настроение. Медсёстры и полицейские всегда понимают друг друга, особенно в Ист-Энде. Интересно, размышляю я, они всегда ходят по двое – боятся. Вы никогда не встретите одинокого полицейского. А мы, медсёстры и акушерки, всегда одни – и пешком, и на велосипеде. Нас не трогают. Самые грубые и норовистые докеры настолько глубоко уважают, даже почитают местных акушерок, что мы можем ходить куда угодно одни и днём, и ночью.
Передо мной расстилается тёмная, без единого фонаря, дорога. Она непрерывной петлёй опоясывает Остров, но от неё, перекрещиваясь, отходят узкие улочки, вмещающие нагромождение построенных вплотную друг к другу домов. Дорога не лишена романтики – здесь всегда слышен шум реки.
Вскоре я сворачиваю с Вест-Ферри-роуд в переулки. И сразу же вижу дом своей пациентки – единственный, где горит свет.
Кажется, внутри меня ждёт целая делегация женщин. Мать пациентки, её бабушка (или это две бабушки?), две или три тётки, сёстры, лучшие подруги, соседки. Слава богу, на этот раз нет миссис Дженкинс.
На заднем плане сего могучего сестричества теряется одинокий мужчина – источник всего волнения. Я всегда сочувствую мужчинам в такие минуты: бедняги оказываются совершенно не у дел.
Шум и болтовня женщин окутывают меня, словно одеяло.
– Привет, дорогуша, как сама? Скоренько ты обернулася, значится.
– Давай-ка сюды пальтецо и шапку.
– Жуть, а не ночка. Заходь погреться, значится.
– Хошь чайку? Проберёт до нутра, а, дорогуша?
– Она наверху, тама же, где и давеча. Схватки – каждые пять минут. Она спала, как ты ушла, прям до полуночи. Потом проснулася, в два, шо ли, схватки всё сильнше и чаще, и мы поняли, шо пора б звать акушерку, да, ма?
Согласившись, «ма» авторитетно засуетилась:
– Мы закипятили воды, заложили хороших чистых полотенцев, растопили огню, вот как хорошо и тепло для младенчика-то.
Я никогда не любила много говорить, а сейчас и не до того. Отдаю им плащ и шляпу, отказываюсь от чая, по опыту зная, что, как правило, чай в Попларе отвратителен: крепкий – впору забор смолить, настаивающийся часами, сдобренный липкой сладкой сгущёнкой.
Я рада, что побрила Мюриэль ещё днём, когда света было достаточно, чтобы её не порезать, да ещё и обязательную клизму поставила. Терпеть не могу эту работу, слава богу, она позади, да и кому захочется вводить две пинты мыльно-водяной клизмы в доме без туалета со всеми вытекающими последствиями в два тридцать утра?
Поднимаюсь к Мюриэль, приятной двадцатипятилетней женщине, рожающей четвёртого ребёнка. Газовая лампа разливает по комнате мягкий тёплый свет. Яростно полыхает огонь – жар почти удушающий. Быстрый взгляд говорит мне, что Мюриэль близится ко второму этап у родов: потоотделение, слегка учащённое дыхание, обращённый вовнутрь взгляд, появляющийся у женщины во время, когда она сосредотачивает каждую унцию душевных и физических сил на своём теле и на чуде, которое она вот-вот произведёт на свет. Мюриэль ничего не говорит, только сжимает мою руку и озабоченно улыбается. Тремя часами ранее я покинула её на первом этапе родов. Весь день ей не давали покоя ложные схватки, и она очень устала, так что около десяти вечера я дала ей хлоралгидрат, в надежде, что она проспит всю ночь и утром проснётся отдохнувшей. Не сработало. Роды хоть когда-нибудь проходят по плану?
Я должна понять, насколько продвинулись роды, и готовлюсь к влагалищному исследованию. Пока я тщательно мою руки, накатывает ещё одна схватка – видно, как она нарастает, пока не достигает такой мощи, что, кажется, сейчас разорвёт тело на части. Считается, что в разгар родов давление, с которым сокращается матка, сопоставима с силой захлопывающихся дверей поезда метро. Наблюдая, как Мюриэль рожает, я охотно в это верю. Её мать и сёстры находятся рядом. Она цепляется за них в бессловесной судорожной агонии, задыхающийся стон вырывается из горла, затем женщина опустошённо откидывается – набраться сил на следующую схватку.
Надеваю перчатку и смазываю руку. Объясняю Мюриэль, что хочу осмотреть её, и прошу подтянуть колени. Она точно знает, что я собираюсь делать и почему. Подкладываю стерильную простыню под её ягодицы и ввожу два пальца во влагалище. Уже можно нащупать головку, головное предлежание, шейка матки почти полностью раскрылась, но воды, несомненно, ещё не отошли. Слушаю сердцебиение плода – устойчивые 130 ударов в минуту. Слава богу. Это всё, что мне нужно знать. Говорю Мюриэль, что всё в порядке и осталось совсем чуть-чуть. Начинается следующая схватка, слова и действия приостанавливаются – всё сосредотачивается на родах.
Нужно разложить принадлежности. С комода всё заранее убрано, чтобы я могла спокойно работать. Выкладываю ножницы, зжимы, бинты, стетоскоп для беременных, почкообразные лотки, марлю и ватные тампоны, кровеостанавливающий зажим. Больше ничего и не нужно, и в любом случае всё должно быть лёгким, чтобы возить на велосипеде и таскать вверх и вниз, нарезая мили по лестницам и балконам многоквартирных домов.
Кровать подготовлена заранее. Мы достали сумку роженицы, собранную мужем за неделю или две до родов. В ней были послеродовые прокладки – мы звали их «зайчиками», – большие одноразовые впитывающие простыни и невпитывающая коричневая бумага. Эта коричневая бумага выглядела до нелепости старомодно, но была весьма эффективной. Размером с кровать, она подкладывалась под впитывающие прокладки и простыни, а после родов всё сворачивалось и сжигалось.
Люлька готова. Готов и таз подходящего размера, а внизу кипятятся галлоны горячей воды. В доме нет горячего водопровода, и мне интересно, как люди обходились, когда не было вообще никакого. Должно быть, это занятие занимало всю ночь – наносить и вскипятить. На чём? Кухонная плита должна постоянно топиться, углём, если семья могла себе это позволить, или хотя бы прибитым к берегу плавником.
Но у меня нет времени, чтобы сидеть и размышлять. Бывает, роды длятся всю ночь, но что-то подсказывает мне, что это не тот случай. Возрастающая сила и частота схваток вкупе с тем, что это четвёртый ребёнок, указывали, что второй этап не за горами. Теперь схватки приходят каждые три минуты. Сколько ещё Мюриэль сможет перенести, сколько вообще женщина может перенести? Вдруг лопается околоплодный пузырь, и воды заливают кровать. Хорошо, что только сейчас; я-то опасалась, что воды отойдут слишком рано. После схватки мы с матерью Мюриэль как можно быстрее заменяем намокшие простыни. Сама она уже не может подняться, приходится её перекатывать. После следующей схватки показывается головка. Теперь необходимо особое сосредоточение.
Подчиняясь инстинкту, женщина сильно тужится. Если всё в норме, повторнобеременная может вытолкнуть головку в считанные секунды, но ничего хорошего в этом нет. Каждая акушерка должна стараться, чтобы головка выходила медленно.
– Мюриэль, надо перевернуться на левый бок, как схватка пройдёт. Постарайся не тужиться, пока ты на спине. Вот так, поворачивайся, дорогая, лицом к стенке. Подтяни правую ногу к подбородку. Дыши глубоко, продолжай дышать глубоко. Сконцентрируйся на глубоком дыхании. Сестра тебе поможет.
Я склоняюсь над низко провисшей кроватью. «Кажется, в этих краях все кровати провисают посередине», – думаю я. Иногда мне приходилось доставать ребёнка, стоя на коленях. Однако сейчас не до этого – пришла новая схватка.
– Дыши глубоко, тужься слегка, не слишком сильно.
Схватка проходит, и я снова слушаю сердцебиение плода: на сей раз 140. Пока в пределах нормы, но учащённое сердцебиение показывает, через что ребёнок проходит в процессе рождения.
Ещё одна схватка.
– Тужься совсем чуть-чуть, Мюриэль, не слишком сильно, скоро мы увидим твоего малыша.
Она не в себе от боли, но в последние несколько секунд родов женщина приходит в такой неописуемый восторг, что боль, кажется, уже не имеет значения. Ещё одна схватка. Головка выходит быстро, слишком быстро.
– Не тужься, Мюриэль, просто дыши – вдох, выдох – быстро, продолжай в том же духе.
Я придерживаю голову, предотвращая разрыв промежности.
Очень важно замедлять голову между схватками, и, удерживая её, я понимаю, что взмокла от усилий, концентрации, жары и напряжения.
Схватка проходит, и я немного расслабляюсь, снова слушая сердцебиение плода: по-прежнему нормальное. Она вот-вот родит. Уперев ладонь правой руки за расширившимся анусом, я надавливаю решительно и уверенно, пока темя полностью не показывается из вульвы.
– Со следующей схваткой, Мюриэль, выйдет головка. Теперь я хочу, чтобы ты вообще не тужилась. Просто позволь мышцам живота самим сделать всю работу. Всё, что ты должна делать, так это попытаться расслабиться и дышать как сумасшедшая.
Я приготовилась к следующей схватке, пришедшей с удивительной стремительностью. Мюриэль дышит часто, не прерываясь. Я растягиваю промежность рядом с появившейся макушкой, и головка выходит.
Мы все вздыхаем с облегчением.
– Молодец, Мюриэль, ты отлично справилась, осталось совсем чуть-чуть. Ещё одна схватка – и мы узнаем, мальчик у тебя или девочка.
Личико младенца синее и морщинистое, покрытое слизью и кровью. Проверяю сердцебиение. По-прежнему нормальное. Я слежу за поворотом головки на одну восьмую круга. Теперь из-под лонной дуги появилось плечико.
Ещё одна схватка.
– Вот так, Мюриэль, теперь можешь тужиться – изо всех сил.
Я направляю появившееся плечико вперёд и вверх. Следом идут другое плечико и рука, и ребёнок легко выскальзывает наружу.
– Ещё один мальчонка! – восклицает мать. – Слава богу! Сестра, он здоровенький?
Мюриэль заливается следами радости:
– О, благослови его Бог. Так, дайте-ка мне взглянуть. Ой, какой славненький.
Я почти так же ошеломлена, как и Мюриэль, столь сильно облегчение от благополучных родов. Зажимаю пуповину в двух местах и перерезаю посредине; беру младенца за лодыжки вверх тормашками – убедиться, что в лёгкие не попала слизь.
Он дышит. Теперь ребёнок – отдельное существо.
Я заворачиваю его в полотенца и передаю Мюриэль, которая убаюкивает сыночка, воркует над ним, целует и называет «прекрасным, милым, ангелом». По правде говоря, в первые минуты после рождения ребёнок – совсем не образец чистой красоты: измазан кровью, синюшный, сморщенный, с зажмуренными глазками. Но мать никогда не видит его таким. Для неё он – совершенство.
Однако моя работа не закончена. Надо удалить плаценту, целиком и полностью, не оставив ни кусочка в матке. Если оставить, у женщины возникнут серьёзные проблемы: инфекция, постоянное кровотечение, возможно, даже большая кровопотеря, что может привести к смерти. Это, пожалуй, самая сложная часть любых родов – извлечь плаценту целой и невредимой.
Мышцы матки, успешно справившись с непростой задачей рождения ребёнка, часто словно хотят отдохнуть. Нередко следующие десять-пятнадцать минут не происходит никаких сокращений. Это хорошо для матери, которой хочется, забыв о том, что у неё внутри, лежать, обнимая своего малыша, но для акушерки это время может стать тревожным. Когда сокращения матки возобновляются, они зачастую слишком слабы. Успешное извлечение плаценты – обычно вопрос точного подгадывания момента, проницательности и, самое главное, опыта.
Говорят, чтобы стать хорошей акушеркой, нужно семь лет практики. Шёл мой первый год, я была одна, стояла глухая ночь, женщина и её семья безгранично мне доверяли, в доме не было телефона. «Пожалуйста, Боже, не дай мне ошибиться», – молилась я.
Более или менее прибрав постель, я прошу Мюриэль лечь на спину, на тёплую сухую послеродовую простынь и прикрываю её одеялом. Пульс и давление нормальные, ребёнок спокойно лежит у неё на руках. Всё, что мне остаётся, – ждать.
Я сижу на стуле возле кровати, держа руку на животе Мюриэль, чтобы сразу почувствовать и оценить ситуацию. Иногда третья стадия родов может занять двадцать-тридцать минут. Я размышляю о важности терпения и возможных несчастьях, случающихся из-за желания поторопиться. Живот кажется мягким и широким, значит, плацента, очевидно, всё ещё держится в верхнем сегменте матки. За десять минут не было ни одного сокращения. Пуповина торчит из влагалища, это моя уловка – зафиксировать её чуть ниже вульвы, чтобы заметить, когда пуповина удлинится – признак того, что плацента отделилась и опускается в нижний сегмент матки. Но ничего не происходит. Мою голову посещает внезапная мысль: рассказы о благополучных родах, принятых таксистами или кондукторами, никогда не касаются подобного. В чрезвычайных обстоятельствах любой водитель автобуса может принять роды, но кто из них имеет хоть малейшее представление, как управляться на третьем этапе? Полагаю, большинство несведущих людей захотят вытянуть пуповину, думая, что так они вытащат и плаценту, но это может привести к сущей катастрофе.
Мюриэль воркует и целует своего ребёнка, пока её мать прибирается. Огонь потрескивает. Я спокойно жду, размышляя.
Почему общество не считает акушерок героинями, хотя должно бы? Почему им придают столь маленькое значение? Их должно бы возносить до небес. Но не возносят. Ответственность, которую акушерки берут на себя, безмерна. Их умения и знания исключительны, но принимаются как нечто само собой разумеющееся и обычно недооцениваются.
Все студенты-медики в 1950-х годах обучались акушерками. Конечно, им читали лекции профессора-гинекологи, но без клинической практики лекции не имеют смысла. Так было во всех университетских клиниках: студенты прикреплялись к наставнице-акушерке и выезжали с ней на вызовы – учиться на практике. Все врачи общей практики прошли обучение у акушерок. Только об этом мало кто знал.
Живот напрягается и немного поднимается в области желудка, словно сокращение сжимает мышцы. «Началось», – думаю я. Но нет. Не оно. Живот после сокращения слишком мягкий.
Снова жду.
Размышляю о невероятном прогрессе акушерской практики за столетие. Поначалу самоотверженным женщинам, получившим соответствующую подготовку, приходилось обучать других. Сертифицированному обучению акушерок было менее пятидесяти лет. Мою мать и всех её братьев и сестёр принимали женщины без специальной подготовки, которых обычно звали «хозяйками» или «мастерицами». Говорят, врачи вообще не присутствовали на родах.
Ещё одно сокращение. Живот поднимается под моей рукой и остаётся твёрдым. Одновременно зажимы, которые я зафиксировала на пуповине, немного перемещаются. Пробую их. Да, ещё четыре-шесть дюймов пуповины с лёгкостью выходят. Плацента отделилась.
Прошу, чтобы Мюриэль передала ребёнка матери. Она знает, что я собираюсь сделать. Массирую живот, пока он не становится твёрдым, круглым и подвижным, решительно схватываю его и толкаю вниз и назад в таз. Пока я толкаю, в вульве появляется плацента, и я вынимаю её другой рукой. Сопровождаемые выбросом свежей и запёкшейся крови, выскальзывают мембраны.
Чувствую себя обессиленной, но успокоившейся. Ставлю лоток с плацентой на комод для последующего осмотра и следующие десять минут сижу подле Мюриэль, продолжая массировать живот, чтобы удостовериться, что он остаётся твёрдым и круглым, – это способствует удалению остаточных сгустков крови.
В более поздние годы после рождения ребёнка матерям станут давать стимулирующие препараты, вызывающие немедленные энергичные сокращения, так что плацента извлекается за три-пять минут. Медицина не стоит на месте! Но в 1950-х ничего такого ещё не было.
Остаётся только прибраться. Пока миссис Хокин омывает и переодевает дочь, я исследую плаценту. Кажется, целая, и все мембраны на месте. Затем осматриваю ребёнка – он выглядит здоровым и нормальным. Омываю и одеваю его в смехотворно большие одёжки, размышляя о радости и счастье Мюриэль, её умиротворённом лице. Она выглядит уставшей, думаю я, но без малейших признаков напряжения или переутомления. И так всегда! Должно быть, женщины обладают встроенной системой полного забвения – каким-то гормоном, который выбрасывается в ту часть мозга, что отвечает за память, сразу же после родов, стирая все напоминания о недавней агонии. Будь иначе, ни одна женщина не захотела бы второго ребёнка. Когда всё готово, разрешают войти гордому отцу. В наши дни большинство отцов находятся рядом со своими жёнами во время родов, присутствуют при самом рождении. Но это – недавнее нововведение. На протяжении всей истории, насколько мне известно, подобное было неслыханно. Конечно, в 1950-х все были бы глубоко потрясены такой идеей. Деторождение, как полагали, было сугубо женским делом. Сопротивлялись даже присутствию докторов – сплошь мужчин до конца XIX столетия; они были допущены к родам, только когда акушерство наконец признали разделом медицинской науки.
Джим – маленький мужчина, ему, вероятно, меньше тридцати, но выглядит он примерно на сорок. Он бочком пробирается в комнату, выглядя робким и смущённым. Возможно, моё присутствие делает его косноязычным, хотя сомневаюсь, что он мог когда-либо похвастаться отличным владением языком.
– Всё ничего, девочка? – бормочет он и клюёт Мюриэль поцелуем в щёку.
Он выглядит ещё меньше рядом со своей пышной женой, на добрых пять стоунов[2] превосходящей его по весу. На фоне её вспыхнувшей розовым, недавно омытой кожи он выглядит ещё более серым, худым и сухим. «Результат шестидесятичасовой рабочей недели в доках», – думаю я про себя.
Затем он смотрит на младенца, хмыкает, прочищая горло, – очевидно, подыскивает подходящий эпитет – и говорит:
– Глядь, а он ничего так.
И уходит.
Мне жаль, что я не смогла узнать мужчин Ист-Энда. Но это было совершенно невозможно. Я принадлежала к женскому миру, к запретной теме родов. Мужчины вежливы и почтительны с акушерками, но никогда не заведут с нами знакомства, не говоря уже о дружбе. «Мужская» и «женская» работа строго разделены. Так что, как и Джейн Остин, никогда не описывавшая в своих романах разговора двух мужчин, потому что, как женщина, она не могла знать, на что похожи чисто мужские разговоры, я не многое могу написать о мужчинах Поплара – только поверхностные наблюдения.
Я готова уходить. Это были долгий день и ночь, но глубокое чувство выполненного долга и удовлетворения облегчают мою поступь и возносят сердце. Когда я выхожу из комнаты, Мюриэль и ребёнок спят. Внизу добрые люди опять предлагают мне чая, от которого я снова как можно деликатней отказываюсь, заверяя, что в Ноннатус-Хаусе меня ждёт завтрак. Я велю вызывать нас, если появится любая причина для беспокойства, но заверяю, что вернусь в обед, а потом – вечером.
Я вошла сюда из дождя и тьмы, сгорая от волнения и предвосхищения, преисполненная заботы о женщине, готовой вот-вот дать начало новой жизни. Теперь я оставляю мирно спящий дом с новой душой в самом его центре, устремляясь навстречу утренней заре.
Еду по тёмным пустынным улицам, безмолвным докам, мимо запертых ворот, пустых портов. Солнце только встаёт над рекой, открываются ворота, по улице, окликая друг друга, текут мужчины; начинают гудеть моторы, оживают краны; грузовики въезжают через огромные ворота; гудит прибывающий корабль. Верфь – не слишком милое место, но для молодой девушки, спавшей три часа за двадцатичетырёхчасовой рабочий день, после тихого трепета безопасных родов здорового малыша, нет ничего более упоительного. Я даже не чувствую усталости.
Разводной мост открыт – значит, дорога закрыта. Большое океанское судно медленно и величественно входит в пролив, его нос и трубы – в каких-то дюймах от домов по обе стороны. Я жду, мечтательно наблюдая за лоцманами и штурманами, ведущими его к причалу. Хотелось бы мне знать, как они это делают. Уровень их мастерства запределен, оно постигается годами и передаётся от отца к сыну или от дяди к племяннику. Они – принцы доков, и подёнщики относятся к ним с глубочайшим уважением.
Корабль проходит мост примерно за пятнадцать минут. Есть время подумать. Странно, как сложилась моя жизнь, с самого детства, прерванного войной, странным романом, когда мне было всего шестнадцать, и осознанием три года спустя, что нужно уходить. Так, по чисто прагматическим соображениям, мой выбор пал на профессию медсестры. Сожалею ли я о нём?
Резкий пронизывающий звук выдёргивает меня из задумчивости – мост начинает закрываться. Дорога снова открыта, движение возобновляется. Я прибиваюсь ближе к обочине: грузовики вокруг немного пугают. Огромный мужчина со стальными мышцами стягивает шапку и кричит:
– Добро утро, сестра!
Я кричу в ответ:
– Доброе! Чудесный день, – и качусь дальше, ликуя от своей юности, утреннего воздуха, пьянящего волнения доков, но прежде всего – от бесподобного ощущения, что вручила прекрасного ребёнка довольной маме.
Как я вообще в это ввязалась? Не жалею ли я об этом? Никогда, никогда, никогда. Я бы не променяла свою работу ни на что на свете.
Ноннатус-Хаус
Если бы два года назад кто-нибудь сазал мне, что я отправлюсь в монастырь обучаться акушерству, меня бы как ветром сдуло. Не такой девушкой я была. Женские монастыри подходят святым мариям, скучным и простым. Не мне. Я считала Ноннатус-Хаус маленькой частной больницей, одной из сотен по всей стране.
Я приехала со всеми своими пожитками промозглым октябрьским вечером, имея представление о Лондоне только по Вест-Энду. Автобус от Олдгейта привёз меня в совсем другой Лондон: узкие неосвещённые улочки, следы бомбёжек, грязные серые дома. С трудом обнаружив Лейланд-стрит, я взялась за поиски больницы. Но ее там не оказалось. Возможно, неверно записала адрес?
Я остановила проходившую мимо женщину и спросила про акушерок Святого Раймонда Нонната. Леди поставила авоську и приветливо поглядела на меня; недостающие передние зубы добавляли её лицу сердечности. Металлические бигуди поблёскивали в темноте. Она вытащила изо рта сигарету и сказала что-то вроде:
– Ты хошь ноннатских кошерок, а, дорогуша?
Я уставилась на неё, пытаясь сообразить, что к чему. Никаких «кошек» я не просила.
– Нет. Мне нужны акушерки Святого Раймонда Нонната.
– Агась. Дык я и грю, милашенька. Ноннат. Вона, дорогуша. Тама твои кошерки.
Она ободряюще похлопала меня по руке, указала на какое-то здание, сунула сигарету обратно в рот и поковыляла прочь, хлопая домашними тапочками по мостовой.
Думаю, будет уместно рассказать сбитому с толку читателю о трудностях записи диалекта кокни. Чистый кокни непонятен – или был таковым – постороннему, но постепенно ухо привыкает к причудливому переплетению гласных и согласных, интонациям и идиомам, и через некоторое время вся эта мешанина обретает смысл. Когда я писала о жителях Доклендса, то будто бы вновь слышала их голоса, но вот воспроизвести диалект на письме оказалось ох как непросто!
Но не будем отвлекаться.
Я с сомнением разглядывала здание: грязный красный кирпич, викторианские арки и башенки, железные перила, никакого света, рядом – воронка от попадания бомбы. «Господи, и зачем я приехала? – подумала я. – Это же даже не госпиталь».
Я потянула ручку колокольчика, и изнутри донёсся глубокий звон. Несколько мгновений спустя раздались шаги. Дверь отворила дама в странной одежде – не совсем медсестринской, но и не совсем монашеской. Женщина была высокой, худой и очень-очень старой. Не говоря ни слова, она пристально смотрела на меня почти с минуту, затем наклонилась вперёд и взяла за руку. Осмотрелась по сторонам, втащила меня в коридор и заговорщически зашептала:
– Полюса разошлись, моя дорогая.
От удивления я лишилась дара речи, но, к счастью, она не нуждалась в моём ответе и продолжила, почти задыхаясь от волнения:
– Да-да, Марс и Венера пришли в согласие. Ты, конечно же, знаешь, что это значит?
Я потрясла головой.
– О, моя дорогая, силы хаоса, совмещение жидкого с твёрдым, падение шестигранника, проходящего сквозь эфир. Какое странное время! Так захватывающе. Малютки-ангелы хлопают крылышками.
Она рассмеялась и, хлопнув костлявыми ладонями, невысоко подпрыгнула.
– Но заходи, заходи, моя дорогая. Тебе нужно чая с пирогом. Пирог очень хорош. Любишь пироги?
Я кивнула.
– И я. Пойдём-ка вместе, моя дорогая, расскажешь мне своё мнение о теории, что глубины космоса всегда притягиваются гравитацией к небесным телам.
Повернувшись, она заспешила по каменному коридору, белое покрывало развивалось позади неё. Я сомневалась, стоит ли мне идти за нею, потому что всё больше думала, что определённо ошиблась адресом, но старушка, казалось, ждала, что я не отстану, и всё время говорила, говорила, задавая вопросы, ответов на которые явно не ожидала.
Она вошла в огромную викторианскую кухню с каменным полом, каменной раковиной, деревянной сливной полкой, столами и буфетами. В комнате также стояла старомодная газовая плита с деревянными сушилками для посуды, над раковиной висел большой водонагреватель Аскота, и по стенам тянулись свинцовые трубы. В углу примостилась большая коксовая печь, к потолку бежал дымок.
– Но вернёмся к пирогу, – спохватилась моя спутница. – Миссис Би испекла его этим утром. Я видела это своими собственными глазами. Куда они его поставили? Погляди-ка по сторонам, дорогая.
Ошибиться домом – это одно, а шарить на чужой кухне – совсем другое. Я впервые осмелилась заговорить:
– Это Ноннатус-Хаус?
Пожилая леди вскинула руки в театральном жесте и чётким, звенящим голосом возопила:
– Рождённый не в жизни, но в смерти! Для величия. Рождённый вести и вдохновлять. – Она возвела глаза к потолку, понизив голос до взволнованного шёпота: – Стать святым.
Она сумасшедшая? Я уставилась на женщину в изумлении, а потом переспросила:
– Да, но это Ноннатус-Хаус?
– О, моя дорогая, увидев тебя, я сразу же осознала, что ты из тех, кто понимает. Небеса непрерывны. Молодость даётся даром, колокольчики поют грустное индиго, глубокий вермильон. Давай возьмём от жизни столько, сколько сможем. Ставь чайник, дорогая. Не стой столбом.
Повторять вопрос, казалось, не было смысла, так что я стала наполнять чайник. Едва я отвернула кран, трубы по всей кухне тревожно загремели и затряслись. Старушка что-то искала, открывая буфеты и жестянки, непрерывно болтая о космических лучах и сливающихся эфирах. Внезапно она торжествующе воскликнула:
– Пирог! Вот он! Я знала, что найду его.
Она повернулась ко мне и зашептала с озорным блеском в глазах:
– Думают, от сестры Моники Джоан можно что-то утаить! Им не хватает смекалки, моя дорогая. Работящий или гулящий, смеющийся или отчаявшийся – никто не сокроется, всех выведут на чистую воду. Возьми две тарелки и нож и не слоняйся без дела. Где же чай?
Мы сели за огромный деревянный стол. Я разлила чай, а сестра Моника Джоан отрезала два больших куска пирога. Раскрошив свой на маленькие кусочки, она принялась гонять их по тарелке длинными костлявыми пальцами. Она ела, восторженно бормоча, подмигивая мне каждый раз, когда отправляла в рот очередной кусочек. Пирог был превосходен, и мы вступили в братский заговор, сойдясь во мнении, что ничего не случится, если мы съедим ещё по куску.
– Никто не узнает, моя дорогая. Все подумают, это Фред или тот бедняга, что сидит на пороге и уплетает свои бутерброды.
Она выглянула из окна.
– В небе что-то светится. Как думаешь, это планета взорвалась или высадились пришельцы?
Я была уверена, что это самолёт, но выбрала взорвавшуюся планету, а потом спросила:
– Выпьете ещё чая?
– Вот просто с языка сняла! А как насчёт ещё одного куска пирога? Они не вернутся до семи, знаешь ли.
Женщина продолжала болтать. И я, хотя не могла взять в толк, кто же она, находила её очаровательной. Чем больше я на неё смотрела, тем больше видела хрупкой красоты в высоких скулах, живых глазах, морщинистой, цвета слоновой кости коже и голове, гордо державшейся на тонкой длинной шее. Постоянное движение выразительных рук с длинными пальцами, напоминающее балет в исполнении десяти танцоров, завораживало. Мне казалось, будто я околдована.
Мы без особых усилий доели пирог, согласившись, что пустая жестянка привлечёт куда меньше внимания, чем жалкий кусочек, оставленный на тарелке.
Сестра Моника Джоан озорно подмигнула и усмехнулась:
– Первой заметит эта надоедливая сестра Евангелина. Видела бы ты её, моя дорогая, когда она серчает. О, тягостный груз… Её красное лицо становится ещё краснее, из носа капает. Да-да, по-настоящему капает! Я видела. – Она надменно вскинула голову. – Но что это может означать для меня? Тайна свидетельства сознания в доме в условный час, предназначение и событие одновременно; о, лишь немногие поистине избранные способны приветствовать осуществление этого! Но тихо. Что это? Поторопимся.
Она проворно вскочила, рассеивая крошки по столу, полу и самой себе, схватила жестянку и побежала с ней в кладовую. Затем снова села за стол, напустив на себя преувеличенно невинный вид.
Из коридора донеслись звуки шагов по каменному полу и женские голоса. На кухню, разговаривая о клизмах, запорах и варикозных венах, вошли три монахини. Я пришла к заключению, что, должно быть, вопреки всем сомнениям, попала в правильное место.
Одна из монахинь, остановившись, обратилась ко мне:
– Вы, должно быть, медсестра Ли. Мы вас ждали. Добро пожаловать в Ноннатус-Хаус. Я сестра Джулианна, старшая сестра. Приглашаю вас немного поболтать в моём кабинете после ужина. Вы поели?
Лицо и речь её были столь открыты и честны, а вопрос столь прост, что я не смогла ответить. Пирог плотно залёг на дне желудка. Пробормотав: «Да, спасибо», я украдкой смахнула крошки с юбки.
– Тогда вы извините нас, если мы быстренько перекусим? Обычно мы сами готовим себе ужин, потому как приходим в разное время.
Сёстры засуетились, доставая тарелки, ножи, сыр, булочки и другие мелочи из кладовки и расставляя их по столу. Тут из-за двери раздался крик, и появилась краснолицая монахиня с жестянкой из-под пирога.
– Пропал. Жестянка пуста. Где пирог миссис Би? Она испекла его утром.
Должно быть, это сестра Евангелина. Её лицо становилось всё краснее, пока она зорко глядела по сторонам.
Воцарилось молчание. Три сестры переглядывались. Сестра Моника Джоан – сама невинность – сидела в сторонке, прикрыв глаза. Пирог вытворял в моём желудке что-то невообразимое, и, поняв, что столь тяжкое преступление не может остаться сокрытым, я хрипло прошептала:
– Я съела немножко.
Раскрасневшееся лицо и крупная фигура оборотились к сестре Монике Джоан:
– А эта съела всё остальное. Посмотрите на неё – вся в крошках. Это отвратительно. Ох, какая жадина! Ко всему приложит руку. Пирог предназначался нам всем. Ты… ты…
Сестра Евангелина дрожала от гнева, возвышаясь над сестрой Моникой Джоан, которая сидела с закрытыми глазами совершенно неподвижно и словно бы ничего не слышала. Она выглядела хрупкой и аристократичной. Я не могла вынести этого и снова подала голос:
– Нет, вы ошибаетесь. Сестра Моника Джоан съела только кусочек, а я – всё остальное.
Три монахини в изумлении уставились на меня. Я почувствовала, как заливаюсь краской. Будь я собакой, пойманной на краже воскресного жаркого, то, поджав хвост, заползла бы под стол. Войти в странный дом и умять большую часть пирога без ведома и согласия законных владельцев было проступком, достойным наказания. Я только смогла пробормотать:
– Прошу прощения. Я была голодна. Я больше не буду…
Сестра Евангелина фыркнула и шваркнула жестянку на стол.






