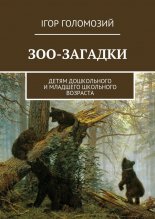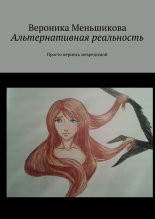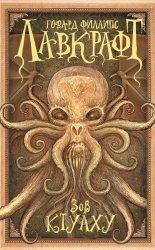Полет сокола Широков Алексей

Длинные зловещие стволы вызвали в памяти страшную ночь на «Гуроне». Робин прикусила губу и зябко передернула плечами.
– Не волнуйтесь, мисс Баллантайн, – шепнул Клинтон, неверно истолковав ее чувства.
Он сбросил китель, под которым также оказалась белая рубашка, и протянул его Робин. Кодрингтон хотел еще что-то сказать, но его прервал голос Зуги:
– Господа, прошу вас подойти.
Клинтон еще раз натянуто улыбнулся и двинулся вперед, оставляя на влажном песке глубокие следы каблуков.
Противники в упор взглянули друг на друга. Лица обоих были непроницаемы.
– Господа, призываю вас решить дело без кровопролития, – произнес Зуга ритуальную фразу. – Капитан Кодрингтон, не хотите ли вы, как вызывающая сторона, принести свои извинения?
Клинтон покачал головой.
– Мистер Сент-Джон, существует ли другой способ избежать кровопролития?
– Думаю, нет, сэр, – протянул Мунго, аккуратно стряхивая с сигары полдюйма серого пепла.
– Ну что ж, – кивнул Зуга и стал объяснять правила: – По команде «Расходитесь!» каждый из вас, господа, должен сделать десять шагов, я буду их отсчитывать вслух. Сразу же после счета «десять» я дам команду «Пли!», после чего вы можете повернуться и сделать выстрел. – Он взглянул на Типпу: за пояс мешковатых штанов помощника был заткнут огромный пистолет. – Оба секунданта вооружены. – Зуга положил руку на рукоятку своего «кольта». – Если кто-либо из дуэлянтов попытается открыть огонь, не дожидаясь команды, он будет застрелен секундантами на месте.
Майор сделал паузу, взглянув по очереди на дуэлянтов.
– Вам все ясно, господа? – Оба кивнули. – Нет ли каких-нибудь вопросов? – Подождав несколько секунд, он продолжил: – Что ж, тогда начнем. Мистер Сент-Джон, ваше право выбрать пистолет.
Мунго отбросил сигару, втоптал ее каблуком в песок и сделал шаг вперед. Типпу протянул ему палисандровую шкатулку, и Сент-Джон, после секундного колебания, выбрал один из двух роскошно инкрустированных пистолетов. Он поднял дуло кверху и свободной рукой взвел курок.
Клинтон взял оставшийся пистолет и взвесил в руке, прицеливаясь в одного из черно-желтых ткачиков, переговаривающихся в тростниковых зарослях.
Робин с облегчением увидела, как уверенно обращается с оружием ее защитник. Теперь она была уверена в исходе дуэли – добро обязательно восторжествует. Едва шевеля губами, она повторяла слова двадцать второго псалма: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной».
– Господа, прошу занять места. – Зуга шагнул в сторону и поманил рукой Робин.
Не переставая молиться, она подошла и встала за его спиной, сбоку от линии огня.
Типпу вытащил из-за кушака неуклюжий пистолет, взвел огромный разукрашенный курок и поднял ствол кверху. Огромное дуло зияло, как пушечное. Зуга также достал «кольт» и молча дожидался, пока дуэлянты встанут спина к спине.
Восходящее солнце залило вершины холмов сверкающим золотом, но лагуна оставалась в тени. Над темной неподвижной водой клубами висели клочья тумана. В тишине раздался резкий крик, серая цапля призраком поднялась из тростника, лениво размахивая крыльями и изгибая по-змеиному шею, чтобы уравновесить длинный клюв.
– Расходитесь! – громко выкрикнул Зуга. Робин испуганно вздрогнула.
Дуэлянты размеренно зашагали прочь друг от друга, вминая каблуками податливый песок в такт счету…
– Пять!
На лице Мунго Сент-Джона играла легкая улыбка, словно он вспомнил что-то смешное. Словно крыло бабочки трепетал шелковый рукав вокруг поднятой руки с пистолетом; тонкий голубоватый ствол смотрел в рассветное небо.
– Шесть!
Клинтон, подавшись вперед, твердо чеканил шаг длинными ногами в белых форменных брюках. Его бледное лицо застыло, как маска, губы сжались в тонкую решительную линию.
– Семь!
Сердце Робин колотилось бешеным крещендо, отдавая болью в ребра. Она едва дышала.
– Восемь!
У Клинтона под мышками, несмотря на утреннюю прохладу, расплывались темные пятна пота.
– Девять!
Робин охватил смертельный страх, вся ее вера растворилась в предчувствии неминуемого несчастья.
– Десять!
Ей хотелось крикнуть, остановить их, броситься между двумя мужчинами. Никто не должен умереть! Пересохшее горло свело, ноги онемели и не слушались.
– Пли! – Голос Зуги дрогнул.
Зрители замерли в напряжении. Мужчины одновременно развернулись на темно-желтом песке, словно танцоры, исполняющие тщательно отрепетированный танец смерти, и выбросили правую руку вперед, левой упираясь в бедро для равновесия. Казалось, это тянутся друг к другу влюбленные, которых ждет расставание. Движения их были изящными и размеренными.
Время застыло на месте. Ветер перестал шелестеть в тростниках, угрюмый лес по ту сторону лагуны замер в неподвижности, ни зверь, ни птица не решались нарушить тишину. Казалось, весь мир затаил дыхание…
Гром грянул, эхо с грохотом покатилось по ущелью, перескакивая с утеса на утес. С резкими криками вспорхнули испуганные птицы. Выстрелы прозвучали почти одновременно. Наведенные стволы выбросили белый пороховой дым, отдача взметнула их кверху.
Оба бойца покачнулись, но устояли на ногах. Робин заметила, что облачко дыма вылетело из пистолета Мунго на мгновение раньше, а затем его темноволосая голова дернулась, словно от пощечины. Он отшатнулся, но устоял на ногах и, не выпуская из рук дымящегося пистолета в руке, посмотрел на противника. Робин перевела дух – Мунго Сент-Джон остался невредим. Ей захотелось подбежать к нему, но вдруг ее радость померкла: темно-красная струйка змеилась из густых волос на виске и стекала по гладко выбритой загорелой щеке на белый шелк рубашки.
Робин прикрыла рот рукой, сдерживая крик, как вдруг, что-то почувствовав, резко повернулась в сторону Клинтона Кодрингтона.
Он тоже стоял прямо, вытянувшись почти по-военному, но начал медленно оседать, согнувшись пополам. Правая рука с пистолетом бессильно повисла, пальцы разжались, и раззолоченное оружие упало на песок. Клинтон прижал руку к груди, будто почтительно кланялся, и упал на колени, словно собирался молиться. Он поднял руку, удивленно всматриваясь в окровавленные пальцы, и рухнул на песок лицом вниз.
Робин наконец сдвинулась с места. Она подбежала к Клинтону и опустилась рядом с ним на колени. Паника придала ей сил, и она перевернула Кодрингтона на спину. Белая рубашка пропиталась кровью вокруг аккуратной круглой дырки на шесть дюймов левее перламутровых пуговиц.
Капитан стоял вполоборота, и пуля вошла в грудь в нижней части легкого. Робин похолодела от отчаяния. Такая рана означала смерть, хоть и медленную, но мучительную и неотвратимую. Врачу оставалось лишь бессильно наблюдать, как жертва захлебывается кровью.
За спиной захрустел песок. Робин обернулась.
В залитой кровью рубашке перед ней стоял Мунго Сент-Джон. К виску он прижимал шелковый платок, пытаясь остановить обильное кровотечение. Пуля скользнула над ухом и содрала длинную полосу кожи.
Взгляд работорговца был мрачен, губы кривились в жесткой холодной гримасе.
– Полагаю, мадам, вы удовлетворены, – произнес он холодно и отчужденно, затем резко повернулся и пошел вверх по белой дюне в сторону моря.
Догнать, объяснить… только что? Долг врача повелевал оставаться здесь, с тяжело раненным. Робин расстегнула рубашку Клинтона, руки ее тряслись. Вязкая кровь медленно сочилась из голубоватого отверстия в бледной плоти. Так мало крови в устье раны – плохой признак, указывающий на внутреннее кровотечение, глубоко в грудной клетке.
– Зуга, саквояж! – отрывисто скомандовала Робин.
Зуга опустился на одно колено рядом с ней.
– Ничего страшного, – пробормотал раненый. – Мне не больно. Только онемело все.
Майор не ответил. В Индии он видел множество огнестрельных ран и знал, что боль не связана с тяжестью ранения. Пуля, попавшая в ладонь или ступню, причиняет невыносимые муки, а сквозное ранение легких вызывает лишь неудобство.
Удивляло лишь одно: почему Мунго Сент-Джон стрелял так небрежно? С двадцати шагов он попал бы противнику между глаз, ошибившись не больше чем на дюйм. Почему же пуля в груди?
Пока Робин промокала рану ватой, майор поднял пистолет, упавший на песок. Ствол был еще теплым, от него исходил острый запах горелого пороха. Зуга осмотрел оружие и сразу понял, в чем дело.
На спусковой скобе из твердой стали голубела свинцовая отметина.
Мунго Сент-Джон и в самом деле целился в голову, но Клинтон поднял пистолет, и пуля, отскочив от него, ушла вниз. Потому и пуля Клинтона прошла так высоко. Он, как менее опытный стрелок, наверняка целился противнику в грудь, но удар пули в момент выстрела подбросил пистолет кверху.
Майор обернулся и протянул пистолет Типпу, который с невозмутимым видом стоял рядом. Тот молча принял оружие и зашагал через дюну вслед за хозяином.
Четверо матросов перенесли Кодрингтона на берег, положив его на кусок брезента, а Сент-Джон поднялся с вельбота на верхнюю палубу «Гурона». Когда на «Черной шутке» подготовили тали, чтобы поднять тело раненого на борт, «Гурон» уже снялся с якоря и, подгоняемый юго-западным бризом, на всех парусах помчался навстречу солнцу, охватившему золотым огнем его силуэт.
В течение следующих суток Клинтон Кодрингтон не переставал удивлять Робин. Она высматривала следы крови на его губах, ждала болезненных стонов и коллапса легкого. Почти ежечасно доктор, склонившись над койкой, стетоскопом прослушивала грудь раненого, пытаясь уловить свистящее дыхание, бульканье крови, сухое трение легкого о грудную клетку, но ничего подобного не замечала.
Для пациента с таким ранением Клинтон был необъяснимо бодр. Он жаловался лишь на онемение под мышкой и слабую подвижность руки, вовсю давая советы по поводу лечения.
– Вы, конечно, пустите мне кровь?
– Нет, – коротко ответила Робин, обмывая кожу вокруг раны.
Она помогла раненому сесть, чтобы сделать перевязку.
– Нужно выпустить по крайней мере пинту, – настаивал Клинтон.
– Вы мало потеряли крови? – с шутливой угрозой спросила доктор, но он остался неустрашим.
– Черную гнилую кровь надо удалять. – Клинтон указал на огромный синяк, расползшийся по его груди, как темный лишайник по гладкому белому стволу дерева. – Вы должны сделать мне кровопускание, иначе начнется лихорадка.
Капитана всю сознательную жизнь пользовали судовые лекари. Он продемонстрировал Робин множество тонких белых шрамов на сгибе локтя – следы их упражнений.
– Мы живем не в Средние века, – язвительно возразила Робин. – Сейчас одна тысяча восемьсот шестидесятый год.
Она укрыла раненого серым корабельным одеялом – по ее расчетам, вот-вот должен был начаться сильный озноб с рвотой. Однако капитану вовсе не становилось хуже, и в последующие двадцать часов он продолжал командовать кораблем с койки, проклиная постельный режим. Робин, однако, понимала, что пистолетная пуля, засевшая в груди, непременно приведет к тяжелым последствиям. К сожалению, метода, который позволил бы точно установить местонахождение инородного тела в организме пострадавшего, пока не изобрели.
В тот вечер Робин забылась сном в веревочном кресле возле койки и проснулась среди ночи лишь однажды, чтобы поднести к губам больного эмалированную кружку с водой, – он жаловался на жару и сухость во рту. Наутро все опасения доктора подтвердились: Клинтон лежал в полубреду, его терзала страшная боль. При малейшем движении он стонал и вскрикивал. Глаза, обведенные синевой, ввалились, язык покрылся толстым белым налетом, губы высохли и потрескались. Капитан отчаянно просил пить; с каждым часом горячка усиливалась, сжигая его тело. Он метался на узкой койке и скидывал одеяла, всхлипывая в беспамятстве. Дыхание с болезненным хрипом вырывалось из опухшей посиневшей груди, глаза лихорадочно блестели. Робин сняла повязку, чтобы обтереть тело раненого холодной водой, и увидела на бинтах лишь немного белой сукровицы, но отвратительный запах, ударивший в ноздри, был до ужаса знаком – зловонное дыхание смерти.
Рана подсохла, ее покрывала корка, но такая тонкая, что лопнула при очередном резком движении Клинтона. Из трещины показалась густая желтоватая масса, запах усилился. Это был не простой гной, обычный у выздоравливающих, а злокачественный, который Робин больше всего боялась увидеть.
Она осторожно промокнула рану, обтерла холодной морской водой грудь и горячую опухшую подмышку больного. Синяк разошелся в стороны и изменил цвет, став темно-синим, как грозовая туча, с оттенком серо-желтого и ядовито-розового – такие цветы, наверное, растут в самой преисподней.
Под лопаткой оказалось самое болезненное место. Стоило Робин дотронуться, как раненый вскрикнул, и мелкие капли пота выступили у него на лбу и на щеках, среди тонкой золотистой щетины.
Робин сменила повязку и влила в пересохшие губы ложку теплой каломели, в которую добавила четыре грамма опийной настойки. Вскоре Клинтон погрузился в беспокойный сон.
– Еще сутки, и все, – прошептала доктор, глядя, как Клинтон мечется и что-то бормочет. Такая знакомая картина! Вскоре гной, образуясь в груди вокруг пули, распространится по всему телу. Робин была бессильна. Ни одному хирургу пока не удавалось проникнуть в грудную клетку.
Пригнувшись в дверях, в каюту вошел Зуга, остановился за спиной сестры и ласково тронул за плечо.
– Ему лучше? – тихонько спросил он.
Робин покачала головой. Зуга кивнул, словно ждал такого ответа.
– Тебе нужно поесть. – Он протянул ей миску. – Гороховый суп с беконом, очень вкусно.
Она и не заметила, что сильно проголодалась, и с охотой принялась за еду, обмакивая в похлебку корабельный сухарь. Зуга тихо продолжал:
– Я заложил в заряд как можно меньше пороха. – Он с досадой покачал головой. – К тому же пуля Мунго ударилась о спусковую скобу и должна была потерять большую часть скорости. Однако же…
Робин подняла глаза от миски:
– Пуля отскочила? Ты мне не говорил.
Зуга пожал плечами:
– Теперь это не важно. Но она отклонилась.
После его ухода Робин минут десять сидела неподвижно, потом решительно подошла к койке, откинула одеяло, развязала повязку и снова осмотрела рану.
Она очень осторожно проверила ребра под раной, надавливая большим пальцем и прислушиваясь. Похоже, все ребра целы… однако пуля могла пройти между ними. Робин осторожно нажала на опухоль – больной слабо дернулся. На этот раз почувствовался еле слышный скрежет: возможно, ребро задето или даже расщеплено в длину.
Дрожа от волнения, она продолжила осмотр, медленно продвигаясь к спине и прислушиваясь к стонам спящего. Когда дело дошло до области под лопаткой, Клинтон с диким криком подскочил на койке, лицо его покрылось потом. Однако Робин удалось ощутить под пальцем что-то твердое, но не кость и не напряженную мышцу.
У Робин заколотилось сердце. Клинтон стоял вполоборота к Мунго, и пуля могла пройти совсем по-другому. Вполне возможно, ей не хватило силы, чтобы проникнуть в грудную клетку, и она, отразившись от кости, прошла под кожей вдоль ребер и застряла в толще спинных мышц, между широчайшей latissimus dorsi и большой круглой tenes major.
Доктор отошла от койки. Возможно, она и ошибается, но тогда Клинтон все равно умрет, и очень скоро…
– Попробую! – решила она. Через световой люк в каюте светило солнце, хорошего дневного света оставалось еще на час или два. – Зуга! – позвала Робин, открыв дверь. – Зуга! Иди сюда, скорее!
Прежде чем переносить больного, Робин дала ему еще пять граммов опия. Больше давать было нельзя, в предшествующие тридцать шесть часов он уже принял пятнадцать граммов. Дневной свет угасал, но пришлось подождать, пока лекарство начнет действовать. Лейтенант Денхэм получил приказ убавить паруса, сбросить обороты винта и вести корабль как можно тише.
Зуга выбрал из команды двоих помощников: седого крепыша боцмана и стюарда из кают-компании, показавшегося Робин достаточно спокойным и сдержанным. Втроем они приподняли раненого и перевернули на бок. Стюард расстелил на койке чистую белую парусину, чтобы собирать стекающую кровь, а Зуга быстро связал веревкой запястья и лодыжки Клинтона. Он предпочел мягкую веревку из хлопка, так как грубая пенька могла повредить кожу, и завязал ее специальным морским узлом, который не ослабевает при натяжении. Боцман помог ему закрепить концы веревки на раме койки. Почти обнаженное растянутое тело больного напомнило Робин картину в кабинете дяди Уильяма в Кингс-Линне, на которой римские легионеры привязывали Иисуса к кресту перед тем, как вбить гвозди. Она раздраженно встряхнула головой, отгоняя воспоминание, и сосредоточилась на предстоящей задаче.
– Вымой руки! – велела она Зуге, указывая на ведро с горячей водой и желтый щелок, выданный стюардом.
– Зачем?
– Вымой! – повторила она; сейчас было не до объяснений. Ее руки уже порозовели от горячей воды и чесались от грубого мыла. Салфеткой, смоченной в кружке с крепким корабельным ромом, она протерла инструменты и разложила их на полке над койкой. Затем той же салфеткой протерла пышущую жаром бледную кожу раненого под лопаткой. Он дернулся, пытаясь высвободиться, и невнятно запротестовал. Робин кивнула боцману.
Тот слегка запрокинул голову капитана и всунул между зубами туго свернутый кусок фетра, из которого делались пыжи для пушек.
– Зуга!
Брат крепко взял Клинтона за плечи, не давая перевернуться на живот.
– Хорошо.
Робин взяла с полки острый как бритва скальпель и стала пальцем нащупывать место, где обнаружила твердое инородное тело.
Клинтон выгнулся дугой, испустив отчаянный крик, приглушенный фетром, но на этот раз Робин ясно ощутила посторонний предмет в опухшей плоти.
Ловко и решительно действуя скальпелем, она сделала первый разрез вдоль мышечных волокон, а затем, рассекая ткани слой за слоем и рукояткой скальпеля раздвигая синеватые пленки, стала продвигаться вглубь, туда, где ощущался твердый комок.
Клинтон бился и корчился, натягивая веревку, из груди рвался хрип, губы покрылись белой пеной, на челюстях, сжимавших толстый фетр, вздулись желваки. Его отчаянные рывки сильно мешали Робин, ее окровавленные пальцы скользили в горячей плоти, но ей удалось нащупать боковую грудную артерию, похожую на резиновую пульсирующую змею, и осторожно обойти. Более мелкие сосуды она пережимала щипцами и перевязывала кетгутом, разрываясь между необходимостью действовать быстрее и опасением усугубить положение. Она на мгновение остановилась и кончиком указательного пальца нащупала твердый комок.
По лицу Робин стекал пот. Мужчины, которые держали Кодрингтона, напряженно наблюдали за ее работой.
Она ввела скальпель в открытую рану и сделала надрез. Из-под пальцев выплеснулся желтый фонтан, крошечную жаркую каюту заполнил тошнотворный запах разложения. Выброс гноя длился всего секунду, потом в ране показался какой-то черный предмет, пропитанный кровью. Робин вытащила его пинцетом, следом выплеснулась еще одна волна темно-желтой жидкости.
Робин испытала прилив облегчения – она оказалась права. Пуля загнала кусок войлока глубоко в мышечную ткань. Доктор поспешно продолжила работу, глубоко проникая пальцем в пулевой ход.
– Вот она!
С момента первого надреза Робин впервые нарушила молчание. Свинцовый шарик был тяжелым и скользким, его никак не удавалось вытащить. Пришлось сделать еще один надрез, и лишь тогда она наложила на него костяной пинцет. Ткани, словно не желая расставаться с пулей, глухо чмокнули. Шарик тяжело стукнулся о деревянную полку. Робин еще некоторое время тщательно зондировала рану, подавив желание немедленно зашить и перевязать ее. Усилия доктора были вознаграждены – там оказался еще один гниющий кусок материи.
– Клочок рубашки. – Робин продемонстрировала белые обрывки, пропитанные гноем, и лицо Зуги исказилось от отвращения. – Теперь можно заканчивать, – удовлетворенно произнесла она и принялась зашивать рану.
Для оттока последнего гноя Робин оставила в ране торчащий катетер и закрепила его стежками. Наконец она выпрямилась, весьма довольная своей работой. В больнице Сент-Мэтью никто не умел так ровно и аккуратно накладывать швы, даже старшие хирурги.
Клинтон лежал без сознания, его тело блестело от пота, веревки содрали кожу с запястий и щиколоток.
– Развяжите его, – тихо сказала Робин. Ее охватила гордость, словно теперь, вытащив больного из лап смерти, она получила его в собственность, словно он был ее личным творением. Гордыня – чувство греховное, но гордиться было так приятно, а в нынешних обстоятельствах она вполне заслужила удовольствие слегка согрешить.
Выздоровление Клинтона было почти чудесным. На следующее утро он полностью пришел в себя. Лихорадка утихла, оставив его бледным и слабым, однако сил вполне хватило на ожесточенный спор, когда Робин велела вынести его на солнце и укрыть от ветра за парусиновой ширмой на корме.
– Всем известно, что холодный воздух вреден для огнестрельных ран!
– Да, конечно, надо было пустить вам кровь, а потом запереть в тесной адской дыре, которую вы называете каютой, – парировала Робин.
– Флотский хирург так бы и сделал, – пробормотал он.
– Тогда благодарите Создателя, что я не флотский хирург.
На следующий день капитан садился без посторонней помощи и ел с аппетитом, а на третий, сидя на носилках, командовал кораблем. На четвертый день Клинтон поднялся на ют и, хотя рука висела на перевязи, а лицо после лихорадки побледнело и осунулось, простоял на ногах целый час, прежде чем опустился отдохнуть в сидячий гамак, который плотник приладил к планширу. В тот день Робин удалила из раны катетер, с облегчением обнаружив лишь немного гноя, причем не злокачественного.
Впереди по курсу показался городок Порт-Наталь. Незамысловатые домики, словно цыплята под крылом курицы, сбились в кучку у подножия горбатой горы, похожей на спину кита, которую здесь называли просто Утесом. «Черная шутка» не зашла в этот порт, хоть он и был самым дальним аванпостом Британской империи на побережье, и продолжала упорно продвигаться на север. С каждым днем становилось заметно теплее, полуденное солнце поднималось все выше. Океанские волны за бортом приобретали лазурный оттенок, характерный для тропических вод, а перед носом корабля проносились летучие рыбы с тонкими серебристыми крыльями.
Вечером накануне прибытия в португальское поселение Лоренсу-Маркиш на берегу глубокой бухты Делагоа Робин сделала Клинтону очередную перевязку. Она радостно ворковала над ним, донельзя довольная тем, как заживают швы.
Когда она надела на него рубашку и застегивала ее, словно кутала ребенка, Кодрингтон торжественно произнес:
– Я знаю, вы спасли мне жизнь.
– Хотя вы и не одобряете моих методов? – усмехнулась Робин.
– Простите мне мою дерзость. – Он опустил глаза. – Вы показали себя блестящим врачом.
Робин принялась скромно отнекиваться, но Клинтон настаивал:
– Нет, я в самом деле так считаю. У вас настоящий дар.
Она не стала больше возражать и подвинулась ближе, чтобы капитану было удобнее обнять ее здоровой рукой, но последние слова, видимо, исчерпали всю его храбрость.
В тот вечер она дала выход своему разочарованию, отметив в дневнике, что «капитан Кодрингтон, несомненно, человек, которому женщина может доверять при любых обстоятельствах, однако чуть больше смелости сделало бы его куда привлекательнее».
Она уже собиралась запереть дневник в сундук, когда в голову пришла другая мысль. Робин быстро перелистала назад страницы, исписанные мелким ровным почерком, и нашла место, ставшее поворотным пунктом в ее жизни. За день до того, как «Гурон» прибыл в Кейптаун, запись отсутствовала, в дневнике остался чистый лист. Робин задумалась. Какими словами описать то, что произошло? Каждый миг той ночи навеки врезался в память. Она долго вглядывалась в пустой лист, потом что-то подсчитала в уме, вычитая одну дату из другой. Получив ответ, она ощутила холодок дурного предчувствия. Подсчитала еще раз… и получила тот же ответ.
Робин медленно закрыла дневник и невидящим взглядом уставилась в огонь фонаря.
Месячный цикл запаздывал почти на неделю. Робин обуял ужас, и она прикоснулась к животу, словно там можно было что-то нащупать, как пистолетную пулю в теле Клинтона.
Лоренсу-Маркиш был печально известен своей лихорадкой, однако Кодрингтон решил зайти туда, чтобы пополнить запасы угля. Болота и мангровые заросли, полукольцом окружавшие город с юга, отравляли территорию порта ядовитыми испарениями.
Робин редко имела дело со африканскими тропическими болезнями, и заранее проштудировала все, что было опубликовано на эту тему, в основном ее отцом.
Фуллер Баллантайн написал длинную статью для Британского медицинского общества, в которой выделил три вида малярии с фиксированным циклом: непрерывная с ежедневными приступами, трехдневная и четырехдневная, и четвертый вид – черная рвота, или желтая лихорадка. Он доказал, что ни одна из них не передается от человека к человеку – доказал, как всегда, в своем неподражаемом стиле. Собрав группу скептически настроенных врачей в военном госпитале в Альгоа, Баллантайн набрал кружку свежих рвотных масс больного желтой лихорадкой и залпом выпил. Свидетели отчаянного поступка со жгучим нетерпением ждали кончины безумца и с трудом скрыли разочарование, когда у него не проявилось никаких болезненных симптомов. Через неделю ученый преспокойно отправился путешествовать по Африке. Этот эпизод, как и многие другие, вошел в легенды. Такие, как Фуллер Баллантайн, чаще вызывают восхищение, чем любовь.
В своих книгах отец Робин утверждал, что лихорадкой можно заразиться лишь при вдыхании ночного воздуха в тропической местности, особенно вблизи болот и других обширных водоемов со стоячей водой. Некоторые люди, впрочем, от природы устойчивы к болезни, и эта невосприимчивость, возможно, передается по наследству. Баллантайн приводил в пример африканские племена, живущие в малярийных зонах, а также свою семью и родственников жены, которые проработали в Африке шестьдесят лет и почти не болели.
Он утверждал также, что выжившие приобретали частичный иммунитет, а умирали в большинстве своем только что приехавшие. В 1832-м некий Натаниэль Айзекс вышел из Порт-Наталя с отрядом из двадцати человек. Недавно прибывшие в Африку белые направлялись охотиться на гиппопотамов в болотистом устье реки Сент-Люсии. В течение четырех недель девятнадцать человек умерли, а сам Айзекс и еще один оставшийся в живых охотник оправились от болезни лишь через год.
Баллантайн доказывал, что таких потерь можно избежать. Профилактическое и лечебное средство известно уже сотни лет под разными названиями: перуанская кора, кора чингоны, а в новое время – хинный экстракт, как назвали его братья-квакеры Люк и Джон Говарды, изготовившие это лекарство в виде порошка. Принимаемое внутрь по пять гран в день, оно надежно предохраняет от недуга, а если впоследствии заражение и происходит, то лихорадка выражается в легкой форме, не более опасной, чем обычная простуда, и быстро излечивается дозой в двадцать пять гран хинина.
Конечно же, выдвигались и обвинения в том, что Фуллер Баллантайн, стремясь осуществить свои грандиозные замыслы, нарочно преуменьшал опасность болезни. Исследователь мечтал об Африке, заселенной британскими колонистами, несущими на дикий континент истинную веру и все блага просвещения и цивилизации. Злосчастная экспедиция на Замбези имела целью осуществление этой мечты: великая река должна была служить прямым широким путем к высоким плоскогорьям со здоровым климатом во внутренней части страны, где и будут селиться англичане, изгоняя работорговцев, склоняя к миру и порядку воинственные племена, возделывая нетронутые земли. Однако благородные стремления ученого погибли на непроходимых порогах и стремнинах ущелья Кабора-Басса.
Ощущая себя в какой-то степени предательницей, Робин вынуждена была признать, что в нападках на отца, возможно, содержалась доля правды. В детстве она наблюдала приступ малярийной лихорадки, прихватившей отца в середине английской зимы. Это было совсем не похоже на обычную простуду. Как бы то ни было, никто из медиков не подвергал сомнению авторитет Фуллера Баллантайна как одного из ведущих мировых авторитетов в области диагностики и лечения тропической лихорадки. Робин, свято выполняя его рекомендации, прописала ежедневную дозу в пять гран хинина себе, Зуге, а также, невзирая на протесты, и капитану Кодрингтону. С готтентотскими мушкетерами, однако, у нее ничего не вышло. После первой же дозы Ян Черут зашатался, схватился за горло и, закатив глаза, стал клясться всеми готтентотскими богами, что его отравили. Сержанта спасла лишь стопка корабельного рома, однако после этого ни один из готтентотов не желал притрагиваться к белому порошку даже в обмен на выпивку. Робин оставалось лишь надеяться, что они уже обладают иммунитетом, о котором говорил отец.
Запаса хинина должно было хватить до конца экспедиции, года на два, и Робин не стала навязывать его матросам, успокаивая свою совесть тем, что команде не придется проводить ночи на берегу и подвергаться воздействию малярийных испарений. Она убедила Клинтона Кодрингтона бросить якорь на дальнем рейде, где морской бриз освежал воздух и куда не долетали тучи москитов и других насекомых.
Ночью с берега донеслись звуки музыки, пьяный смех и визг женщин. Огни портовых кабачков и борделей были так же неотразимы для готтентотских воинов, как свеча для мотылька. Вес и тепло припрятанного золотого соверена – щедрого аванса, выданного майором каждому, – делали соблазн еще невыносимее.
Незадолго до полуночи Зугу разбудил сержант Черут с искаженным от ярости лицом.
– Они ушли!
– Кто? – поморщился Зуга спросонья.
– Они плавают, как крысы! – бушевал Черут. – Все ушли пьянствовать и шляться по бабам. – Мысль об этом была для него нестерпимой. – Их надо вернуть, иначе они пропьют последние мозги и подцепят дурную болезнь!
К ярости сержанта явно примешивалась зависть. Едва они с майором оказались на берегу, в глазах готтентота вспыхнуло безумие. Безошибочный инстинкт вел Черута в портовые притоны самого низкого пошиба.
– Входите вы, хозяин, – сказал он Зуге. – Я подожду у черного хода.
Со зловещей ухмылкой готтентот взвесил в руке короткую крепкую дубинку.
Табачный дым и алкогольные пары стояли стеной. Четверо дезертиров заметили майора, едва он появился в желтом свете фонаря, и кинулись к выходу, переворачивая столы. Сбившись в кучу у задней двери, они гурьбой вывалились в ночную тьму.
Зуге потребовалось немало времени, чтобы пробиться сквозь толпу. Женщины самых разных оттенков – от золотистого до угольно-черного – протягивали руки, бесстыдно щипая его за интимные места, мужчины нарочно преграждали дорогу, и лишь когда майор выхватил из-за пояса «кольт», угрюмо расступились. За дверью черного хода стоял сержант, рядом в пыли и грязи лежали в ряд четверо готтентотов.
– Ты их не убил? – встревожился Зуга.
– Nee wat! Их головы – сплошная кость. – Черут сунул дубинку за пояс и нагнулся, чтобы поднять первого.
Сила его была невероятна для такого маленького роста. По одному, закинув за плечо, словно соломенные матрацы, он перенес бесчувственных воинов на берег и свалил в поджидавший вельбот.
– Теперь поищем остальных.
Они выследили всех, поодиночке или парами, выловили их в игорных притонах и кабаках, а последнего, девятого, вытащили из объятий огромной голой сомалийки в глинобитной лачуге, крытой рифленым железом, на самом краю порта.
На рассвете Зуга устало выбрался из вельбота на палубу «Черной шутки» и пинками загнал девятерых готтентотов в носовой кубрик. Озлобленный, с покрасневшими глазами и ломотой в теле, майор направился было к себе в каюту, как вдруг понял, что давно не слышал громкого голоса и язвительных шуток старого сержанта. На обратном пути Яна Черута в шлюпке не было.
В самом решительном настроении Зуга переправился на берег и по утопающим в грязи узким переулкам побрел к глинобитной хижине под железной крышей. Тела ее обитательницы хватило бы на четырех Янов Черутов: настоящая гора черной плоти, блестящая от масла, – каждое из широко расставленных бедер толще мужской талии, груди величиной с голову. Маленький сержант зарылся между ними, словно решил утонуть в этих жарких изобильных телесах, поглощавших его экстатические крики.
Женщина нежно смотрела на него сверху вниз, со снисходительной улыбкой разглядывая мужские ягодицы. Тощие, бледно-желтые, они двигались туда-сюда с невероятной скоростью, заставляя колыхаться пышную плоть великанши и распространяя волны возбуждения от слоновьих бедер и висячих складок живота вверх к гигантским грушеобразным грудям.
На обратном пути маленькая фигурка сержанта, скорчившаяся на носу вельбота, внушала жалость. Печаль и упадок сил после успешной случки усугублялись головной болью и звоном в ушах. Только у англичан есть обычай неожиданно сжимать кулак и бить им сильнее дубинки или брошенного камня. Уважение Яна Черута к новому хозяину росло день ото дня.
– Ты должен быть примером для солдат! – рычал Зуга, втаскивая его по трапу за шиворот.
– Знаю, хозяин, – горестно согласился маленький сержант. – Просто я влюбился.
– И до сих пор влюблен? – угрюмо поинтересовался Зуга.
– Нет, хозяин, любовь со мной надолго не задерживается, – поспешно заверил Черут.
– У меня есть средства, – серьезно произнес Клинтон Кодрингтон. – Еще будучи гардемарином, я всегда откладывал часть жалованья, а в последние годы мне везло с призовыми деньгами. Вместе с наследством, полученным от матери, это позволит мне достойно содержать жену.
Они присутствовали на званом обеде в резиденции португальского губернатора, и знаменитое «Винью верде», молодое вино, сопровождавшее трапезу из сочных даров моря и безвкусной жилистой говядины, придало Клинтону храбрости. Он предложил Робин перед возвращением на корабль осмотреть столицу португальских владений на восточном побережье африканского континента. Изрядно потертый экипаж губернатора громыхал по разбитым дорогам, покрытым помоями, льющимися из переполненных сточных канав. Следом увязалась шумная стайка оборванных детишек: они бежали, пританцовывая, стараясь угнаться за костлявым мулом, тащившим экипаж, и протягивали за милостыней грязные ручонки с розовыми ладонями. Солнце жгло невыносимо, но еще невыносимее была вонь.
В конце пути Кодрингтон с облегчением помог Робин выйти из коляски, бросил в грязь пригоршню медных монет, чтобы отвлечь попрошаек, и поспешно укрылся со своей спутницей в прохладном сумраке католического собора. Это было самое величественное здание в городе – стройные башни и шпили торжественно возвышались над окружающим скоплением лачуг.
Впрочем, и здесь Робин оказалось непросто сосредоточиться на признаниях Клинтона. Вокруг пестрели всевозможные папистские атрибуты: грубо размалеванные идолы, святые и непорочные девы, аляповатые краски, пышная позолота. Всепроникающий запах ладана и мерцание множества свечей отвлекали, хотя капитан говорил как раз то, что ей хотелось.
В то утро у нее случился внезапный приступ рвоты, и легкая тошнота давала о себе знать даже теперь. Как врач, Робин хорошо понимала, что это значит, и, готовясь к визиту в замшелый губернаторский дворец, решила, что пора брать инициативу в свои руки. Время поджимало.
Когда Зуга еще жил у дяди Уильяма в Кингс-Линне, она как-то нашла на письменном столе среди военных трактатов дешевый бульварный роман весьма сомнительного содержания. Украдкой пролистав его, Робин узнала, что женщины часто соблазняют мужчин, и наоборот. К сожалению, автор не дал подробного описания самого процесса. Она не была уверена, можно ли делать это в экипаже и нужно ли по ходу дела что-нибудь говорить, но Клинтон решительным объяснением избавил ее от необходимости экспериментировать. Однако радость была несколько омрачена, поскольку перспектива соблазнения успела приобрести немалую привлекательность.
Кодрингтон заговорил снова, и Робин с внимательным выражением на лице приготовилась подбадривать кавалера кивком или жестом.
– Хоть я и не имею влиятельных друзей, мой послужной список позволяет надеяться, что жалованье останется высоким. Пускай это прозвучит нескромно, однако я уверен, что к пятидесяти годам, а то и раньше, подниму над своим кораблем вымпел командующего эскадрой.
Так похоже на него: строить планы на двадцать пять лет вперед. Робин с трудом подавила раздражение – она предпочитала жить настоящим или по крайней мере ближайшим обозримым будущим.
– Хочу отметить, что супруга адмирала занимает высокое общественное положение, – самодовольно продолжал Кодрингтон.
Раздражение в душе Робин разгоралось сильнее. Она сама стремилась завоевать положение в обществе – как борец с работорговлей, специалист по тропической медицине, знаменитый автор книг об Африке!
Не сдержавшись, она заметила мягко и кротко:
– Женщина может и сама делать карьеру, не только быть женой.
Клинтон чопорно выпрямился.
– Место жены – дома, – заученно произнес он.
Робин хотела было возразить, но удержалась. В ее положении лучше не спорить.
Клинтон продолжал, ободренный ее молчанием:
– Для начала обзаведемся маленьким уютным домиком – в Портсмуте, рядом с гаванью. Конечно, когда появятся дети, подыщем более подходящее жилище…
– Вы хотите детей? – все так же кротко спросила она, но щеки ее вспыхнули.
– О да, конечно. По одному в год.
Робин вспомнила свою работу в кварталах бедноты и бледных неряшливых женщин в окружении бесчисленного потомства: на руках, у ног и следующий непременно на подходе. Она невольно содрогнулась.
– Вам холодно? – забеспокоился Клинтон.
– Нет-нет, пожалуйста, продолжайте.
Робин почувствовала себя в ловушке и уже в который раз прокляла жалкую роль, навязываемую обществом женскому полу.
– Мисс Баллантайн… доктор Баллантайн… я вот что хочу сказать… вы окажете мне великую честь, если согласитесь стать моей женой.
Теперь, когда главные слова были наконец произнесены, она вдруг почувствовала растерянность и смутилась вполне искренне.
– Капитан Кодрингтон, это так неожиданно…
– Не вижу причин. Мое восхищение вами очевидно, а в тот день вы дали мне надежду… – Он запнулся, потом торопливо закончил: – Вы даже позволили вас обнять!
Робин с трудом сдержала смех – знал бы он, какие планы она строит! – и спросила торжественно, под стать Клинтону:
– Когда же вы планируете свадьбу?
– Ну, по возвращении в…
– На Занзибаре есть британский консул, – поспешно заметила Робин. – Вы ведь направляетесь туда, правда? Он может совершить церемонию.
Лицо капитана расплылось в счастливой улыбке.
– О, мисс Баллантайн, значит… могу ли я…
Он шагнул к ней, и перед внутренним взором Робин как наяву вспыхнула картина: крошечный домик в Портсмуте, битком набитый маленькими светловолосыми копиями Кодрингтона. Она отшатнулась.
– Мне нужно подумать.