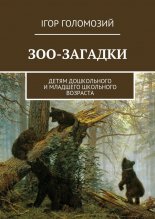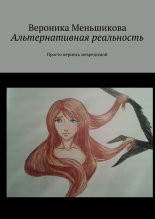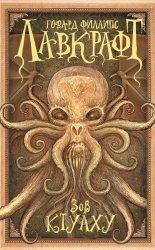Полет сокола Широков Алексей

Капитан остановился, лицо его помрачнело.
– Разумеется, – выдавил он.
– Речь идет о перемене всей моей жизни, крушении планов. Экспедиция… Это трудное решение.
– Я готов ждать год, даже больше! – воскликнул Клинтон. – До конца экспедиции, сколько угодно!
У Робин что-то екнуло внутри.
– О нет, мне нужно всего несколько дней. – Она взяла его за руку. – Я дам ответ до прибытия в Келимане, обещаю.
Шейх Юсуф тревожился. Уже девятый день большая дхоу стояла вблизи берега, ее косой треугольный парус на длинной рее безжизненно обвис. Море за бортом было бархатисто-гладким, а долгими безлунными и безветренными ночами пылало фосфорическим пламенем. Ни малейшая рябь не тревожила поверхности воды. Корабль стоял без движения, словно вкопанный в землю.
Шейх владел целым флотом торговых судов, и за сорок лет избороздил весь Индийский океан. Он знал назубок каждый остров, каждый мыс и все особенности прилива на любом побережье, изучил пути великих течений, как кучер почтовой кареты – все повороты и рытвины на дороге между станциями. Юсуф мог обходиться без компаса и секстанта и, ориентируясь лишь по небесным светилам, преодолевал тысячи миль в открытом океане, чтобы достичь великого Африканского Рога или побережья Индии, а потом вернуться на остров Занзибар. За все сорок лет он не припоминал случая, чтобы в это время года муссон прекратился на восемь дней подряд. Этот ветер всегда дул с юго-востока – ежедневно, еженощно, час за часом.
С таким расчетом шейх и взял груз, собираясь разгрузиться на Занзибаре не позже чем через шесть дней. Само собой, потери неизбежны, но все было учтено. Самое меньшее десять процентов, а чаще двадцать, тридцать – приемлемо, сорок – возможно, но даже при потере половины груза плавание приносило прибыль.
Но теперь… Юсуф поднял глаза к верхушке мачты, откуда неподвижно свисал пятнадцатифутовый алый стяг занзибарского султана, возлюбленного Аллахом, правителя Омана и обширных земель в Восточной Африке. Флаг полинял и пропитался пылью, как и парус, пройдя вместе с ним уже полсотни таких рейсов. Позади были штили и ураганы, палящее солнце и тропические ливни. Золотая арабская вязь на алом полотнище едва читалась. Шейх давно потерял счет, сколько раз знамя снимали с мачты и несли во главе вооруженной колонны в глубь земли, припавшей к горизонту, сколько раз длинный стяг змеился на ветру, когда корабль проходил под стенами крепости Занзибара…
Шейх с усилием согнал дремоту. Старость берет свое. Он приподнялся на груде подушек и дорогих ковров, расшитых шелком и золотом, и посмотрел вниз. Матросы валялись как мертвецы в тени паруса, обмотав головы грязными бурнусами, спасаясь от жары. «Пусть лежат, – подумал он, – смертным остается только ждать. Все в руках всевышнего».
– Нет Бога, кроме Аллаха, – пробормотал Юсуф, – и Магомет пророк его.
Что толку спорить с судьбой? Что толку бранить ее или молиться? На все воля Аллаха. Аллах велик.
И все же… Такой выгодный груз попался впервые за тридцать лет, и так дешево! Триста тридцать черных жемчужин, идеально сложенных… И молодых, ни одной старше шестнадцати лет, Аллах свидетель! Все из неведомого народа, живущего где-то далеко на юге, где Юсуф никогда не бывал. Лишь в этом году он услышал о новом источнике черного жемчуга за Дьявольскими горами, откуда еще никто не возвращался.
Новые люди – совсем не то, что худосочный народец Озерного края. Самый выгодный товар: стройные, высокие и сильные, лица круглые, как полная луна, зубы белые и крепкие…
Шейх Юсуф клюнул носом, склонившись над кальяном. Вода в чаше тихо булькала, дым медленно поднимался кверху, белая борода в уголках рта окрасилась желтым. С каждой затяжкой шейх ощущал, как восхитительное забытье наполняет дряхлое тело, смягчая холод старости, все больше остужающий кровь.
Уши резанул пронзительный вопль, перекрывая тихий гул, который обволакивал дхоу, день и ночь поднимаясь из невольничьего трюма. Юсуф вынул изо рта мундштук, запустил пальцы в спутанную белую бороду и наклонил голову, прислушиваясь. Вопль не повторился. Возможно, это был последний крик одной из его прекрасных черных жемчужин.
Шейх вздохнул. С каждым днем штиля гул из-под палубы доносился все тише. Его громкость позволяла с хорошей точностью прикинуть потери: утрачена половина, не меньше. Еще четверть погибнет в пути на Занзибар, многие умрут и после высадки. Рынок примет лишь самых крепких, да и тех придется долго лечить.
Другим показателем потерь, хотя и не столь точным, был запах. Кое-кто умер в самый первый день, а жара стояла невыносимая, даже здесь, на палубе. Трупы в трюмах, вероятно, уже раздулись вдвое. Такой вони шейх не мог припомнить за все сорок лет. Жаль, что никак нельзя убрать тела, это можно будет сделать только в порту.
Шейх Юсуф торговал исключительно молодыми женщинами. Они меньше ростом и гораздо выносливее, чем мужчины того же возраста, их можно загружать плотнее. К тому же удалось уменьшить межпалубное расстояние на шесть дюймов, что позволило уместить лишнюю палубу.
Женщины способны дольше мужчин обходиться без воды – они накапливают жир на бедрах, ягодицах и груди, а затем, подобно верблюду в пустыне, расходуют запасы. Это важно, потому что переход через Мозамбикский пролив даже при самом благоприятном ветре и приливе занимает не меньше пяти дней. Мужчин, предназначенных для продажи в Китай и на Дальний Восток, трудно было сохранить и по другой причине: китайцы покупали только кастрированных рабов, справедливо опасаясь кровосмешения с местным населением, а необходимая опасная для жизни операция приводила к дополнительным расходам. Вдобавок на занзибарском рынке молодые женщины стоили почти в два раза больше, чем мужчины.
Прежде чем погрузить рабов, шейх Юсуф всегда выдерживал их по меньшей мере неделю в бараках, позволяя набивать брюхо сколько влезет, потом раздевал догола, оставляя лишь легкие цепи, и с отливом переправлял на дхоу, ожидавшую на мелководье.
Женщин укладывали на голые доски трюма на левый бок с согнутыми коленями, причем каждая животом упиралась в спину своей товарки – вплотную, как ложки в буфете. Через определенные промежутки общая цепь пристегивалась к кольцам в палубе – в том числе и для того, чтобы в бурную погоду тела не перекатывались из стороны в сторону, не сбивались в кучи и не давили друг друга.
Покрыв дно трюма слоем человеческих тел, сверху устанавливали следующую палубу, совсем близко, чтобы нельзя было сесть или перевернуться. На нее укладывали еще слой и так далее. Чтобы добраться до самых нижних палуб, приходилось убирать слой за слоем, а затем снимать промежуточные палубы. Нечего было и пытаться проделать это в море. Впрочем, при устойчивом ветре, когда корабль шел быстро, трюм достаточно проветривался с помощью заборных колпаков из парусины, и жара под палубами становилась переносимой.
Шейх Юсуф вздохнул и поднял старческие слезящиеся глаза к неподвижной голубой линии восточного горизонта.
– Это мой последний рейс, – прошептал он. – Аллах благоволил ко мне, я богатый человек, у меня много сильных сыновей. Он дает мне знак. Да, последний рейс…
Казалось, небо услышало его: алый стяг лениво пошевелился, словно змея, пробуждающаяся от зимней спячки, и свежий ветер коснулся увядшей щеки старика.
Юсуф вскочил с подушек, будто сбросив половину своих лет, и топнул босой ногой по палубе.
– Подъем! – крикнул он. – Вставайте, дети мои! Ветер! Ветер!
Пока команда поднималась на ноги, шейх сжал в руке длинный румпель и, откинув голову, стал следить, как надувается парус, а толстый ствол грот-мачты медленно клонится к горизонту, внезапно потемневшему от грозового пассата.
Клинтон Кодрингтон опять проснулся среди ночи: один и тот же кошмар постоянно преследовал его. Капитан, весь в поту, лежал на узкой деревянной койке, стараясь прийти в себя, но на этот раз запах не исчезал. Наконец, накинув плащ на голые плечи, Клинтон поднялся на палубу.
Запах долетал из темноты порывами. Теплый влажный пассат, пропитанный йодом и солью – аромат моря – внезапно приносил откуда-то густую вонь. Раз учуяв, такое невозможно забыть до самой смерти. Миазмы от экскрементов и гниющего мяса – как возле клетки с хищными зверями, которую никогда не чистили. Кошмар навалился всей своей тяжестью.
Десять лет назад Клинтон, тогда еще юный гардемарин, служил на «Дикой утке», одной из первых канонерских лодок сторожевой эскадры, и они захватили в северных широтах невольничий корабль. Шхуна водоизмещением в триста тонн из Лиссабона шла под бразильским флагом и называлась, как ни странно, «Белая ласточка». Клинтона назначили капитаном призовой команды и приказали отвести судно в ближайший португальский порт для рассмотрения дела Смешанной судебной комиссией.
Они находились в сотне морских миль от бразильского побережья – «Белая ласточка» с пятьюстами черными невольниками на борту почти пересекла океан. В соответствии с приказом Кодрингтон развернул шхуну и повел к островам Зеленого мыса, но по пути провел три дня в мертвом штиле и с трудом вырвался из его удушливой хватки.
В порту Прая на главном острове Сантьяго Клинтону не позволили выгрузить рабов, и судно стояло на рейде шестнадцать дней в ожидании решения. Хозяева «Белой ласточки» не теряли времени даром, и в конце концов председатель комиссии решил, что дело не входит в его компетенцию. Временному капитану было приказано плыть обратно в Бразилию и обратиться к тамошним властям.
Кодрингтон, однако, хорошо понимал, чего можно ожидать от бразильского суда, и предпочел взять курс к острову Святой Елены, где правили британцы. Таким образом, несчастным невольникам пришлось снова пересекать экватор. К тому времени как корабль с грузом человеческого горя бросил якорь на рейде Джеймстауна, в живых осталось двадцать шесть рабов, и с тех пор запах невольничьего судна преследовал Кодрингтона в кошмарах.
И вот теперь из ночной тропической тьмы доносилась та же, ни с чем не сравнимая, чудовищная вонь. С усилием прогнав кошмарные видения, Кодрингтон отдал команду развести пары и ждать рассвета.
Шейх Юсуф, не веря своим глазам, вглядывался в темный силуэт на горизонте. О Аллах, не покинь своего верного раба!
Чужое судно находилось милях в пяти, едва различимое в розовом свете зари, но шло навстречу быстро. Буйный пассат относил в сторону над зелеными водами пролива толстый столб черного дыма и раздувал флаг на мачте. Глядя в старинную, обтянутую кожей и окованную латунью трубу, шейх ясно различал белоснежное поле с ярким алым крестом.
Ненавистный символ высокомерных воинственных пришельцев, тиранов морских путей, завоевателей целых континентов! Такие канонерки заходили и в Аден, и в Калькутту, такой же флаг развевался в любых, самых дальних уголках морей, где доводилось плавать шейху…
Все кончено! Юсуф переложил руль – злосчастный рейс подходил к концу. Дхоу неохотно развернулась, треща всем корпусом, огромный парус опал, теряя ветер, дувший в корму.
А ведь риск казался совсем пустяковым. Договор, подписанный с занзибарским консулом неверных, позволял вести торговлю черным жемчугом между любыми из владений султана, при условии что заниматься этим прибыльным делом будут только оманские арабы. Под флагом султана не смел плавать ни христианин, ни даже обращенный мусульманин, а самим арабам разрешалось вести торговлю только в пределах султанских владений. Договор тщательно определял эти пределы… И вот шейх Юсуф с грузом из трехсот тридцати живых, умирающих и мертвых невольниц наткнулся на канонерку в ста пятидесяти милях южнее самых дальних границ. «Воистину пути Аллаха неисповедимы и недоступны людскому пониманию», – думал шейх с легким привкусом горечи, мрачно налегая на руль и поворачивая дхоу к берегу.
На носу канонерской лодки грохнула пушка, в воздух взвился столб порохового дыма, белый, как крыло морской птицы в лучах рассветного солнца. Шейх Юсуф яростно сплюнул за борт.
– Эль-Шайтан, дьявол! – смачно выругался он, впервые употребив прозвище, под которым капитан Клинтон Кодрингтон станет известен на всем восточном побережье, от Мозамбикского пролива до Африканского Рога.
Бронзовый винт под кормой «Черной шутки» оставлял длинный бурлящий след. Пока корабль шел под гротом и кливером, но Кодрингтон готовился убавить паруса для удобства боя, как только изменит курс судна с учетом передвижений противника.
Зуга и Робин следили за погоней с юта. Сдержанное деловитое возбуждение, охватившее весь корабль, заразило и их. Когда дхоу повернула, Зуга громко рассмеялся и воскликнул:
– Ату их!
Клинтон глянул на него с заговорщической усмешкой:
– Это невольничий корабль. Этот поворот отметает все сомнения, не говоря уже о запахе.
Робин подалась вперед, всматриваясь в грязное суденышко с полинялым залатанным парусом. Некрашеный дощатый корпус напоминал зебру, весь испещренный полосами человеческих испражнений и отбросов. Вот он, воочию – невольничий корабль со страшным грузом на борту! Надо сохранить в памяти каждую мелочь, чтобы позже записать в дневнике.
– Мистер Денхэм, дайте еще выстрел, будьте добры! – скомандовал Клинтон.
Носовое орудие послушно громыхнуло, но дхоу не меняла курса.
– Приготовиться спустить шлюпку!
Клинтон обернулся и оглядел абордажную команду, выстроенную с саблями и пистолетами на шкафуте под командованием молодого мичмана. Капитан с радостью возглавил бы захват, но его рука все еще висела на перевязи, и швы не зажили. Чтобы в бурном море взять дхоу на абордаж и сражаться с ее матросами, требовались обе руки. Пришлось передать командование Феррису.
Капитан перевел суровый взгляд на дхоу:
– Они хотят выброситься на мель.
Все молчали, глядя, как невольничий корабль несется к берегу.
– Но там же коралловый риф!
Робин указала на черные точки в четверти мили от берега. Они напоминали ожерелье из акульих зубов. Волны прибоя, подхлестываемые ветром, разбивались о них тысячами бурунов.
– Да, – кивнул Клинтон. – Они загонят судно на коралловые рифы, а сами уйдут через лагуну.
– Но что будет с рабами? – в ужасе спросила Робин.
Ей никто не ответил.
«Черная шутка» упорно продвигалась вперед, но ветер дул противнику прямо в корму. Длинный гик арабской дхоу вывернулся вбок, огромный косой парус вздулся пузырем, почти касаясь воды. Корабль несся на рифы.
– Мы могли бы отрезать их, – громко сказал Зуга.
Клинтон сердито покачал головой:
– Не успеем.
Тем не менее капитан держал курс преследования до самой последней минуты, и дхоу прошла всего ярдах в двухстах перед носом канонерки – так близко, что можно было различить лицо рулевого. Тощий араб в длинном ниспадающем бурнусе носил феску с кисточкой – знак паломничества в Мекку. На его поясе блестела золотой филигранью рукоять кривого кинжала шейхов, белая клочковатая борода развевалась по ветру. Налегая на длинный румпель, старик оглянулся на черный корабль преследователей.
– Подстрелить бы мерзавца! – прорычал Зуга.
– Слишком поздно, – вздохнул Клинтон.
Дхоу прошла мимо, острые клыки коралловых рифов торчали совсем близко.
– Носом к ветру! Лечь в дрейф! – скомандовал Клинтон рулевому и обернулся: – Абордажная команда, вперед!
Под скрип шлюпбалок переполненный вельбот исчез за бортом, но дхоу уже бешено раскачивалась в кипящих белых бурунах, окружавших рифы.
За два дня, с тех пор как закончился штиль, пассат нагнал высокую волну. Низкие валы с исполосованными ветром спинами монотонно катились через пролив, но, ощутив близость земли, яростно вздымали грозные темные гребни и тут же разбивались в белую бурлящую пену о черные клыки рифов.
Дхоу поймала высокий вал и, задрав корму, помчалась по нему вниз, как прибойная шлюпка. Старый араб прыгал у румпеля, словно дрессированная обезьяна, пытаясь удержать суденышко на волне, но дхоу, неприспособленная к таким маневрам, строптиво зарылась носом в крутой ревущий склон. Вода хлынула сверху зеленой стеной, дхоу легла на бок, наполовину погрузившись в воду, и налетела на риф с такой силой, что единственная мачта сломалась на уровне палубы и рухнула за борт вместе с парусом и всей оснасткой.
В одно мгновение от корабля остался лишь разбитый корпус. До канонерки отчетливо донесся треск пробитой обшивки.
– Все, упустили! – сердито пробормотал Клинтон.
Арабы прыгали за борт, стараясь поймать волну и перескочить на ней через рифы в тихие воды лагуны. Отчаянно барахтаясь, они один за другим выбирались на берег.
Среди спасшихся оказался и рулевой. Он доковылял до берега, подобрал полы промокшего бурнуса, обнажив тощие ноги, и с проворством дикого козла помчался по белому песку к пальмовой роще.
Шлюпка с вооруженной командой вошла в первую полосу бурунов. Мичман на корме смотрел через плечо, выбирая момент. Дождавшись подходящей волны, вельбот рывком взлетел на ее гребень и приблизился с подветренной стороны к повисшему на рифе остову разбитой дхоу. Мичман и четверо матросов с саблями наголо заскочили на борт, но к тому времени последний араб уже со всех ног бежал по пляжу в четверти мили от них, ища убежище среди пальм.
Мичман повел людей вниз. На борту «Черной шутки» с нетерпением ждали их возвращения, рассматривая покинутое суденышко в подзорную трубу. Через минуту Феррис появился на палубе, торопливо подошел к борту и перегнулся через него: мичмана рвало. Выпрямившись и утерев рот рукавом, он крикнул что-то гребцам. Вельбот отошел от борта дхоу и стал прорываться сквозь буруны назад к канонерке.
На палубу поднялся боцман. Подойдя к капитану, он почтительно коснулся лба костяшками пальцев.
– Сэр, мичман Феррис говорит, что ему нужен плотник, надо вскрыть палубы для рабов, и еще два человека с кусачками для цепей. – Выпалив это, он замолчал, набирая воздух. – Мичман говорит, под палубами совсем скверно, многих зажало, хорошо бы врача…
– Я готова! – вскинулась Робин.
– Погодите… – начал Кодрингтон, но Робин уже бежала к трапу, подобрав юбки.
– Я пойду с сестрой! – шагнул вперед Зуга.
– Отлично, Баллантайн, очень вам благодарен, – кивнул Клинтон. – Передайте Феррису, что скоро прилив, сегодня полнолуние, а там в трюме пробоина. Приливная волна здесь поднимается на двадцать два фута. У него в запасе меньше часа.
На палубе появилась Робин, уже в брюках и с черным кожаным саквояжем. Моряки на палубе с любопытством уставились на ее ноги, но она, не обращая внимания, поспешила к борту. Молодая женщина оперлась на руку боцмана и спустилась в вельбот, следом за ней – Зуга, забравший саквояж.
Мчаться на волнах прибоя было одновременно и страшно, и весело. Вельбот угрожающе зарывался носом, вода у бортов шипела и пенилась. Наконец вельбот закачался у тяжело покосившегося борта дхоу.
Палуба, залитая водой, так накренилась, что Робин пришлось карабкаться на четвереньках. При каждом ударе волн корпус трясся, омываемый новыми потоками воды.
Мичман с абордажной командой снял люки главного трюма. Приблизившись, Робин чуть не задохнулась от густой вони, поднимавшейся из квадратного проема. Она полагала, что давно привыкла к запахам смерти и разложения, но ничего подобного ей испытывать не доводилось.
– Вы привезли кусачки? – спросил мичман, бледный от подступившей тошноты и ужаса.
Тяжелый инструмент обычно использовали для срезания вант и фалов с судна, потерявшего мачты. Двое мужчин подняли через люк связку маленьких черных тел, скованных друг с другом у запястий и лодыжек звенящими черными цепями, и принялись за работу. Это напомнило Робин бумажных кукол, которых она в детстве вырезала из сложенного в несколько раз листа бумаги, который потом растягивала, получая цепочку одинаковых фигурок. Кусачки разрубали легкие цепи, разделяя безжизненные крошечные тела.
– Это же дети! – в слезах воскликнула Робин.
Матросы работали в мрачном молчании. Они вытаскивали невольниц из трюма, освобождали от оков и опускали на мокрую палубу. Робин подхватила первую, иссохшую как скелет и покрытую с головы до ног коркой засохших рвотных масс и нечистот. Мертвые глаза бессмысленно смотрели вверх.
– Нет.
Никаких признаков жизни. Даже глазные яблоки уже высохли. Робин опустила безжизненную голову на палубу, и матрос оттащил труп.
«Нет». Снова «Нет». Некоторые тела оказались совсем разложившимися. По приказу мичмана матросы начали сбрасывать трупы за борт, чтобы освободить место для новых.
Робин нашла первую живую пленницу – пульс несчастной бился едва заметно, дыхание чуть теплилось, и ясно было, что она не выживет. Робин торопилась, стараясь выкроить время для тех, у кого оставались шансы.
В борт дхоу ударила высокая волна. Корпус резко накренился, глубоко внутри послышался треск ломающейся древесины.
– Быстрее, прилив начинается! – крикнул мичман.
Из трюма доносился грохот кувалд и лязг железа: плотники снимали невольничьи палубы.
Зуга, обнаженный до пояса, тоже спустился вниз, возглавив атаку на деревянные баррикады. Майор привык командовать, и матросы сразу же признали его лидерство.
Суматоха напоминала Робин деревенский грачевник на закате: резкие крики возвращающихся птиц и ответный писк птенцов в гнездах. Качка, треск ломающегося дерева и потоки холодной соленой воды пробудили черных невольниц от летаргии приближающейся смерти. Холодная вода проникала в трюм, и многие из тех, кто лежал в самом низу, поняли, что на борту спасательная команда, и громко звали на помощь, собрав в угасающей надежде последние силы.
Вельбот, причаленный к борту невольничьего корабля, наполнился истощенными телами-скелетами, в которых еще теплилась жизнь, а на поверхности лагуны, словно поплавки рыбачьих сетей, покачивались сотни раздутых трупов.
– Везите их на корабль, – крикнул мичман гребцам, – и возвращайтесь за новыми.
Новая волна с пышным белым гребнем ударила в борт. Корабль накренился, и лишь острые зубья кораллов, впившиеся в деревянное днище, не дали ему опрокинуться.
– Робин! – крикнул Зуга, высунувшись из трюма. – Ты нам нужна!
Робин кивнула стоявшему рядом матросу:
– Мертва.
Матрос с окаменевшим лицом поднял очередное безжизненное тело и перевалил через борт.
Робин подползла к люку и соскочила внутрь.
После слепящего полуденного солнца тьма казалась абсолютной – пришлось остановиться и дать глазам привыкнуть. Покосившаяся палуба под ногами была скользкой от нечистот, и Робин с трудом удержалась на ногах. Воздух был настолько насыщен миазмами, что в первую минуту она едва не ударилась в панику, ее словно душили мокрой вонючей подушкой. Рванувшись было наверх, к ветру и солнцу, Робин все-таки взяла себя в руки и сделала первый вдох. Желудок сжался, к горлу подступил горький комок. Доктор с трудом сдерживала рвоту, но, оглядевшись вокруг, тут же забыла о собственных неудобствах.
– Это все последняя волна, – буркнул Зуга, поддерживая сестру за плечи. – Палубы рухнули.
Палубы сложились, как карточный домик. Во мраке со всех сторон торчали острые деревянные обломки, балки скрестились лезвиями ножниц. В маленьких черных тельцах, зажатых, смятых, размозженных, с трудом можно было опознать человеческие останки. Некоторые повисли в воздухе на ножных цепях и слабо корчились, как раздавленные насекомые, или просто раскачивались в такт ударам волн.
– О святая Мария, Матерь Божья, что же мне делать? – в отчаянии шепнула Робин.
Она шагнула вперед и упала, поскользнувшись на толстом слое грязи. Спину и живот пронзила боль, но она заставила себя встать на колени. В этой чудовищной тюрьме собственная боль ничего не значила.
– Как ты? – с тревогой спросил Зуга, но Робин молча отстранила его.
Она поползла в ту сторону, где крик был громче. Ноги девушки были перебиты ниже колен упавшей балкой.
– Можешь сдвинуть? – Робин обернулась к брату.
– Никак, – ответил он, – с этой все кончено. Пойдем, там другие.
– Нет!
Робин полезла на четвереньках за саквояжем. Живот болел ужасно, но она изо всех сил старалась не обращать внимания.
Ей лишь раз в жизни приходилось наблюдать, как ампутируют ноги. Едва операция началась, рабыня оттолкнула матроса, державшего ее, и вцепилась в лицо доктору, как дикая кошка. Однако, не успела Робин освободить другую ногу, как страдалица безжизненно обмякла. Робин, едва сдерживая рыдания, оставила тело висеть в тисках деревянной балки.
Доктор попыталась обтереть руки, окровавленные по локоть. Ладони прилипали друг к другу. Сердце болело от сознания вины перед умершей, которой не удалось помочь. Не в силах пошевелиться, Робин тупо озиралась по сторонам.
Трюм затопило больше чем наполовину, прилив безжалостно наступал.
– Надо выбираться, – окликнул сестру Зуга.
Робин даже не оглянулась. Брат схватил ее за плечо и грубо встряхнул.
– Больше ничего не сделаешь, корабль вот-вот опрокинется.
Робин смотрела в черную вонючую воду, плескавшуюся под ногами. Из воды высунулась рука – почти детская, с розовой ладонью и тонкими изящными пальчиками, протянутыми в призывном жесте. Железный наручник, слишком большой для тонкого запястья, тянул вниз, и под его тяжестью рука, махнув призывным жестом, медленно ушла под воду. Робин смотрела вслед, не в силах оторвать взгляд…
Зуга рывком поднял ее на ноги.
– Пошли, черт возьми!
Его глаза горели свирепым огнем, лицо было искажено, отражая ужас, испытанный в вонючем полузатопленном трюме.
В разбитый корпус ударила еще одна волна, и хватка кораллов разжалась: затрещало дерево, дхоу покачнулась, черная зловонная вода вспучилась, захлестывая по плечи.
Разбитые невольничьи палубы сгрудились беспорядочным нагромождением досок и рухнули, увлекая за собой новые слои плотно уложенных черных тел.
– Робин! Еще немного, и мы не выберемся.
Карабкаясь по обломкам и телам, Зуга тащил сестру вверх, к квадрату ослепительного солнечного света.
– Их нельзя бросать, – сопротивлялась Робин.
– Им уже не помочь, черт побери! Все разваливается. Пошли!
Она вырвала руку, поскользнулась и упала навзничь. Боль пронзила тело с такой силой, что Робин вскрикнула. Совсем рядом, в груде скованных тел, выделялось лицо. Живое. Робин никогда не видела таких глаз, по-соколиному ясных, по-кошачьи свирепых, цвета кипящего меда.
«Эта выживет» – поняла Робин.
– Помоги, Зуга! – крикнула она.
– Робин, ради Бога…
Не слушая, она поползла вперед, протягивая руку к девушке. Палуба резко накренилась, в трюм хлынули новые потоки воды.
– Оставь ее! – крикнул брат.
Прибывающая вода закрутилась мощным водоворотом, поглотив скованную пленницу. Робин принялась отчаянно шарить руками вслепую, но безрезультатно. Сердце подпрыгнуло в панике.
Она попробовала нырнуть и вскрикнула от страшной боли, скрутившей живот. Робин наглоталась воды, но все же ухватила девушку за плечо. Та боролась за жизнь не менее отчаянно.
Вместе они вынырнули, кашляя и отплевываясь. Робин держала лицо девушки над водой и пыталась приподнять ее выше, но цепь не пускала.
– Зуга, помоги!
Новый поток, воняющий сточной канавой, захлестнул, они с головой ушли под воду. Робин решила, что им уже не выбраться, но упрямо барахталась, одной рукой обхватив рабыню под мышками, а другой – приподняв ей подбородок. Рядом появился Зуга. Он дважды обмотал цепь вокруг запястья и налег на нее всем весом, возвышаясь в сумраке трюма как башня. Свет из люка резко очерчивал напряженные мышцы на мокрых руках и плечах. Зуга натягивал цепь, раскрыв рот в беззвучном крике, на горле набухли синеватые жилы.
Новая волна. На этот раз Робин оказалась не готова и вода обожгла легкие. Чтобы приподняться и сделать вдох, пришлось бы выпустить тело рабыни, но Робин упрямо вцепилась в нее, готовая утонуть, но не дать погибнуть невинной малютке, в глазах которой светилась яростное стремление к жизни. Ее можно спасти, и надо спасти – хотя бы одну-единственную из нескольких сотен!
Волна схлынула. Зуга по-прежнему был рядом. Вода струилась по его телу, мокрые волосы застилали лицо и глаза. Он переступил, упершись ногами в тяжелую балку, и снова рванул цепь, зарычав от нечеловеческого усилия.
Круглая скоба, крепившая цепь к палубе, выскочила, и Зуга вытащил обеих женщин из воды. Цепь вытянулась следом за ними футов на десять и снова застопорилась, держась за следующее кольцо.
Робин и не подозревала, что Зуга так силен. Она ни разу, с самого детства, не видела брата раздетым и не догадывалась, что его мускулатура сделала бы честь профессиональному боксеру. Тем не менее на второй такой рывок сил уже не осталось. Брат выкрикнул что-то, в отверстии люка показался молодой мичман. «Не всякий храбрец сюда спустится», – подумала Робин. С тяжелыми кусачками в руках моряк пробрался к людям, ожидавшим на дне трюма.
Корпус накренился сильнее, вода забурлила, жадно поглощая тела. Не вытяни Зуга цепь, девушки утонули бы. Брат склонился над Робин, помогая держать голову рабыни над водой. Мичман нащупал звено цепи и приладил к нему кусачки, но от тяжелой работы лезвия покоробились и сил у юноши не хватало. Зуга отстранил его и взялся сам.
На плечах его вздулись мускулы, и цепь распалась с металлическим лязгом. Зуга перерезал ее у запястья и лодыжки девушки, бросил кусачки, подхватил хрупкое обнаженное тело и, отчаянно барахтаясь, стал пробираться к люку.
Робин пыталась не отставать, но глубоко внутри ее что-то вдруг порвалось, трескаясь, как хрупкий пергамент. Боль пронзила тело насквозь. Согнувшись пополам, молодая женщина схватилась за живот, не в силах двинуться с места. Волна сбила с ног, поволокла через разбитые доски в темную глубину. Сознание потускнело. Сдаться было легче всего, но Робин, собрав в кулак всю злость и упорство, боролась со стихией и продолжала сопротивление даже тогда, когда Зуга схватил ее и потащил наверх, к свету.
Они выползли наружу, но палуба вдруг встала дыбом, катапультировав их через борт, в ледяную зеленую воду.
Дхоу перевернулась, последние стоны в трюме стихли. Волны били, как удары молота, и корпус начал распадаться на куски. Робин и Зуга, цепляясь друг за друга, всплыли на поверхность. Над ними нависал борт вельбота. Мичман пошел на отчаянный риск, подойдя вплотную к рифам. Сильные руки протянулись к тонувшим и втащили на борт. Перегруженный вельбот угрожающе накренился, но команда вовремя развернула его носом к очередному бурлящему гребню. Матросы отчаянно работали веслами, выдерживая курс.
Робин подползла к груде тел на дне шлюпки. От радости, что спасенная ею невольница тоже на борту, доктор забыла про боль в измученных легких и страшную резь в животе. Она перевернула девушку на спину и приподняла ей голову, защищая от ударов о доски. Крутые валы швыряли суденышко из стороны в сторону. Судя по широким бедрам, девушка была старше, чем казалось сначала, хотя тело ее высохло и исхудало. «Ей не меньше шестнадцати», – подумала Робин и прикрыла тело брезентом от мужских взглядов.
Девушка открыла глаза и посмотрела на Робин. Глаза сохранили свой темно-медовый цвет, свирепость во взгляде растаяла, сменившись каким-то другим чувством.
– Нги йа бонга, – прошептала она, и Робин вдруг осознала, что понимает.
В совсем другой стране другая женщина, Хелен Баллантайн, твердила дочери те же самые слова, пока Робин не заучила их накрепко.
– Нги йа бонга – слава тебе!
Робин попыталась ответить, но разум ее был измучен не меньше, чем тело, да и язык она учила очень давно и в иной обстановке, поэтому слова вспоминались с трудом. Запинаясь, она наконец произнесла:
– Велапи уэна. – Кто ты и откуда?
Спасенная девушка изумленно вытаращила глаза.
– Ты! – прошептала она – Ты говоришь на языке людей!
На борт подняли всего двадцать восемь живых невольниц. К тому времени как «Черная шутка» развела пары и, отвернув от берега, снова легла на курс, корпус дхоу совершенно развалился. На волнах, разбивавшихся о рифы, качались деревянные обломки. Наверху с пронзительными криками парили морские птицы. Они хрипло ссорились над ужасными останками, смешанными с мусором, резко падали вниз, чтобы схватить лакомый кусок, и снова взмывали, изящно разворачивая веером перламутровые крылья.
В глубоких водах за рифами собирались стаи акул. Тупые треугольники спинных плавников возбужденно сновали туда-сюда, рассекая зеленые волны. Время от времени похожее на торпеду тело в приступе жадности взлетало из воды и обрушивалось вниз с пушечным грохотом.
Двадцать восемь из нескольких сотен – это не так уж много, думала Робин, ковыляя вдоль вереницы еле живых тел. Каждый шаг давался нелегко, отзываясь болью во всем теле. Состояние несчастных внушало отчаяние. Было видно, что многие из них примирились со смертью. Робин читала труды отца о лечении африканцев и знала, насколько важна для первобытных народов воля к жизни. Если человек хочет умереть, ничто его не спасет, даже если он совершенно здоров.
В первую же ночь, несмотря на неустанное внимание доктора, двадцать две девушки умерли, и их тела пришлось бросить за борт. Остальные к утру впали в кому, у них началась лихорадка от почечной недостаточности: лишенные жидкости почки атрофировались и больше не отфильтровывали отходы организма. Помочь могло только одно средство – заставлять больных пить.
Маленькая нгуни продолжала бороться со смертью. Робин была уверена в ее принадлежности к этой группе народностей, хоть и не могла определить племя точно. Существовало множество диалектов основного языка зулусов, а произношение девушки звучало непривычно. Робин старалась почаще разговаривать с больной, чтобы помочь ей сохранить ясность сознания и поддержать горячее стремление выжить. Она испытывала к ней почти материнскую привязанность, хотя и старалась поровну распределять внимание между всеми пациентами. Робин неизменно возвращалась туда, где под брезентовым навесом лежала нгуни, и подносила к ее губам кружку с подслащенной водой.
Словарь их общения насчитывал всего несколько сотен слов, и пока девушка отдыхала после очередного болезненного глотка, они обменивались краткими фразами.
– Меня зовут Джуба, – прошептала нгуни, отвечая на вопрос Робин.
Звук этого имени на мгновение перенес Робин в далекое детство, напомнив уютное воркование сизых голубей в ветвях диких смоковниц, которые окружали миссию, где она родилась.
– Голубка, – повторила она. – Красивое имя.
Девушка застенчиво улыбнулась и продолжила рассказ сухим сдавленным шепотом. Робин не все разбирала, но слушала и соглашалась, с горечью понимая, что смысл постепенно исчезает, что Джуба бредит и беседует с призраками прошлого. Лицо нгуни исказилось гневом и страхом, она отталкивала кружку, давясь крошечными глотками жидкости, что-то неразборчиво бормотала и вскрикивала.
– Тебе надо отдохнуть, – убеждал сестру Зуга. – Сидишь с ней уже двое суток почти без сна. Ты себя убьешь.
– Я хорошо себя чувствую, – оправдывалась Робин, но осунувшееся и бледное лицо опровергало ее слова.
– По крайней мере перейди с ней в каюту. Я помогу.
К тому времени из всех невольниц в живых осталась одна Джуба, все остальные отправились за борт и стали пищей акул, не отстававших от корабля.
– Хорошо, – согласилась Робин.
Зуга взял нгуни на руки и спустился с юта, где она лежала под наспех сколоченным навесом. Стюард принес парусиновый матрас, набитый соломой, и положил на пол в тесной каюте доктора. Зуга опустил на матрас обнаженное тело.
Робин мечтала растянуться на узкой койке и немного отдохнуть, но хорошо понимала, что если хоть на минуту расслабится, то сразу же забудется мертвым сном и оставленная без присмотра пациентка наверняка умрет.
Доктор села, скрестив ноги, на соломенный тюфяк, прислонилась спиной к сундуку и, посадив девушку к себе на колени, стала каплю за каплей вливать ей в рот питательную жидкость. Час проходил за часом, дневной свет в единственном иллюминаторе сменился алым заревом короткого тропического заката и быстро угас. В каюте стемнело, и вдруг Робин ощутила, как ей на колени, пропитав юбки, полилась обильная теплая струя. По каюте разнесся резкий запах аммиака.
– Благодарю тебя, Господи! – прошептала она.
Работа почек восстановилась, смертельная опасность миновала. Робин баюкала девушку на коленях, не чувствуя никакой брезгливости – промокшие юбки означали жизнь.
– Ты выкарабкалась, – радостно повторяла она. – Ты постаралась и смогла, моя Голубка.
У Робин едва хватило сил обтереть тело невольницы салфеткой, смоченной в морской воде. Доктор стащила запачканную одежду и лицом вниз рухнула на узкую жесткую койку.
Проснулась Робин от страшных судорог. Колени прижались к груди, мышцы живота окаменели, в пояснице стреляло, словно ее били дубинкой. Далеко не сразу доктор догадалась, что происходит, но когда поняла, испытала такой прилив радости и облегчения, что забыла о боли. Она с трудом выползла из койки и обмылась морской водой из ведра. Опустившись на колени возле Джубы, доктор потрогала ее лоб. Лихорадка определенно спадала, и у Робин совсем отлегло от сердца. Теперь нужно выбрать подходящий момент и сказать Клинтону Кодрингтону, что она не выйдет за него замуж. Видение маленького домика с видом на Портсмутскую гавань больше не будет ее беспокоить. Несмотря на боль, Робин чувствовала себя легкой и свободной, словно птица, готовая взлететь.
Она налила в кружку воды и приподняла голову маленькой нгуни.
– У нас теперь все будет хорошо, – сказала она, и девушка открыла глаза. – У нас обеих все будет хорошо, – повторила Робин, глядя со счастливой улыбкой, как ее пациентка жадно припала к кружке.
Джуба быстро шла на поправку и вскоре ела со здоровым аппетитом. Тело ее наливалось чуть ли не на глазах, кожа вернула юный блеск, глаза искрились здоровьем. Робин с самодовольством собственника поняла, что девушка хороша собой – нет, не просто хороша! В ней была природная грация, а таких чувственных линий груди и бедер многие модные красотки безуспешно пытались достичь с помощью турнюров и корсетов. У нгуни было приятное лицо, круглое, как луна, и большие, широко расставленные глаза; полные, четко очерченные губы поражали странной экзотической красотой.
Джуба не понимала, почему доктор так настаивает, чтобы она прикрывала грудь и ноги, однако Робин видела, какими взглядами провожают девушку моряки. Джуба выходила на палубу, обернув куском парусины лишь самую соблазнительную часть тела, и ничуть не беспокоилась, если ветер приподнимал ткань, развевая ее, как призывный флаг. В конце концов Робин конфисковала одну из старых рубашек Зуги, доходившую малютке нгуни до колен, и подпоясала ее яркой лентой. От этого наряда Джуба пришла в дикий восторг – как любая женщина, она преклонялась перед красивыми вещами.
Бывшая рабыня бегала за своей спасительницей по пятам, как щенок, и Робин постепенно привыкала к ее щебетанию. Они стали лучше понимать друг друга и по вечерам вели долгие разговоры, сидя рядышком на соломенном тюфяке.
Клинтон Кодрингтон начал выказывать признаки ревности. Он привык больше общаться с Робин, а она использовала новую подругу как предлог, чтобы отдалиться, готовя капитана к неприятной новости, которую ему предстояло услышать до прибытия в Келимане.
Зуга также не одобрял растущей близости сестры с Джубой.
– Сестренка, не забывай, она туземка, – наставлял он. – Не стоит с ними фамильярничать, это до добра не доводит. Я это частенько наблюдал в Индии. Нужно соблюдать дистанцию, ты же, в конце концов, англичанка.
– А она матабеле из рода Занзи, – возразила Робин, – а значит, аристократка. Ее семья пришла с юга вместе с Мзиликази, а отец был знаменитым полководцем. Их род восходит к Сензангахоне, королю зулусов и отцу самого Чаки. Между прочим, наш прадед пас коров.
Лицо Зуги окаменело. Он избегал обсуждать происхождение семьи.