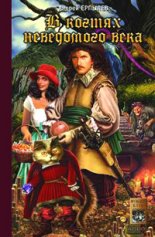Камо грядеши Сенкевич Генрик
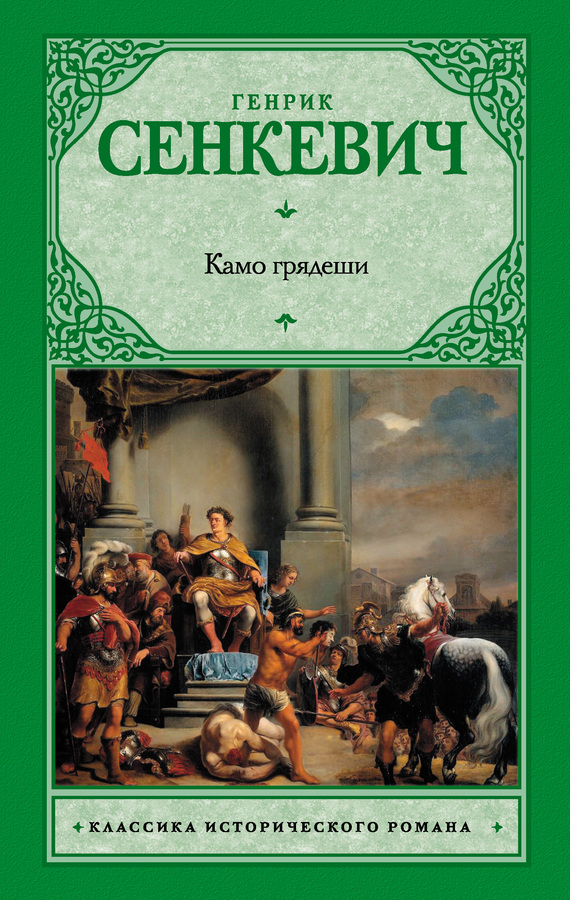
Глава I
Петроний пробудился лишь около полудня, и, как обычно, с ощущением сильной усталости. Накануне он был у Нерона на пиру, затянувшемся до глубокой ночи. Здоровье его в последнее время стало сдавать. Он сам говорил, что просыпается по утрам с какой-то одеревенелостью в теле и неспособностью сосредоточиться. Однако утренняя ванна и растирание, которое усердно проделывали хорошо вышколенные рабы, оживляли движение медлительной крови, возбуждали, бодрили, возвращали силы, и из элеотезия[1], последнего отделения бань, он выходил будто воскресший — глаза сверкали остроумием и весельем, он снова был молод, полон жизни и так неподражаемо изыскан, что сам Отон не мог бы с ним сравниться, — истинный arbiter elegantiarum[2], как называли Петрония.
В общественных банях он бывал редко: разве что появится какой-нибудь вызывающий восхищение ритор, о котором идет молва в городе, или когда в эфебиях[3] происходили особенно интересные состязания. В усадьбе у Петрония были свои бани, которые Целер, знаменитый сотоварищ Севера[4], расширил, перестроил и украсил с необычайным вкусом, — сам Нерон признавал, что они превосходят императорские бани, хотя императорские были просторнее и отличались несравненно большей роскошью.
И после этого пира — на котором он, когда всем наскучило шутовство Ватиния[5], затеял вместе с Нероном, Луканом и Сенеционом[6] спор, есть ли у женщины душа, — Петроний встал поздно и, по обыкновению, принял ванну. Два могучих бальнеатора[7] уложили его на покрытый белоснежным египетским виссоном[8] кипарисовый стол и руками, умащенными душистым маслом, принялись растирать его стройное тело — а он, закрыв глаза, ждал, когда тепло лаконика[9] и тепло их рук сообщится ему и прогонит усталость.
Но через некоторое время Петроний заговорил — открыв глаза, спросил о погоде, потом о геммах, которые обещал прислать ему к этому дню ювелир Идомен для осмотра… Выяснилось, что погода стоит хорошая, с небольшим ветерком со стороны Альбанских гор[10] и что геммы не доставлены. Петроний опять закрыл глаза и приказал перенести его в тепидарий[11], но тут из-за завесы выглянул номенклатор[12] и сообщил, что молодой Марк Виниций, недавно возвратившийся из Малой Азии, пришел навестить Петрония.
Петроний распорядился провести гостя в тепидарий, куда перешел сам. Виниций был сыном его старшей сестры[13], которая когда-то вышла замуж за Марка Виниция, консула при Тиберии. Молодой Марк служил под началом Корбулона в войне против парфян[14], и теперь, когда война закончилась, вернулся в город. Петроний питал к нему слабость, даже привязанность, — Марк был красивый юноша атлетического сложения, к тому же он умел соблюдать в разврате некую эстетическую меру, что Петроний ценил превыше всего.
— Приветствую тебя, Петроний! — воскликнул молодой человек, пружинистой походкой входя в тепидарий. — Пусть даруют тебе удачу все боги, особенно же Асклепий и Киприда[15], — ведь под их двойным покровительством тебе не грозит никакое зло.
— Добро пожаловать в Рим, и пусть отдых после войны будет для тебя сладостен, — ответил Петроний, протягивая руку меж складок мягкого полотна, которым его обернули. — Что слышно в Армении и не случилось ли тебе, будучи в Азии, заглянуть в Вифинию?
Петроний был когда-то наместником Вифинии[16] и управлял ею деятельно и справедливо. Это могло показаться невероятным при характере этого человека, известного своей изнеженностью и страстью к роскоши, — потому он и любил вспоминать те времена как доказательство того, чем он мог и сумел бы стать, если б ему заблагорассудилось.
— Мне довелось побывать в Гераклее[17], — сказал Виниций. — Послал меня туда Корбулон с приказом собрать подкрепления.
— Ах, Гераклея! Знавал я там одну девушку из Колхиды[18], за которую отдал бы всех здешних разведенных жен, не исключая Поппеи. Но это давняя история. Лучше скажи, как дела там, у парфян. Право, наскучило уж слушать обо всех этих Вологезах, Тиридатах, Тигранах[19], об этих дикарях, которые, как говорит юный Арулен[20], у себя дома еще ходят на четвереньках и только перед нами притворяются людьми. Но теперь в Риме много о них говорят, верно потому, что о чем-нибудь другом говорить опасно.
— В той войне дела наши были плохи, и, когда бы не Корбулон, мы могли потерпеть поражение.
— Корбулон! Клянусь Вакхом! Да, он истинный бог войны, настоящий Марс, великий полководец, но вместе с тем запальчив, честен и глуп. Мне он симпатичен, хотя бы потому, что Нерон его боится…
— Корбулон отнюдь не глуп.
— Возможно, ты прав, а впрочем, это не имеет значения. Глупость, как говорит Пиррон[21], ничуть не хуже мудрости и ничем от нее не отличается.
Виниций начал рассказывать о войне, но, когда Петроний прикрыл глаза, молодой человек, глядя на его утомленное и слегка осунувшееся лицо, сменил тему разговора и стал заботливо расспрашивать о здоровье.
Петроний опять открыл глаза.
Здоровье!.. Нет, он не чувствует себя здоровым. Конечно, он еще не дошел до того, до чего дошел молодой Сисенна[22], который настолько отупел, что, когда его по утрам приносят в бани, он спрашивает: «Это я сижу?» И все же он нездоров. Виниций поручил его покровительству Асклепия и Киприды. Но он в Асклепия не верит. Неизвестно даже, чьим сыном был Асклепий — Арсинои или Корониды[23], — а если нельзя с уверенностью назвать мать, что уж говорить об отце! Кто нынче может поручиться, что знает даже собственного отца!
Тут Петроний рассмеялся, потом продолжал:
— Правда, два года тому назад я послал в Эпидавр[24] три дюжины живых серых дроздов и чашу золотых монет, но знаешь почему? Я себе сказал так: поможет или нет — неизвестно, но не повредит. Если люди еще приносят жертвы богам, все они, думаю, рассуждают так, как я. Все! За исключением, может быть, погонщиков мулов, которые предлагают свои услуги путникам у Капенских ворот[25]. Кроме Асклепия, пришлось мне также иметь дело с его служителями — асклепиадами, когда в прошлом году у меня была болезнь мочевого пузыря. За меня тогда они совершали инкубацию[26]. Я-то знал, что они обманщики, но тоже сказал себе: чем это мне повредит! Мир стоит на обмане, и вся жизнь — мираж. Душа — тоже мираж. Надо все же иметь достаточно ума, чтобы отличать миражи приятные от неприятных. Я приказываю в моем гипокаустерии[27] топить кедровыми дровами, посыпанными амброй, ибо в жизни предпочитаю ароматы смраду. Что ж до Киприды, которой ты меня также поручил, я уже столько пользовался ее покровительством, что в правой ноге колотье началось. Впрочем, это богиня добрая! Полагаю, теперь и ты — раньше или позже — понесешь белых голубей на ее алтарь.
— Ты угадал, — молвил Виниций. — Стрелы парфян меня не тронули, зато ранила меня стрела Амура… и совсем неожиданно, в нескольких стадиях[28] от ворот города.
— Клянусь белыми коленами Харит![29] Ты расскажешь мне об этом на досуге, — сказал Петроний.
— Я как раз пришел спросить у тебя совета, — возразил Марк.
Но в эту минуту явились эпиляторы[30] и занялись Петронием, а Марк, сбросив тунику[31], вошел в бассейн с теплой водой — Петроний предложил ему искупаться.
— Ах, я и спрашивать не буду, пользуешься ли ты взаимностью, — сказал Петроний, глядя на юное, словно изваянное из мрамора тело Виниция. — Видел бы тебя Лисипп[32], ты был бы теперь украшением ворот Палатинского дворца[33] в образе статуи юного Геркулеса.
Молодой человек удовлетворенно улыбнулся и начал окунаться в бассейне, обильно выплескивая теплую воду на мозаику с изображением Геры[34], просящей Сон усыпить Зевса. Петроний смотрел на него глазами художника.
Но когда Марк вышел из бассейна и отдал себя в распоряжение эпиляторов, вошел лектор с висевшим у него на животе бронзовым футляром, из которого торчали свитки папируса.
— Хочешь послушать? — спросил Петроний.
— Если произведение твое, то с удовольствием! — ответил Виниций. — Но если не твое, лучше побеседуем. Поэты теперь ловят слушателей на каждом углу.
— Еще бы! Возле каждой базилики, возле терм, библиотеки или книжной лавки нельзя пройти, чтобы не встретить поэта, который жестикулирует, как обезьяна. Агриппа[35], когда приехал сюда с Востока, принял их за одержимых. Но такие нынче времена. Император пишет стихи, и все подражают ему. Не дозволяется только писать стихи лучше, чем император, и по этой причине я слегка опасаюсь за Лукана… Я-то пишу прозой — правда, не щадя ни самого себя, ни других. А лектор собирался нам читать «Завещание» бедняги Фабриция Вейентона[36].
— Почему бедняги?
— Потому что ему приказали сыграть роль Одиссея и не возвращаться к домашнему очагу до нового распоряжения. Эта «одиссея» окажется для него куда менее трудной, чем некогда для самого Одиссея, ибо его жена не Пенелопа. Словом, я не должен тебе говорить, что поступили глупо. Но у нас здесь ни о чем особенно не задумываются. Книжонка довольно дрянная и скучная, ее начали с увлечением читать лишь тогда, когда автора изгнали. Теперь же вокруг только и слышно: «Скандал! Скандал!» Возможно, Вейентон кое-что присочинил, но я-то знаю город, знаю наших отцов сенаторов и наших женщин и уверяю тебя, что все его выдумки меркнут перед действительностью. Ну, понятно, каждый в этой книге что-то ищет — себя со страхом, других с удовольствием. В книжной лавке Авирна сотня писцов переписывает ее под диктовку — успех обеспечен.
— Твои делишки там не описаны?
— Есть и они, но тут автор оплошал — на самом деле я и хуже, и не столь примитивен, как он меня изобразил. Видишь ли, мы тут давно утратили чувство того, что пристойно и что непристойно; мне самому уже кажется, что тут нет различия, хотя Сенека, Музоний[37] и Тразея притворяются, будто его видят. Мне на это наплевать! Клянусь Геркулесом, я говорю, что думаю! Но я все же превосхожу их кое в чем, я знаю, что безобразно и что прекрасно, а это, например, наш меднобородый поэт, возница, певец, танцор и актер не понимает.
— Все же мне жаль Фабриция! Он славный товарищ.
— Его погубила собственная его любовь. Все это подозревали, никто не знал точно, но он сам не мог сдержаться и по секрету разбалтывал всем. Историю с Руфином слышал?
— Нет.
— Тогда перейдем во фригидарий[38], охладимся немного, и я тебе все расскажу.
Они перешли во фригидарий, посреди которого бил фонтан розоватой воды, распространяя аромат фиалок. Там, усевшись в устланных шелком нишах, они стали наслаждаться прохладой. Несколько минут оба молчали. Виниций задумчиво смотрел на бронзового фавна, который, неся на плече нимфу, пригнул ее голову и страстно прижимался губами к ее губам.
— Он поступает правильно, — сказал Марк. — Это лучшее, что есть в жизни.
— Пожалуй. Но ты, кроме этого, еще любишь войну, которая мне не по душе — потому что в шатрах ногти портятся, трескаются и теряют розовый цвет. В общем, у каждого свои увлечения. Меднобородый[39] любит пенье, особенно свое собственное, а старик Скавр — свою коринфскую вазу[40], которая ночью стоит у его ложа и которую он целует, когда ему не спится. Уже выцеловал на ее краях выемки. Скажи, а стихов ты не пишешь?
— Нет, я ни разу не сочинил полного гекзаметра[41].
— И на лютне не играешь и не поешь?
— Нет.
— А колесницей правишь?
— Когда-то участвовал в ристаниях в Антиохии[42], но неудачно.
— Тогда я за тебя спокоен. А к какой партии на ипподроме ты принадлежишь?
— К зеленым.
— Тогда я совершенно спокоен, тем более что, хотя состояние у тебя изрядное, ты все же не так богат, как Паллант или Сенека. У нас теперь, видишь ли, похвально писать стихи, петь в сопровождении лютни, декламировать и мчать в колеснице по цирку, но еще лучше, а главное, безопаснее, не писать стихов, не играть, не петь и не состязаться в гонках. А самое выгодное — уметь восхищаться, когда все это делает Меднобородый. Ты красивый юноша — стало быть, тебе может угрожать разве лишь то, что в тебя влюбится Поппея. Но для этого она чересчур опытна. Любовью она досыта насладилась при первых двух мужьях, а при третьем ей нужно кое-что другое. Ты знаешь, этот дурак Отон до сих пор любит ее безумно. Бродит там по испанским скалам и вздыхает — он настолько утратил прежние свои привычки и так перестал следить за собой, что на завивку волос ему теперь хватает трех часов в день. Кто бы мог этого ожидать от нашего Отона?
— Я его понимаю, — возразил Виниций. — Но я на его месте поступал бы иначе.
— А именно?
— Я бы создавал преданные мне легионы из тамошних горцев. Иберы — храбрые воины.
— Виниций, Виниций! Мне так и хочется сказать, что ты не был бы на это способен. И знаешь, почему? Такие вещи, конечно, делают, но о них не говорят, даже в условной форме. Что до меня, я бы на его месте смеялся над Поппеей, смеялся над Меднобородым и сколачивал бы себе легионы — но не из иберов, а из ибериек. Ну, самое большее, писал бы эпиграммы, которых, впрочем, никому бы не читал, в отличие от бедняги Руфина.
— Ты хотел рассказать его историю.
— Расскажу в унктории[43].
Но в унктории внимание Виниция привлекли красивые рабыни, ожидавшие там купающихся. Две из них, негритянки, походившие на великолепные эбеновые статуи, принялись умащать тела господ тончайшими аравийскими благовонными маслами, другие, фригиянки, искусные причесывальщицы, держали в нежных и гибких, как змеи, руках шлифованные стальные зеркала и гребни, еще две, прелестные, как богини, девушки — гречанки с острова Коса[44], вестиплики[45], ждали минуты, когда надо будет живописно уложить складки тог[46] на обоих мужчинах.
— Клянусь Зевсом Тучесобирателем! — сказал Марк Виниций. — Какой тут у тебя цветник!
— А я больше забочусь о качестве, чем о числе, — отвечал Петроний. — Вся моя фамилия[47] в Риме составляет не более четырехсот человек, и я полагаю, что разве только выскочкам требуется больше прислуги.
— Пожалуй, и у Меднобородого нет таких прекрасных тел, — сказал, раздувая ноздри, Виниций.
Петроний на это ответил с любезной небрежностью:
— Ты мой родственник, и я не такой черствый человек, как Басс[48], и не такой педант, как Авл Плавтий[49].
Виниций, однако, услыхав последнее имя, забыл на миг о девушках с Коса и, быстро взглянув на Петрония, спросил:
— Почему тебе вспомнился Авл Плавтий? Знаешь, подъезжая к городу, я сильно разбил себе руку и провел в его доме больше десяти дней. Когда со мной это случилось, Плавтий как раз проезжал по дороге, он увидел, что мне худо, и забрал меня к себе; там его раб, лекарь Мерион, вылечил меня. Именно об этом я и хотел с тобою поговорить.
— Чего это вдруг? Не влюбился ли ты случайно в Помпонию? Тогда мне тебя жаль: она немолода и добродетельна! Худшего сочетания не могу себе представить. Бр-р!
— Не в Помпонию, увы! — ответил Виниций.
— Тогда в кого же?
— Если б я сам знал в кого! Но я даже не знаю точно ее имени — Лигия или Каллина? В доме ее называют Лигией, потому что она из народа лигийцев[50], и у нее есть свое варварское имя: Каллина. Странный дом у этих Плавтиев! Народу много, а тишина, как в лесах Сублаквея[51]. Более десяти дней я не знал, что там живет богиня. Но раз на заре я увидел, как она умывалась у фонтана в саду. И клянусь тебе пеной, из которой родилась Афродита, что лучи зари пронизывали ее тело насквозь. Мне думалось, когда взойдет солнце, она растворится в его свете, как исчезает из глаз утренняя звезда. С той поры я ее видел еще два раза, и с той поры, поверь, я не знаю другого желания, мне не в радость все утехи города, я не хочу женщин, не хочу золота, не хочу коринфской бронзы, ни янтаря, ни жемчуга, ни вина, ни пиров, хочу только Лигию. Говорю тебе, Петроний, чистосердечно, я тоскую по ней, как тосковал Сон, изображенный на мозаике в твоем тепидарии, по Пасифее[52], тоскую днем и ночью.
— Если она рабыня — купи ее.
— Она не рабыня.
— Кто же она? Вольноотпущенница Плавтия?
— Она никогда не была невольницей и не могла быть отпущена на волю.
— Так кто же она?
— Сам не знаю — царская дочь или что-то в этом роде.
— Ты пробудил мое любопытство, Виниций.
— Но если тебе будет угодно меня выслушать, я его быстро удовлетворю. История не слишком длинная[53]. Ты, возможно, был знаком с Ваннием, царем свебов[54], — народ его изгнал, он долго жил в Риме и даже прославился удачливой игрой в кости и счастливой судьбой. Цезарь Друз[55] вернул ему трон. По сути, Ванний был человеком твердым, вначале он правил неплохо и воевал успешно, но потом начал слишком ретиво грабить не только соседей, но и своих свебов. Тогда Вангион и Сидон, два его племянника, сыновья его сестры и Вибилия, царя гермундуров[56], решили вынудить его опять отправиться в Рим… искать счастье в игре.
— А, помню, это было при Клавдии, совсем недавно.
— Вот-вот. Началась война. Ванний призвал на помощь язигов[57], а его любезные племяннички — лигийцев, которые, прослышав о богатствах Ванния и надеясь на жирную добычу, явились с такими полчищами, что сам император Клавдий встревожился. Вмешиваться в войну варваров Клавдий не хотел, но все же написал Ателию Гистру, командовавшему придунайским легионом[58], чтобы тот внимательно следил за ходом войны и не позволил нарушить наш покой. Гистр потребовал от лигийцев обещания не переходить границу, на что они не только согласились, но еще дали заложников, среди которых были жена и дочь их вождя. Ты же знаешь, варвары отправляются на войну с женами и детьми. Так что моя Лигия — дочь того вождя.
— Откуда ты все это знаешь?
— Мне рассказал сам Авл Плавтий. Лигийцы тогда действительно границу почти не нарушали, но ведь варвары налетают, как буря, и, как буря, исчезают. Так исчезли и лигийцы с турьими рогами на головах. Свебов и язигов Ванния они разбили, но их царь погиб, и они ушли с добычей, а заложники остались во власти Гистра. Мать вскоре умерла, дочку Гистр, не зная, что с нею делать, отослал правителю всей Германии Помпонию. Закончив войну с хаттами[59], Помпоний возвратился в Рим, где Клавдий, как тебе известно, разрешил ему триумфальные почести. Девушка шла за колесницей победителя, но когда торжества кончились, Помпоний тоже не знал, что с нею делать, — ведь заложницу нельзя было считать пленницей, — и в конце концов отдал ее своей сестре, Помпонии Грецине, жене Плавтия. В этом доме, где всё, начиная с господ и кончая птицей в курятнике, преисполнено добродетели, девушка выросла, увы, столь же добродетельной, как сама Грецина, и стала такой красавицей, что даже Поппея рядом с нею выглядела бы, как осенняя фига рядом с яблоком Гесперид[60].
— Ну, и дальше что?
— Повторяю тебе, с той минуты, что я увидел ее у фонтана, увидел, как лучи солнца пронизывают насквозь ее тело, я без памяти влюбился.
— Выходит, она прозрачна, как медуза или как маленькая сардинка?
— Не шути, Петроний, а если тебя ввело в заблуждение то, что я так свободно говорю о своем увлечении, знай, что под нарядным платьем часто скрываются глубокие раны. Еще должен тебе сказать, что по пути из Азии я провел одну ночь в храме Мопса[61], надеясь получить оракул. И вот во сне мне явился сам Мопс и изрек, что в моей жизни произойдет большая перемена вследствие любви.
— Слыхал я, как Плиний говаривал[62], что не верит в богов, но верит в сны, и, возможно, он прав. Несмотря на все мои шутки, я и сам временами думаю, что существует лишь одно вечное, всемогущее, творящее божество — Венера Родительница. Она соединяет души, соединяет тела и предметы. Эрос вывел мир из хаоса. Хорошо ли он поступил, это другой вопрос, но раз уж так случилось, мы должны признать его могущество, хотя можем и не благословлять его.
— Ах, Петроний, куда легче услышать философское рассуждение, чем добрый совет.
— Но скажи, чего ты собственно хочешь?
— Хочу получить Лигию. Хочу, чтобы вот эти мои руки, которые сейчас обнимают только воздух, могли обнять ее и прижать к груди. Хочу дышать ее дыханием. Будь она рабыней, я бы дал за нее Авлу сотню девушек, у которых ноги выбелены известью в знак того, что они в первый раз выставлены на продажу. Хочу иметь ее у себя в моем доме до тех пор, пока голова моя не побелеет, как вершина Соракта[63] зимою.
— Она не рабыня, но все-таки принадлежит к фамилии Плавтия, а поскольку она покинутое дитя, ее можно считать воспитанницей. Если бы Плавтий захотел, он мог бы тебе ее уступить.
— Ты, наверно, не знаешь Помпонии Грецины. Впрочем, оба они привязались к ней, как к родной дочери.
— Помпонию я знаю. Уныла, как кипарис. Не будь она женою Авла, ее можно было бы нанимать в плакальщицы. Со дня смерти Юлии она не снимает темной столы[64], и вообще вид у нее такой, будто она уже при жизни бродит по лугам, где растут асфодели[65]. Вдобавок она — одномужняя жена, а стало быть, среди наших женщин, разводившихся по четыре-пять раз, истинный феникс. Да, слышал ты, будто в Верхнем Египте недавно вылупился из яйца феникс, что с ним случается не чаще чем раз в пятьсот лет?
— Ох, Петроний, Петроний, о фениксе мы поговорим когда-нибудь в другой раз.
— Что же сказать тебе, милый мой Марк? Я знаю Авла Плавтия, он, хотя и осуждает мой образ жизни, все же питает ко мне известную слабость, а может быть, даже уважает меня больше, чем других, зная, что я никогда не был доносчиком, как, к примеру, Домиций Афр[66], Тигеллин и вся свора дружков Агенобарба. Я не притворяюсь стоиком, а между тем порицал не раз такие поступки Нерона, на которые Сенека и Бурр смотрели сквозь пальцы. Если ты считаешь, что я могу чего-нибудь добиться для тебя у Авла, — я к твоим услугам.
— Да, считаю, что можешь. Ты имеешь на него влияние, к тому же твой ум неисчерпаемо изобретателен. Если бы ты все это хорошенько обдумал и поговорил с Плавтием…
— У тебя преувеличенное представление о моем влиянии и изобретательности, но, коль дело только в этом, я поговорю с Плавтием, сразу как они приедут в город.
— Они вернулись вот уже два дня.
— В таком случае идем в триклиний, там нас ждет завтрак, а потом, подкрепившись, прикажем отнести нас к Плавтию.
— Я всегда тебя любил, — с живостью ответил на это Виниций, — но теперь, пожалуй, прикажу поставить твою статую среди моих ларов[67] — такую же прекрасную, как вот эта, — и буду приносить ей жертвы.
Говоря это, он повернулся к статуям, украшавшим целую стену наполненной благоуханием залы, и указал на статую Петрония в виде Гермеса с посохом в руке.
— Клянусь светом Гелиоса! — прибавил Марк. — Если «божественный» Александр[68] был схож с тобою, я не дивлюсь Елене.
В возгласе этом звучала не просто лесть, но искреннее восхищение, — хотя Петроний был старше и не столь атлетического сложения, он был красивее даже Виниция. Женщины в Риме восхищались его острым умом и вкусом, доставившим ему прозвище «арбитра изящества», но также его телом. Восхищение было заметно даже на лицах девушек с Коса, которые теперь укладывали складки его тоги и одна из которых, по имени Эвника, тайно в него влюбленная, смотрела ему в глаза покорно и восторженно.
Но Петроний на это не обращал внимания и, с улыбкой обернувшись к Виницию, начал цитировать ему в ответ сентенцию Сенеки о женщинах:
— «Animal impudens»[69], — и т. д.
Затем, обняв его за плечи, повел Марка в триклиний.
В унктории две девушки-гречанки, две фригиянки и две негритянки принялись убирать сосуды с душистыми маслами. Но вдруг из-за занавеса, отделявшего фригидарий, показались головы бальнеаторов и послышалось тихое «тсс». По этому знаку одна из гречанок, фригиянки и эфиопки встрепенулись и вмиг исчезли за занавесом. Начиналась в термах пора вольности и разгула, чему надзиратель не препятствовал, так как сам нередко принимал участие в подобных развлечениях. Догадывался о них и Петроний, но, как человек снисходительный и не любивший наказывать, смотрел на это сквозь пальцы.
Осталась в унктории одна Эвника. С минуту она прислушивалась к удалявшимся в направлении лаконика голосам и смеху, потом взяла выложенный янтарем и слоновой костью табурет, на котором только что сидел Петроний, и осторожно поставила его возле статуи своего господина.
Ункторий был весь залит солнечными лучами и сиял цветными бликами, игравшими на радужном мраморе, которым были отделаны стены.
Эвника встала ногами на табурет и, оказавшись вровень со статуей, вдруг обвила ее шею руками; затем, откинув назад свои золотистые волосы и прижимаясь розовым телом к белому мрамору, страстно припала губами к холодным устам Петрония.
Глава II
После угощенья, которое называлось завтраком и за которое оба друга уселись в час, когда обычные смертные уже давно съели свою полуденную трапезу, Петроний предложил немного вздремнуть. Идти с визитом было, по его словам, еще слишком рано. Есть, правда, люди, которые начинают посещать знакомых с восходом солнца, полагая, что таков старинный римский обычай. Но он, Петроний, считает его варварским. Самое подходящее время для визитов — после полудня, однако не раньше, чем солнце перейдет на сторону храма Юпитера Капитолийского и не начнет глядеть на Форум[70] искоса. Осенью в эту пору бывает еще жарко, и люди после трапезы любят поспать. И как приятно слушать шум фонтана в атрии[71] и после обязательной тысячи шагов задремать в алом свете, льющемся сквозь неплотно натянутый пурпуровый навес.
Виниций не возражал, и они стали прохаживаться, беседуя о том, что слышно на Палатине и в городе, и слегка философствуя о жизни. Затем Петроний отправился в кубикул[72], но спал недолго. Через полчаса он вышел и, приказав подать ему вербену, стал ее нюхать и натирать ею руки и виски.
— Ты не поверишь, — сказал он, — как это освежает и бодрит. Теперь я готов.
Носилки уже давно ждали, оба друга уселись и велели нести их на улицу Патрициев, к дому Авла. Дом Петрония находился на южном склоне Палатина, невдалеке от Карин[73], поэтому кратчайший путь лежал ниже Форума; Петроний, однако, желал заглянуть к ювелиру Идомену и распорядился нести их по улице Аполлона и Форуму в направлении Злодейской улицы, на углу которой было множество различных таверн.
Гиганты негры подняли носилки и тронулись в путь, а впереди бежали рабы-педисеквы[74]. Спустя некоторое время Петроний молча поднес к носу свои пахнущие вербеной руки — казалось, он о чем-то размышляет.
— Мне пришло в голову, — сказал он, — что, если твоя лесная богиня не невольница, она могла бы оставить дом Плавтиев и переселиться к тебе. Ты бы окружил ее любовью, осыпал роскошными дарами, как я мою обожаемую Хрисотемиду, которая, между нами говоря, надоела мне примерно так же, как я ей.
Марк отрицательно покачал головой.
— Нет? — спросил Петроний. — На самый худой конец дело это будет представлено императору, и можешь быть уверен, что наш Меднобородый, хотя бы благодаря моему влиянию, станет на твою сторону.
— Ты не знаешь Лигии! — возразил Виниций.
— А позволь тебя спросить, ты-то ее знаешь иначе как с виду? Говорил ты с ней? Признался в любви?
— Я видел ее сперва у фонтана, потом встречал еще два раза. Помню, когда я жил у Авла, меня поместили в соседней вилле, предназначенной для гостей, — и с поврежденной своей рукой я не мог садиться за общий стол. Лишь накануне дня, назначенного мною для отъезда, я встретил Лигию за ужином — и не мог даже слова ей сказать. Я должен был слушать Авла, рассказы о его победах в Британии, а потом об упадке мелких хозяйств в Италии, чему пытался воспрепятствовать еще Лициний Столон[75]. Вообще я сомневаюсь, способен ли Авл говорить о чем-либо другом, и нам наверняка не удастся этого избежать, разве что ты захочешь послушать об изнеженности нынешних нравов. Они держат у себя на птичнике фазанов, но не едят их из убеждения, что каждый съеденный фазан приближает конец римского могущества. Во второй раз я встретил ее возле садовой цистерны с только что вырванным камышом в руке, она опускала его кисть в воду и кропила росшие вокруг ирисы. Погляди на мои колени. Клянусь щитом Геркулеса, они не дрожали, когда на наши манипулы[76] шли с воем полчища парфян, но у той цистерны они задрожали. И я, смущенный, как мальчик, который еще носит буллу[77] на шее, одними лишь глазами молил о жалости и долго не мог слова вымолвить.
Петроний взглянул на него с легкой завистью.
— Счастливец! — сказал Петроний. — Пусть весь мир и жизнь погрязнут в зле, одно благо пребудет вечно — молодость!
Немного помолчав, он спросил:
— И ты с ней не заговорил?
— Заговорил. Придя в себя, я сказал, что возвращаюсь из Азии, что вблизи города расшиб себе руку и страдал от сильной боли, но в эту минуту, когда мне приходится покинуть их дом, я понял, что страдание в нем отрадней, чем наслаждение в другом месте, и болезнь здесь приятней, чем в другом месте здоровье. Она слушала мои речи тоже в смущении и, потупив голову, чертила что-то камышом на шафранно-желтом песке. Потом подняла глаза, а потом снова взглянула на начерченные ею знаки и еще раз на меня, будто желая что-то спросить, — и вдруг убежала, как гамадриада[78] от глупого фавна.
— У нее, наверное, красивые глаза?
— Глаза как море — и я утонул в них, как в море. Поверь, море Архипелага[79] не такое синее. Через минуту прибежал сынок Плавтия и стал что-то спрашивать. Но я не понимал, чего ему надо.
— О Афина! — воскликнул Петроний. — Сними у этого юноши повязку с глаз, которой его наградил Эрос, не то он расшибет себе голову о колонны храма Венеры. — И, снова обратясь к Виницию, продолжал: — О ты, весенний бутон на древе жизни, ты, первый зеленый побег винограда! Да ты должен был приказать нести себя не к Плавтиям, а в дом Гелотия, где помещается школа для не знающих жизни мальчишек.
— Чего ты надо мною смеешься?
— А что она чертила на песке? Не имя ли Амура, не сердце ли, пронзенное стрелой, или что другое, из чего ты мог бы понять, что сатиры уже нашептывали этой нимфе на ухо некие тайны жизни? Как можно было не посмотреть на эти знаки!
— Я надел тогу раньше, чем ты думаешь, — сказал Виниций. — Пока не прибежал маленький Авл, я внимательно рассматривал эти знаки. Я ведь знаю, что и в Греции и в Риме девушки часто чертят на песке признания, которые отказываются произнести их уста. Но угадай, что она начертила?
— Если что другое, я, пожалуй, не угадаю.
— Рыбу.
— Как ты сказал?
— Говорю, рыбу. Должно ли это было означать, что в ее жилах течет такая же холодная кровь, — не знаю! Но ты, назвавший меня весенним бутоном на древе жизни, — ты, надеюсь, лучше сможешь понять этот знак?
— Дорогой мой! Об этих вещах спрашивай Плиния. Уж он-то в рыбах разбирается. Будь еще жив старик Апиций[80], он, возможно, тоже смог бы тебе что-нибудь сказать — за свою жизнь он съел больше рыб, чем их может поместиться в Неаполитанском заливе.
Но на этом беседа прервалась — их теперь несли по людным улицам, и шум толпы мешал разговаривать. С Аполлоновой улицы они повернули на Римский Форум, где в погожие дни, перед заходом солнца, толпился праздный люд, чтобы побродить между колонн, рассказать и послушать новости, поглазеть на носилки с известными особами, посетить лавки ювелирные, книжные, меняльные, лавки с шелковым товаром, бронзовыми изделиями и всяческие другие, которых было превеликое множество в домах, окаймлявших часть Форума напротив Капитолия. Находившаяся у самых склонов Капитолийского холма половина Форума уже была погружена в тень, тогда как колонны храмов, расположенных выше, золотились в закатном свете на голубом небе. Колонны же, стоявшие внизу, отбрасывали длинные тени на мраморные плиты, и так много было этих колонн, что взор терялся, как в лесу. Казалось, всем этим колоннам здесь тесно — они тянулись кто выше, разбегались направо и налево, взбирались вверх по склонам, прижимались к крепостной стене или друг к другу, похожие на древесные стволы, — одни повыше, другие пониже, толстые и тонкие, золотистые и белые, то расцветая под архитравами цветками аканта[81], то увенчанные ионическими закрученными рогами, то завершаясь простым дорическим квадратом. Над этим лесом блестели разноцветные триглифы, из тимпанов[82] выпячивались скульптурные фигуры богов, крылатые позолоченные квадриги, казалось, вот-вот взлетят с высоких кровель в воздух, в голубое небо, мирно осенявшее этот город бесчисленных храмов. Посреди Форума и по его окружности двигался людской поток: толпы людей проходили под арками храма Юлия Цезаря, другие сидели на ступенях храма Кастора и Поллукса[83] или сновали вокруг небольшого святилища Весты[84], напоминая на фоне всего этого нагромождения мрамора рои разноцветных мотыльков или жуков. По гигантским ступеням, ведущим от храма, посвященного «Jovi Optimo Maximo»[85], спускались сверху все новые людские волны: у ростральной[86] трибуны слушали случайных ораторов, громко кричали торговцы фруктами, вином или водой, смешанной с соком смокв; тут были и шарлатаны, выхвалявшие чудодейственные снадобья, и предсказатели будущего, и угадчики зарытых кладов, и толкователи снов. Местами среди гомона и выкриков слышались звуки систра, египетской самбуки[87] или греческих флейт. Люди больные, благочестивые или чем-то озабоченные несли в храмы свои жертвы. На каменных плитах собирались, жадно клюя жертвенное зерно, стайки голубей, напоминавшие подвижные пестрые и темные пятна; они то вдруг с громким шумом крыльев взлетали в воздух, то опять опускались на не занятые людьми места. Время от времени толпа расступалась давая дорогу носилкам, из которых выглядывали холеные женские лица или лица сенаторов и всадников[88] с застывшим на них выражением равнодушия и пресыщенности. Разноязычная толпа громко повторяла их имена, прибавляя язвительные или хвалебные прозвища. Между беспорядочными группами кое-где проходили чеканным военным шагом отряды солдат или стражей, наблюдавших за порядком на улицах. Греческий язык был слышен вокруг столь же часто, как и латинский.
Виниций, давно не бывавший в городе, смотрел с некоторым любопытством на это скопление людей и на Римский Форум, господствующий над миром и вместе с тем настолько затопленный его волнами, что Петроний, угадав мысль своего спутника, назвал Форум «гнездом квиритов[89] — без квиритов». И действительно, местное население тонуло в толпе, состоявшей из представителей всех рас и народов. Здесь можно было увидеть эфиопов и рослых, светловолосых людей с далекого севера, бриттов, галлов и германцев, косоглазых серов[90], людей с берегов Евфрата и людей с берегов Инда, чьи бороды выкрашены в кирпичный цвет, сирийцев с берегов Оронта[91] с черными, томными глазами, иудеев со впалой грудью, египтян с неизменной равнодушной усмешкой на лице, нумидийцев и африканцев, греков из Эллады, которые наравне с римлянами господствовали в городе, но господствовали благодаря знаниям, искусству, разуму и плутовству, греков с островов и из Малой Азии, из Египта, из Италии, из Нарбоннской Галлии[92]. В толпе рабов с продырявленными ушами немало было и свободных, праздношатающихся горожан, которых император развлекал, кормил и даже одевал; были тут и пришлые свободные люди, привлеченные в огромный город легкой жизнью и возможностью разбогатеть; то и дело попадались на глаза разносчики мелкого товара, жрецы Сераписа[93] с пальмовыми ветвями в руках, и жрецы Исиды[94], на алтарь которой приносилось больше жертв, чем в храм Юпитера Капитолийского, и жрецы Кибелы[95] с золотистыми колосьями риса в руках, и странствующие жрецы, и восточные танцовщицы в ярких митрах, и продавцы амулетов, и заклинатели змей, и халдейские маги, и, наконец, множество людей без какого-либо занятия, которые каждую неделю приходили к зернохранилищам на берегу Тибра за своей долей зерна, дрались за лотерейные таблички в цирках, проводили ночи в часто обрушивавшихся домах квартала за Тибром, а теплые, солнечные дни — в крытых портиках, в грязных харчевнях Субуры[96], на Мульвиевом мосту или возле особняков богачей, где время от времени им выбрасывали объедки со стола рабов.
Петрония толпа хорошо знала. До слуха Виниция то и дело доносилось «Hic est!» — «Это он!» Петрония любили за щедрость, но популярность его особенно возросла с той поры, как узнали, что он высказался перед императором против смертного приговора всей фамилии, то есть всем, без различия пола и возраста, рабам префекта Педания Секунда, за то, что один из них в порыве отчаяния убил этого изверга[97]. Петроний, правда, уверял, что его это дело мало волнует и что говорил он с императором только как частное лицо, как «арбитр изящества», чье эстетическое чувство оскорбляла столь варварская бойня, приличествующая разве каким-нибудь скифам, но не римлянам. И все же народ, возмутившийся из-за этой резни, относился с тех пор к Петронию с любовью.
Но ему это было безразлично. Он помнил, что тот же народ любил и Британника, которого Нерон отравил, и Агриппину, которую Нерон приказал убить, и Октавию, которую задушили на Пандатерии[98], предварительно вскрыв ей вены в жарко натопленной бане, и Рубеллия Плавта[99], которого изгнали, и Тразею, которому каждое утро могло принести смертный приговор. Любовь народа можно было скорее считать зловещим признаком, а скептик Петроний был суеверен. Толпу он презирал вдвойне: как аристократ и как эстет. Люди, от которых воняло жареными бобами, заложенными за пазуху, всегда охрипшие и потные от игры в мору[100] на уличных перекрестках и в перистилях, недостойны были в его глазах называться людьми.
Итак, не отвечая ни на рукоплескания, ни на воздушные поцелуи, посылаемые со всех сторон, он рассказывал Марку о деле Педания, насмехаясь над изменчивостью уличного сброда, который на следующий день после бурного возмущения аплодировал Нерону, ехавшему в храм Юпитера Статора[101]. Перед книжной лавкой Авирна Петроний велел остановиться — выйдя из носилок, он купил красивую рукопись и вручил ее Виницию.
— Это тебе подарок, — сказал он.
— Благодарю, — ответил Виниций. И, взглянув на название, спросил: — «Сатирикон»? Что-то новое. Чье произведение?
— Мое. Но я не желаю подвергнуться ни участи Руфина[102], чью историю я собирался тебе рассказать, ни участи Вейентона, — поэтому никто об этом не знает, и ты никому не проговорись.
— Ты сказал, что не пишешь стихов, — заметил Виниций, заглядывая в середину рукописи, — а тут, как я вижу, проза густо ими усеяна.
— Когда будешь читать, обрати внимание на пир Тримальхиона[103]. Что ж до стихов, они мне опротивели с того времени, как Нерон стал писать эпическую поэму. Ты знаешь, Вителлий, чтобы облегчить себе желудок, пользуется палочками из слоновой кости, засовывая их себе в глотку, другие применяют перья фламинго, смоченные в оливковом масле или в отваре чабреца, — я же читаю стихи Нерона, и действие их мгновенное. Потом я могу хвалить их — коль не с чистой совестью, то с чистым желудком.
Сказав это, он опять остановил носилки у лавки ювелира Идомена и, договорись насчет гемм, велел нести себя прямо к Авлу.
— По дороге расскажу тебе историю Руфина как пример того, к чему приводит авторское тщеславие, — сказал он.
Но Петроний не успел приступить к рассказу, как они свернули на улицу Патрициев и вскоре оказались у дома Авла. Молодой мускулистый привратник открыл им дверь в остий — первую прихожую, — над дверью висела клетка с сорокой, верещавшей гостям приветствие «Salve»[104].
Проходя из этой первой прихожей в атрий, Виниций сказал:
— Ты заметил, что привратник здесь без цепи?
— Странный дом, — вполголоса ответил Петроний. — Наверно, тебе известно, что Помпонию Грецину[105] подозревали в приверженности восточному суеверию, состоящему в почитании какого-то Хрестоса. Удружила ей, говорят, Криспинилла[106], которая не может простить Помпонии, что ей хватило одного мужа на всю жизнь. Унивира!..[107] Да в Риме легче найти миску рыжиков из Норика![108] Ее судили домашним судом.
— Ты прав, дом странный. Немного погодя расскажу тебе, что я тут слышал и видел.
Тем временем они пришли в атрий. Распоряжавшийся здесь раб, называемый «атриенсис»[109], послал номенклатора, чтобы тот известил о приходе гостей, а другие рабы подали им кресла и скамеечки для ног. Петроний, который прежде думал, что в этом строгом доме царит вечное уныние, и потому никогда здесь не бывал, осматривался с известным удивлением и даже недоумением — атрий производил впечатление скорее радостное. Через большое отверстие в потолке лился сноп яркого света, рассыпаясь в фонтане тысячами искр. Квадратный бассейн с фонтаном в центре, называвшийся «имплувий», был предназначен для дождевой воды, падавшей в ненастье через отверстие в крыше, и обсажен анемонами и лилиями. В этом доме, видимо, особенно любили лилии, их было множество — и белых, и красных; обильно росли также сапфировые ирисы, чьи нежные лепестки серебрились от водяной пыли. Среди скрывавшего горшки с лилиями влажного мха и пышных листьев виднелись бронзовые статуэтки детей и водяных птиц. На одном углу бассейна отлитая также из бронзы лань склоняла позеленевшую от влаги голову к воде, как бы желая напиться. Пол в атрии был мозаичный, стены, частью облицованные красным мрамором, частью расписанные изображениями деревьев, рыб, птиц и грифов, радовали глаз гармоничной игрой красок. Косяки дверей в боковые комнаты были украшены черепахой и даже слоновой костью, в простенках стояли статуи предков Авла. Везде ощущалось мирное довольство, чуждающееся роскоши, исполненное благородства и уверенности в себе.
Петроний, чье жилище было украшено гораздо более пышно и изысканно, не мог, однако, найти здесь ни одного предмета, который оскорблял бы его вкус; этой мыслью он тут же поделился с Виницием, но вот раб-веларий[110] отодвинул завесу, отделявшую атрий от таблиния[111], и в глубине дома показался спешивший к гостям Авл.
Это был человек, достигший вечерней поры жизни, но еще крепкий, с убеленной серебром головою и энергичным, быть может, несколько коротковатым лицом, в котором зато было что-то напоминавшее орла. Сейчас оно выражало удивление, даже беспокойство, вызванное неожиданным приходом Неронова друга, сотрапезника и наперсника.
Петроний был человек достаточно светский и наблюдательный, чтобы сразу это заметить, и после первых приветствий он со всем присущим ему красноречием и непринужденностью объяснил, что явился поблагодарить за заботу, которой окружили в этом доме сына его сестры, и что благодарность — единственный повод его прихода, на который он отважился, памятуя о давнем знакомстве с Авлом.
Авл со своей стороны уверил, что рад видеть такого гостя, а что до благодарности, то, мол, сам он преисполнен этого чувства, хотя о причине Петроний, наверно, и не догадывается.
Петроний и впрямь не догадывался. Напрасно он, подняв свои орехового цвета глаза к потолку, пытался припомнить хоть самую малую услугу, когда-либо им оказанную Авлу или кому другому. Ни одной не мог вспомнить, разве что ту, которую собирался оказать Виницию. О, разумеется, нечто подобное могло случиться помимо его воли, но только помимо воли.
— Я сердечно люблю и высоко ценю Веспасиана, — молвил Авл, — а ты спас ему жизнь, когда однажды, на свое несчастье, он заснул, слушая стихи императора.
— Напротив, то было его счастье, — возразил Петроний, — ибо он их не слышал, но не стану спорить, что оно могло закончиться несчастьем. Меднобородый так и рвался послать к нему центуриона с дружеским советом вскрыть себе вены.
— А ты, Петроний, тогда его высмеял.
— Да, верно, а точнее, наоборот, ему польстил: я сказал, что, ежели Орфей[112] умел песнею усыплять диких зверей, триумф Нерона не меньше, раз он сумел усыпить Веспасиана. Агенобарба можно порицать, но при условии, чтобы в малом порицании заключалась большая лесть. Наша всемилостивейшая Августа, Поппея, превосходно это понимает.
— К сожалению, такие ныне времена, — сказал Авл. — У меня недостает двух передних зубов, они выбиты камнем, брошенным рукою бритта, и с тех пор я говорю с присвистом, но в Британии я провел счастливейшие дни своей жизни…
— Потому что победоносные, — вставил Виниций.
Но тут Петроний, испугавшись, как бы старый полководец не пустился рассказывать о прошлых войнах, переменил тему. Вот, говорят, в окрестностях Пренесты[113] крестьяне нашли мертвого волчонка о двух головах, а во время недавней грозы был разрушен громом угол храма Луны — дело неслыханное в такую позднюю осеннюю пору. Некий Котта, сообщив ему об этом, прибавил, что жрецы храма предсказывают по сей причине падение города или, по крайней мере, разрушение какого-либо большого здания, что можно предотвратить лишь чрезвычайными жертвоприношениями.
Выслушав эту новость, Авл сказал, что, по его мнению, такими приметами пренебрегать нельзя. Боги, возможно, разгневаны неслыханными злодеяниями, и в этом нет ничего удивительного, стало быть, умилостивляющие жертвы вполне уместны.
— Твой-то дом, Плавтий, не слишком велик, — отвечал на это Петроний, — хотя живет в нем великий человек; мой же дом, конечно, слишком велик для такого плохого хозяина, как я, но он тоже мал. Если же дело идет о разрушении какого-то очень большого здания, вроде Проходного Дома[114], то стоит ли нам приносить жертвы, чтобы предотвратить его падение?
Плавтий на этот вопрос не ответил, и его осторожность слегка задела Петрония — хотя ему несвойственно было различать между злом и добром, он доносчиком никогда не был, и с ним можно было разговаривать вполне свободно. Снова переменив тему, он стал хвалить жилище Плавтия и заметный во всем убранстве хороший вкус.
— Дом этот старый, — сказал Плавтий, — и я ничего в нем не менял с той поры, как унаследовал его.
После того как отодвинули завесу, отделявшую атрий от таблиния, дом был виден во всю длину — через таблиний, через расположенный за ним перистиль[115] и следовавшую далее залу, или экус, взору открывался вид сада, как светлая картина в темной раме. Оттуда в атрий доносился веселый детский смех.
— Ах, доблестный вождь, — сказал Петроний, — разреши нам послушать вблизи этот искренний смех, который ныне так редок.
— С удовольствием, — ответил, вставая, Плавтий. — Там играют в мяч сын мой Авл и Лигия. Что ж до смеха, Петроний, мне кажется, у тебя вся жизнь проходит в нем.
— Жизнь достойна смеха, вот я и смеюсь, — отвечал Петроний, — но у вас тут смех звучит по-другому.
— Кроме того, — прибавил Виниций, — Петроний не то чтобы смеется целые дни, скорее он смеется целые ночи.
Так беседуя, они прошли по дому в сад, где Лигия и маленький Авл играли мячами, а предназначенные для этой игры рабы-сферисты подбирали мячи с земли и подавали играющим. Петроний окинул Лигию быстрым внимательным взглядом, маленький Авл, увидев Виниция, подбежал с ним поздороваться, а тот склонил голову, проходя мимо прелестной девушки, которая стояла с мячом в руке разрумянившаяся, слегка запыхавшаяся, с рассыпавшимися по плечам волосами.
Но так как в садовом триклинии, затененном плющом, виноградом и каприфолией, сидела Помпония Грецина, гости направились поздороваться с нею. Хотя Петроний прежде не бывал у Плавтия, жену его он знал — встречал ее у Антистии, дочери Рубеллия Плавта, и в доме Сенеки, и у Поллиона[116]. И все же ее грустное, но спокойное лицо, исполненная благородства осанка, движения, речь вызвали в нем чувство невольного удивления. Весь облик Помпонии настолько противоречил его понятиям о женщинах, что этот человек, славившийся в Риме своей испорченностью и самоуверенностью, питал к Помпонии известное уважение и даже иногда в ее присутствии терял привычную невозмутимость. Вот и теперь, принося ей благодарность за заботу о Виниции, он как бы нехотя то и дело вставлял обращение «домина»[117], которое не приходило ему на ум, когда он говорил, например, с Кальвией Криспиниллой, со Скрибонией, с Валерией, Солиной и другими знатными женщинами. После приветствий и изъявлений благодарности Петроний перешел к упрекам — он укорял Помпонию, что она так редко показывается на людях, ее не встретишь ни в цирке, ни в амфитеатре, на что она, положив руку на руки мужа, спокойно ему отвечала:
— Мы стареем и оба все больше ценим домашнюю тишину.
Петроний хотел что-то возразить, но Авл Плавтий, говоря, как всегда, с легким присвистом, дополнил слова жены:
— И чувствуем себя все более чужими среди людей, которые даже наших римских богов называют греческими именами.
— Боги с некоторых пор стали чисто риторическими фигурами, — небрежно возразил Петроний, — а поскольку риторике нас обучали греки, мне самому, например, легче произнести «Гера», чем «Юнона».
При этих словах он взглянул на Помпонию, как бы давая понять, что в ее присутствии никакое другое божество не могло прийти ему на память, а затем принялся оспаривать то, что она говорила о старости.
— О, конечно, люди быстро стареют, но это относится к тем, кто ведет совершенно иной образ жизни; кроме того, есть лица, о которых Сатурн словно бы забывает.
Это было сказано даже с долей искренности — Помпония Грецина, хотя и достигла послеполуденной поры жизни, сохранила необычайно свежий цвет лица, черты которого были мелки и изящны, и, несмотря на темную одежду, степенную осанку и грустный вид, производила временами впечатление совсем молодой женщины.
Между тем маленький Авл, подружившийся с Виницием, когда тот жил у них в доме, стал просить юношу поиграть в мяч. Вслед за мальчиком вошла в триклиний и Лигия. Под сенью плюща, с трепетными бликами света на лице, она теперь показалась Петронию красивее, чем при первом взгляде, и действительно напоминающей нимфу. Он встал, склонил перед нею голову и вместо обычных приветствий — а он ведь еще не сказал ей ни слова — обратился к ней со стихами, которыми Одиссей приветствовал Навсикаю[118]:
- Руки, богиня иль смертная дева, к тебе простираю,
- Если одна из богинь ты, владычиц пространного неба,
- То с Артемидою только, великою дочерью Зевса,
- Можешь сходна быть лица красотою и станом высоким;
- Если ж одна ты из смертных, под властью судьбины живущих,
- То несказанно блаженны отец твой и мать, и блаженны
- Братья твои…[119]
Даже Помпонии нравилась изысканная учтивость этого светского человека. Что ж до Лигии, та слушала его в смущении и, краснея, не смела поднять глаза. Но вот в уголках ее рта дрогнула шаловливая улыбка, на лице отразилась борьба между девической стыдливостью и желанием ответить — и, видимо, это желание победило: глянув в упор на Петрония, она ответила ему словами Навсикаи, произнеся их единым духом, будто заученный урок:
- Странник, конечно, твой род знаменит: ты, я вижу, разумен.
После чего, быстро повернувшись, упорхнула, точно спугнутая птица.
Теперь пришел черед Петрония удивляться — он не ожидал услышать Гомеровы стихи из уст девушки, которая, как он узнал от Виниция, была родом из варварского племени. Он вопросительно посмотрел на Помпонию, но та, не заметив его взгляда, ничего не сказала — в эту минуту она, улыбаясь, смотрела на сиявшее гордостью лицо Авла.
Гордость эту Авл и не пытался скрыть. Он был привязан к Лигии, как к родной дочери, и вдобавок, несмотря на свои древнеримские предрассудки, побуждавшие его метать громы и молнии против греческого влияния и его распространения в Риме, греческий язык был в его глазах признаком высшей светской утонченности. Сам Авл так и не овладел им, о чем втайне сокрушался, и теперь ему было приятно, что знатному гостю, да кстати и писателю, видимо считавшему его дом чуть ли не варварским, ответили на языке Гомера и его стихами.
— У нас в доме есть учитель-грек, — сказал он, обращаясь к Петронию, — он учит нашего мальчика, а девушка слушает. Она еще воробышек, но милый воробышек, и мы оба к ней привыкли.
Петроний смотрел сквозь переплетение плюща и каприфолии на игравшую в саду юную тройку. Виниций сбросил тогу и в одной тунике подбрасывал мяч, а стоявшая напротив него с поднятыми руками Лигия старалась мяч поймать. При первом взгляде девушка не произвела на Петрония большого впечатления. Она показалась ему слишком худощавой. Но, приглядевшись в триклинии поближе, он подумал, что, пожалуй, именно такой можно себе представить юную Аврору, — и как знаток женщин отметил в ней нечто необычное. Он все увидел и все оценил: и розовое, будто светящееся личико, и свежие, точно для поцелуя сложенные, губки, и голубые, как морская лазурь, глаза, и алебастровую белизну лба, и пышные темные волосы, отливающие на извивах янтарем или коринфской медью, и стройную шею, и божественную линию плеч, и всю ее гибкую, тонкую фигуру, юную и свежую, как майский день, как только что распустившийся цветок. В нем пробудился художник и почитатель красоты, который почувствовал, что к статуе этой девушки можно было бы сделать надпись «Весна». Тут ему вдруг вспомнилась Хрисотемида, и он едва не рассмеялся вслух. С золотистой пудрой на волосах, с подведенными черною краской бровями, она показалась ему такой безнадежно увядшей, какой-то пожелтевшей, осыпающейся розой. А ведь из-за Хрисотемиды ему завидовал весь Рим. Затем он вспомнил Поппею — да, всеми восхваляемая Поппея, подумал он, похожа на бездушную восковую маску. А в этой девушке с фигурой танагрской статуэтки[120] дышит не только весна — в ней живет лучезарная Психея, светясь в ее розовом теле, как огонь светится в лампе.
«Виниций прав, — подумал Петроний, — а моя Хрисотемида стара, стара… как Троя!»
И, оборотясь к Помпонии Грецине, он указал рукою в сад.
— Теперь я понимаю, домина, — сказал он, — что, имея такую пару, вы предпочитаете быть дома, чем на пиру в Палатинском дворце или в цирке.
— Да, верно, — ответила Помпония, устремив взгляд на играющих Авла и Лигию.
А старый полководец начал рассказывать историю девушки и то, что когда-то слышал от Ателия Гистра о живущем на сумрачном севере народе лигийцев.
В саду тем временем закончили играть в мяч, и все трое стали прохаживаться по песчаным дорожкам, выделяясь на темном фоне миртов и кипарисов наподобие трех белых статуй. Лигия держала маленького Авла за руку. Немного погуляв, они уселись на скамью у бассейна в центре сада. Маленький Авл тут же вскочил с места и стал пугать рыбок в прозрачной воде. Виниций же продолжал разговор, начатый во время прогулки.
— Было так, — говорил он тихо, с дрожью в голосе. — Едва я снял претексту, меня отправили в азиатский легион. В городе я почти не жил — не изведал ни жизни, ни любви. Я знаю наизусть кое-что из Анакреонта и Горация[121], но не сумел бы, как Петроний, читать стихи, когда ум от удивления немеет и неспособен найти собственных слов. Мальчиком ходил я в школу Музония, который говорил нам: счастье состоит в том, чтобы желать того, чего желают боги, — и потому зависит от нашей воли. Я же думаю, что есть другое, большее и более ценное счастье, которое не зависит от воли, ибо его может дать только любовь. Этого счастья сами боги ищут, вот и я, о Лигия, до сих пор не знавший любви, подражаю им и также ищу ту, которая пожелала бы дать мне счастье…
Он умолк, и некоторое время слышен был только легкий плеск воды, в которую маленький Авл кидал камешки, пугая рыб. Наконец Виниций снова заговорил голосом мягким и приглушенным:
— Ты, конечно, знаешь Тита, сына Веспасиана? Говорят, он, едва выйдя из детского возраста, так полюбил Беренику[122], что любовная тоска чуть не высосала из него жизнь. И я бы сумел так полюбить, о Лигия! Богатство, слава, власть — все это дым, суета! Богатый встретит еще более богатого, славного затмит чужая, еще более великая слава, могучего одолеет более могучий. Но разве сам император или даже кто-либо из богов может испытывать большее наслаждение, быть счастливее, чем простой смертный в тот миг, когда у его груди дышит дорогая ему грудь или когда он целует любимые уста? Ведь любовь делает нас богоравными, о Лигия!
А она слушала с тревогой, с изумлением, но также и с упоением, как слушала бы звуки греческой флейты или кифары. Порою ей чудилось, будто Виниций поет какую-то дивную песнь, которая льется ей в уши, приводит в волнение кровь и наполняет сердце томлением, страхом и непонятной радостью. И еще ей чудилось, будто он говорит то, что было и раньше в ней самой, только она не могла это выразить. Казалось, он будит в ней что-то до сих пор спавшее, и в эту минуту туманные сновидения обретают контуры, все более отчетливые, манящие и притягивающие.