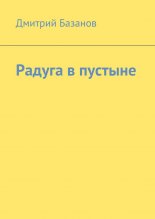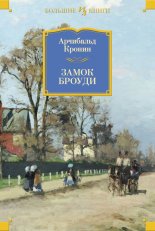Северный волк. Историческая повесть Прошак Людмила

…Старый охотник по прозвищу Бутора11 вывел Стефана сквозь тайгу прямёхонько к тому самому месту, кашлянул глухо:
– Вот это плесо, где внучка моя Ульянка через тебя утопла. Речка тут широкая, видишь, какие коленца гнёт, бежит – не догонишь…
Стефан кивнул старику и против воли опустился на мох. Сгорбился, опустив голову, чтобы лица не было видно. Бутора поглядел на побелевшие костяшки стиснутых кулаков Стефана и ещё тише, чем прежде, кашлянул:
– Ну, я, пожалуй, силки проверю, пока ты тут… – и ринулся в чащу, ничего не видя перед собой от застилавших глаза слёз.
Стефан остался один на один с рекой и Ульяной. Неспешные волны набегали на ветвистые корни сосен.
…Помощников, чтобы посчитаться с Кыской, искать не пришлось, сами вызвались. Старший дружинник – мало их при Стефане осталось, кто дальнего похода не перенёс, кто позже назад в Московию самовольно подался, от Севера спасаясь, – только головой покачал, себе под нос ворча:
– Вот так войско собралось, будто медведя с берлоги подымать, – и, отыскав глазами самого старого из вычегодцев, прокричал ему в самое ухо: – Ну куда ты, дедушка? Неужто, думаешь, мы без тебя оплошаем?
Бутора ничего не ответил, только посмотрел, насупившись, из-под лохматых бровей, кашлянул глухо и топор с руки на руку перекинул.
– Не замай его, – зашептали сзади, – он Ульянкин дедушка…
Налегли на весла, а Стефана отстранили:
– Ты лучше с Буторой на корму сядь, а мы тут. Для нас грести – дело рыбацкое, привычное.
Стефан покорно перебрался на указанное место. С той поры как Ульяны не стало, он словно окаменел, никто даже не слышал, чтобы он молился. Вот и сейчас сидел рядом с сурово застывшим на корме стариком и молчал. Лодку сносило влево, и гребцы, поднатужившись, развернули нос вправо – там, за быстрой стремниной, виднелось одинокое жилище туна. И вдруг коч, заскрежетав дном, замер. Мужики, свесившись за борта, пытались разглядеть, что там под водой их держит… Раздался всплеск – все вскинули головы: с кормы исчез Стефан, лишь чёрная ряса на скамье лежит. Все вскочили, всматриваясь в расходившиеся круги.
– Он что, как Ульянка?!
– Тише, – прикрикнул Бутора, – лодку потопите, вон он…
У левого борта отфыркивался Стефан. Десятки рук потянулись к нему, схватили под руки, втащили в лодку и, ошеломлённые, переглянулись: чёлн мягко заскользил вперёд.
– Никак движемся! Ты что сотворил, Стефан?
Тот, стуча зубами, выжимал рубаху:
– Там цепь была железная, отомкнул я ее, запор нехитрый был.
– Как отомкнул?
Стефан, облачаясь в сухую рясу, вздохнул:
– А крестом, как ещё…
– Крестом?!
Потрясённые, взмахнули веслами, обдумывая. И только когда приблизились к дому Кыски настолько, что уже стали видны тусклые оконца, один из мужиков осмелился полюбопытствовать:
– Стефан, а ты Кыску крестом порешить можешь?
– Нет, – покачал головой Стефан, – не могу, мой Бог человеколюбив.
– Даже к Кыске?
– Даже к нему.
– А ты тоже человеколюбив к Кыске, как твой Бог?
– Нет, – решительно замотал головой Стефан и, тяжело вздохнув, негромко добавил: – Видно, я не лучший его слуга…
Коч замотало из стороны в сторону. Один из гребцов побелел и бросил весло, оно скрылось во вспенившейся воде.
– Крепок заговор туна, – прошептал мужик, оправдываясь. – Ты бы, Стефан, еще крестом поработал, что ли…
– Эх вы, горе-рыбаки, – подал голос с кормы Бутора, – ослепли со страху, это сёмужка на нерест идет.
Вода вокруг кипела от сотен плавников серебрившейся в воде сёмги, стремящейся к прекрасному и трагическому концу своему пути: дать новую жизнь и умереть. Всё на белом свете подчиняется одному закону: чтобы возродиться, нужно почувствовать свою погибель…
Стефан вдруг вспомнил то первое, что написала Ульяна, как только он обучил её грамоте. Он тогда не то, чтобы свысока на неё смотрел, но всё же думал, что всему свой срок, он ещё научит её не только слагать буквы в слова, но и вкладывать в них чувство и мысль. Ан нет! Оказалось, этому-то Ульяну учить не надо, все это дремало до поры до времени в неразбуженной её душе. И когда на утро, краснея и робея, она протянула ему грамотку, он развернул, прочёл и поразился… И вот сейчас эти строчки ожили так не вовремя. А впрочем, почему не вовремя? Может быть, совсем наоборот?
- Что оставим мы
- После себя?
- Весне – половодье.
- Лету – туманы и звездопады.
- Осени – золото лиственниц.
- На первом снегу…
Без гибели нет возрождения. Без боли нет счастья. А без ненависти нет любви? Погрузившись в собственные мысли, Стефан не сразу и заметил, что коч уже причалил к берегу, у избы туна. Подперли дверь, принесли сухого валежника, зажгли. Язычки пламени вспыхивали и гасли. Тогда тот самый мужик, что упустил в воду весло, проворно шмыгнул в баню и выскочил оттуда с веником. Победно размахивая им над головой, дико заорал:
– А против собственного использованного веника заговор туна слаб! Жги его, убивца! – и, покосившись в сторону стоявшего поодаль Стефана, неуклюже перекрестился.
– Во как трещит, – сказал кто-то, – сейчас рухнет…
Но трещала не изба, а лишь оконце, которое высадил очумевший от дыма Кыска. И согнувшись в три погибели, он уже хотел было броситься в студеную воду, как дорогу ему заступил гневный Бутора. Наотмашь ударил Кыску топором. Тот упал, залившись кровью, попробовал было встать на колени, но получил второй, смертельный, удар и, умирая, успел расслышать хриплое:
– За Уллянку!
…Вернувшись, Стефан с головой ушёл в привезённые из недавней поездки в Новгород летописи и рукописные книги. Составленные из отдельных пергаментных листов, они представляли обрывки правды, которая того и гляди сгинет в стремнине лет. Стефан бережно подбирал их по времени и по смыслу, сшивал в тетради, терпеливо переплетал и прикреплял к деревянным доскам. Останется только обтянуть их нежной оленьей кожей и – на полку в книгохранилище, рядом со своими собственными трудами да с грамотками, нацарапанными неумелой, старательной рукой Ульяны.
А впрочем, какая разница, кем написаны все эти повести, поучения, жития? Важна суть, не книжная, а человечья истина о том, что каждый, кто имеет душу, носит в ней Бога. Это было как спасение – погружаться в исследование чужих радостей, невзгод, надежд. Воистину история – удивительнейшее путешествие по жизни. Но как ни силился нырнуть поглубже в колодец времени – всё напрасно.
Снова и снова возвращался к недавним дням. То ему Ульянка в часовне виделась, удивлённая и взволнованная, у распятия, то, смущённая и несмелая, со свитком своей берестяной рукописи на пороге его кельи, а то, разрумянившаяся, босая, старательно прибиравшаяся, как она с удовольствием выговаривала, в божьем дому. И поднималась в душе горечь и обида: «Что ж ты, Господи, её у меня отнял? Чисты мои помыслы были… Разве не может у инока отрада в душе быть? Я бы не обидел ее, Господи… Под венец бы с другим свёл, и детей бы её народившихся окрестил, были бы первые новорождённые христиане в земле Пермской. А то, может быть, она бы тебе, как я, служила, монахиней стала… Что ж ты наделал, Господи, как позволил злобе людской верх над собой взять?!».
…Стефан взял одну из заготовленных досок – тщательно обработанных, просушенных. В них так много общего с чистым листом пергамента, подкарауливающим мысль! Но доска ждёт не мысли, а образа. Чьего на этот раз? Николая Чудотворца? Святой Троицы? Сошествия Святого Духа? Спаса Нерукотворного? Или Неисчерпаемого Человеческого Духа?.. Посмотрел на ютившиеся в углу краски, составленные на яичном желтке, соке растений по рецепту, привезённому от новгородских иконописцев, и склонился над доской, припал к ней, как к последней отраде возвращающейся из небытия души. Закончил на рассвете, когда угасла, шипя, свеча, и солнечный луч скользнул по непросохшим краскам, выхватывая из мглы удивлённо-горестные глаза, простёртые вперед руки, будто разрывающие круг вечности… Не сразу и почуял, что в келье не один: прислонившись к дверному косяку, как изваяние, стоял смурной Бутора.
– Слышь, – начал тот не поднимая головы, – я тут со служкой твоим говорил, так он сказывал, убийство – грех, самоубийство – тоже грех. Это правда? Я не за себя, пусть я грешник, если б можно было, я бы Кыску ещё раз убил, я – за Уллянку. Правда, что самоубийство – смертный грех?
Старик взыскательно посмотрел на Стефана. Тот кивнул.
– Правда?! – Бутора подался вперёд, – Это моя-то Уллянка в глазах твоего Бога грешница?!
Стефан встал, зачем-то коснулся креста, висевшего на шее, и резко, словно бинты с запекшейся раны срывал, ответил:
– Бога не трожь! Ульяна перед ним ни в чём не виновата. Она сейчас на небе, потому что святая. А чтобы на земле её не забыли, я пустыню во имя Спаса Нерукотворного Образа решил основать. А там, с Божьей помощью, и Ульяновский монастырь построим, чтобы в веках помнили. И на тебе, дедушка, греха нет, отпускаю я тебе все твои грехи. Ты сделал то, что я не смог.
…Однажды под утро в келью ворвался послушник. Забыв перекреститься на иконы, с порога выпалил:
– Беда, преподобный! Новгород против Перми опять войско направил. У Чёрной речки уже стоят. К нам лазутчик прибежал, тебя дожидается. Сказывал, новгородцы на то рассчитывают, что на сей раз устюжские дружины к нам на подмогу не поспеют, как прошлым летом…
Послушник тараторил, а сам всё косил глазом на книги и летописи, громоздившиеся на просторном столе. «Чудно, – думал про себя монах, – владыко днями и ночами напролёт просиживает в келье, читает или пишет. Зачем ему это, если он и так все молитвы наизусть знает?» Стефан перехватил любопытный взгляд и отослал инока, внезапно осерчав. Нечего глазеть на единственную отраду его сердца! Книги – тайная его страсть, его дети, его наследники… Это – не для чужих пытливых глаз. Но нынче не до книг. Что ж, опять воевать? За Пермь? Или за Москву? На Новгородском вече все – духовные и миряне – крест целовали в том, что Московский митрополит им не указ. До Москвы далеко, а Пермь – вот она, разом с ним, её ставленником, как на ладони. Стефан провел рукой по лицу, стирая усталость. Тяжко вздохнул и опустился на колени. Читал затверженную молитву так, будто слова эти были вживлены в его душу. И вдруг запнулся, замолчал. Болело, нестерпимо болело сердце от усталости и боли. Стефан поднял отчаянный взгляд:
– Что ж это, Господи? Я один… Опять один… Всё перетерпел от неверных – озлобление, ропот, брань, хулу, укоры. А однажды чуть не взошёл на костёр… Я здесь и законоположник, и исцелитель, и креститель, и проповедник, и исповедник, и учитель, и стражевой, и правитель. А был – монах! Господи, ты же человеколюбец, ты всё про меня ведаешь. Ты ведь знаешь, я сызмальства отчий дом на монастырь променял, дабы учиться грамматической премудрости и книжной силе. Книжник я, Господи, книжник, а не воин, не правитель! Ну где же Москва со своею княжьей силой? Я один здесь, Боже праведный. Ты и я, и снег, снег, снег… Я не в силах один искоренить зла и глупости человеческой. Где власть – там и многие обиды… За что ты возложил на меня сей крест, Господи?!..
Монахи и дружинники топтались, не смея войтив келью. Меж собой тревожно судили: время не терпит, что ж владыка медлит? Дверь кельи неожиданно отворилась. На пороге предстал Стефан в чёрной дорожной рясе.
– Чтобы убивать друг друга, ума много не надо. Новгородцы нам братья. Христиане, как и мы. Объединять Русь надобно, а не ослаблять распрями междоусобными. Дружина наша пусть выступает к Чёрной речке, но на тот берег не переходит. Супротив стоять, спуску супостатам не давать, но самим бойню не развязывать. А я в Новгород на переговоры еду.
Кинулись седлать лошадей…
Архиепископ Новгородский Алексий встретил Стефана как подобает сану обоих: степенно, без суеты, с радушным почтением. Слушал не перебивая, обещал поспособствовать мирным переговорам, а заодно и о своей печали пожаловался:
– Ересь у нас в Новгороде, как чума расползается. Карп Стригольник всех с толку сбивает, моего диакона Никиту на свою сторону переманил. Как быть – не знаю. Я уж и патриарху Нилу писал, чтобы надоумил, как искоренить зло благоразумными убеждениями. Он мне в подмогу Дионисия Суздальского прислал, да тот, похоже, не намерен увещевать. Горячится преподобный… А ты, Стефан, сказывают учён зело, греческий знаешь. Составил бы ты поучение против ереси стригольников, а я уж в твою пользу мирные переговоры с нашим князем поведу. Так как, согласен?
Стефан корпел над рукописью день и ночь напролёт. Однако в трапезную к архиепископу каждый раз, как тот звал его, шел не мешкая. Знал, что за кубком доброй монастырской настойки – особенно хороша была клюквенная – будут они с Алексием не одни. Дипломатичный архиепископ зазывал в эти вечера самых влиятельных великокняжеских бояр. Питие развязывало языки, стирало границы. Бояре покидали трапезную не столько хмельные, сколько изумлённые: шли к святым отцам, а попали к государственным деятелям…
Уж были подписаны хартии о мире между Новгородом и Пермью. Уж монахи переписывали набело поучение против ереси, а иные седлали коней, чтобы донести благоразумное увещевание до тех, кто мечется, как свеча на ветру, между русской церковью и стригольниками. И в это самое время в Новгород прибыл Дионисий Суздальский. Повстречались, как водится, за чарой.
– Читал я твоё поучение, Стефан. Зело учёно, но до самого сердца пробирает. Большое дело ты сделал…
Заговорили о прежних временах, об общих знакомцах – Герасиме, Митяе, Великом князе Димитрии Иоанновиче… Засиделись, сумерничая и вспоминая. В дверь тихонько поскребся прислужник. Алексий спросил на правах хозяина:
– Чего тебе? Велено было не тревожить или как?
Прислужник согнулся и зашептал владыке что-то на ухо. Алексий удивленно оборотился к Дионисию:
– К тебе гонец…
– Ну так пропустите его, – тяжело усмехнулся Дионисий, – послушаем, что скажет.
В трапезную, пригнувши голову, шагнул плечистый монах. Быстро обежал всех присутствующих глазами, остановился на Дионисии и, смиряя бас, прогудел:
– Владыко, утопили главных виновников раскола, Карпа Стригольника, диакона Никиту… Запамятовал я третьего…
– Кто утопил, зачем? У них же ученики есть! – не вытерпел Стефан.
– Кто утопил? – переспросил Дионисий. – Народ! Народ, прозревший от твоего поучения против ереси.
И, уже обращаясь к гонцу, резко поднялся:
– Так было?
– Так, – пряча усмешку, кивнул гонец и попятился к двери…
Три епископа тягостно молчали, каждый думал свою думу. Наконец, Дионисий шумно вздохнул и сам себе плеснул настойки. Выпил, никого не приглашая, и обронил, усмехаясь мрачно, всеми тяжёлыми чертами лица:
– В одном покойники были правы: лихоимство церкви терпеть противно, всё продается, всё покупается. Таково бремя Византии… – и ухмыльнулся едко, искоса глянув на Стефана. – Это ты у нас, правитель зырянский, как снег чист, с поучением да наставлением…
Вскоре простились. Стефан отправился в обратный путь, снарядив заодно и хлебный обоз. Лошади шли, увязая по брюхо в снегу. За околицей передний конь встал. Стефан открыл глаза и сбросил с себя кожух. Впереди по санному следу брел маленький человечек, путаясь в овчине до пят. Завидев над собой конскую морду в инее, отступил в сугроб.
– Куда собрался? – окликнул его Стефан.
Чумазый отрок слабо махнул длинным рукавом и сиплым, простуженным голосом безразлично ответил:
– Та – а… Никуда!
– Ты чей?
– Стригольники мы…
– Кто? – опешил Стефан, чувствуя, как холодеет душа.
– Стригольники, – повторил малец, шмыгая носом. – Не знаешь, что ли? Это те, которых намедни поутру чёрные монахи в проруби топили…
– Да какой ты стригольник, – осерчал Стефан, вынимая его из сугроба, – ты от кого род ведешь?
– Я же говорю, Алеша я, Стригольник. Батяня мой был Стригольник и дед тоже.
– Родом ты Пермяк, вот кто! Запомни накрепко, Алексий.
Унёс его в сани, уложил, прикрыл кожухом и стегнул коня…
…Минули годы, пролетели в трудах и заботах, как дни. Вести из белокаменной к Стефану доходили с большим опозданием – через полгода, год, а то и спустя несколько лет. О том, что упокоился в Архангельском соборе Кремля Великий князь Димитрий Иоаннович; что Цареградскую кафедру вместо умершего патриарха Нила занял Антоний; что дважды низложенный московский митрополит Пимен скончался, подъезжая к Царьграду; что новый князь Василий Дмитриевич, дабы положить конец церковной смуте, принял митрополита Киприана, которого отказывался до последнего своего часа принять его отец, Великий князь Димитрий Иоаннович; что сын решился и вовсе на неслыханное: четвертовал на красной от крови московской площади мятежников из Торжка и Новгорода, как врагов государя Московского…
В шесть тысяч девятьсот четвертом году12 Москва встретила епископа Пермского пышной суетой… Но он приехал не ради благосклонных взглядов и великодушных кивков, а ради нужных вопросов, к спасению людей относящихся.
– Край полнощный, близ Каменного Пояса, скудный людьми, изобилует сокровищами природы, в коих у Москвы нужда великая. Но источники эти иссякают от возрастающих непомерных тягот. Дани тяжкие надобно ослабить. Земля Пермская ждёт от младого князя Василия Димитриевича заступничества, истины и добра… Ибо настанет такой час, что Север будет держать на своих плечах Великую Русь!…
После, в трапезной, обносили красным вином. Стефан пригубил и поставил на стол. Зорко следивший за ним митрополистский боярин зашептал, что-де нельзя, от чистого сердца чару поднесли. Стефан допил. А вечером почувствовал, что занемог…
…Епифаний затворился в келье, точил перья, разводил чернила, пытаясь унять дрожь в руках. Инок понял всё.
«Напрасно же отпустили тебя в Москву, там ты и почил. Потому обида у нас на Москву, справедливо ли, имея у себя митрополитов, святителей, взять у нас единственного епископа… Он землю Пермскую, как плугом, проповедью вспахал, учением словес книжных, как семенем, засеял в браздах сердечных… Живы будут эти сердца в веках…»13
В Пермь известие пришло ночью. Хотели ударить в колокол. Но над землёй металась вьюга. Колокола сами собой издавали печальный звук. Сильная буря сломила крест на Ульяновском монастыре…
3. 1918—2001
Набросили петлю-удавку на синюю маковку, увенчанную крестом. Махнули стоящим внизу. Возница, пряча глаза, стегнул битюгов. Те нехотя взяли с места и побрели, медленно натягивая веревку. Та задрожала от напруги, как струна. Лошади остановились и скосили глаза на людей: вся деревня высыпала на площадь.
– Даёшь! – крикнул приезжий начальник.
Он давно уже продрог на морозе в своей тонкой шинелишке. Ему не терпелось покончить с Богом побыстрее. Возница стегнул кнутом. Веревка дернулась. Раздался треск – какой-то странный, словно не дерево ломалось, а тонкая материя рвалась по живой нитке… Эхом подхватила этот всхлип тайга и бережно донесла на своих зеленых ладонях до верховьев Вычегды, где начинал свой путь Стефан Пермский, до основанной им Спасской пустыни, до Ульяновского плёса… Маковка наклонилась, синяя на голубом небе, и рухнула вниз. Ударилась о мёрзлую землю, раскололась надвое. И лежала в грязи, как обломки потерпевшего крушение корабля, выброшенного на дикий берег… Из церкви вывели священника. Поникший старик путался в ветхой рясе. Старший кивнул красноармейцу. Тот подтолкнул арестанта штыком.
– Куда вы его? – робко спросили из толпы.
Старший поднял воротник шинели, то ли заслоняясь от ветра, то ли отгораживаясь от вопросов. Активисты отодрали от забора две доски и прибили крест-накрест на дверях храма. Старика приезжие посадили в лодку. Сели сами. Оттолкнулись от берега, зачерпнув веслом ледяную кашу – по реке накануне ледостава шла шуга. Село столпилось у воды. Смотрели вслед… Пятью годами раньше этот священник оставил приход единственному сыну:
– Устал я перед Богом ответ за всех держать.
В алтарь больше не поднимался, но молиться продолжал усердно, выстаивая вместе с прихожанами все сыновние проповеди. Однажды во время заутренней вошли чекисты.
– «Печорский Чапаев»! – прошелестело в толпе.
Мандельбаум знал это своё прозвище. Ему оно было по вкусу. Но ещё больше ему нравился тот трепетный ужас, который он внушал своим появлением повсюду. Поигрывая плёткой, он вошёл в храм. Молодой священник, прервав проповедь, поднял на вошедшего глаза и услышал:
– Гражданин Спасский! Именем революции вы арестованы!
Мандельбаум вышел из церкви, бросив через плечо:
– Взять попа за антисоветскую агитацию!
Прямо со службы увели молодого батюшку, посадили в лодку и повезли вниз по реке. Первая пороша замела и следы убийц, и винтовочные гильзы, и окровавленное тело… Отец отслужил за упокой, едва держась на ногах. А наутро селяне с удивлением обнаружили, что церковь открыта и служба вот-вот начнётся. Так продолжалось до этого дня.
– Куда вы батюшку? В нем душа еле держится! – надрывно кричали с берега вслед удаляющейся лодке.
– Да в ссылку его, – не выдержал председатель сельсовета, примкнувший к народу. – Ничего, везде люди живут, а нашему брату и того легче, ведь с Севера на Север везут.
…В тысяча девятьсот девяносто третьем году по весне в Усть-Нем прилетел второй секретарь обкома партии Стефанов. До этого побывал в соседнем селе. Решил «по пути» проверить, как там школа строится. На Севере ведь и полторы сотни верст – и то считается почти рядом. Так вот и здесь. Вертолёт «на точке» сел – возле строительной площадки.
– Ну как дела подвигаются?
– Помалу идут, – чешут в затылках мужики.
Председатель сельсовета, вздохнув, вперед выступил:
– Сваи забили, копать начали – внизу кладбище.
– Ну что теперь? И сваи не достанешь, и начатое не бросишь. В общем, мужики, либо школе абу14, либо… – и с горечью, со злой болью: – Что ж вы стариков не расспросили?! А теперь уж что! Строить надо.
Вертолёт, перелетев из села в село, приткнулся на краю взлетного поля. Стефанов привычно сбежал по трапу. Следом за ним из вертолёта спустился молодой священник. Спрыгнул и замер. Вдоль поля теснились сотни людей. Нарядные дети, присмиревшие подростки, молодки в белых платках, трезвые мужики, строгие старухи, кряжистые старики – все стояли и смотрели на прилетевших. Такие разные, а во взгляде что-то объединяющее всех, какая-то спокойная вера в праздник, который пришел и на их улицу.
– Пойдем, отец Иоанн, – позвал Стефанов. – Народ ждёт.
Люди собрались ещё с утра. Из соседних посёлков пешком пришли, за сотню километров на моторных лодках приплыли в Усть-Нем – деревню, дальше которой в этом районе и нет ничего. Две молоденькие учительницы, похожие на старшеклассниц, подбежали и выпалили, вторя друг дружке:
– Ох, Господи, а мы боялись, вдруг да не прилетите!
Служба шла в школе, туда вместились не все. Тогда открыли окна, чтобы было слышно и на улице. Кто-то в толпе спросил:
– А секретарь обкома тоже здесь? Что же – вчера партийным атеистом был, а сегодня крестится?
– Тише ты, – одернули, – что же он, не человек?
Стефанов же для себя решил: «Пять минут на службе побуду и – в леспромхоз, „генералов“ полный вертолёт, дела не ждут…».
Решить-то решил, но вместо пяти минут все сорок пять со свечкой простоял: «Даже из пушек нельзя расстрелять потребность россиян остаться один на один с собой и помолиться. С двадцать шестого года ни одной службы в этом селе не было, а спустя шестьдесят с лишним лет оказалось, жива вера! Боже, какой же она должна быть людям необходимой!.. Созрею ли я когда-нибудь для исповеди? Не знаю, тут нужен искренний порыв. Но я уважаю, когда это есть в других…»
Осторожно протиснулся к выходу и – в лесхоз.
За батюшкой вернулся к вечеру, когда солнце уже садилось за верхушки сосен. Пожилая женщина устало облокотилась на перила крылечка, не таясь, курила.
– Тяжело такую долгую службу отстоять?
Бывшая пионерка и комсомолка по-фронтовому затянулась беломориной:
– Ну уж нет, раз за шестьдесят семь лет – это недолго… Но вы правы: тяжело. Очень!
Закончили на вечерней зорьке. Всем миром поставили обетный крест, батюшка освятил памятник погибшим в Великой отечественной войне, окрестил две с половиной сотни ребятишек – от грудных младенцев до школьников. Молитвы пели всем народом. И был среди народа тот, кто молился особенно истово – внук расстрелянного священника, урождённый Спасский…
– Что же не сказал, что едешь туда, – огорчилась жена. – Я ведь тоже из рода Спасских, а расстрелянный священник – мой дед. Мама, хоть и маленькая совсем была, а все же запомнила, как всю их семью, в которой было четверо детей, выгнали из дома. Хорошо, селяне помогли…
Стефанов молча слушал, прикрыв рукой глаза. Его охватило очень странное чувство, словно всё это он уже знал заранее. И когда оказался в Софийском соборе, и когда дал слово молодым учительницам, основавшим православную общину, привезти в их село священника… Конечно, не всё, что с нами случается, стоит того, чтобы придавать этому особое значение. И все же как часто в том, что происходит с нами ВДРУГ, есть порой величайший, сокрытый до поры до времени смысл. «Случайность!» – говорим мы, когда не в силах понять, о чем нам тщится сказать Жизнь. Стефанов поднял глаза на жену, оторвавшись от своих мыслей.
– Мама, выйдя замуж за партийца, скрывала, что в Бога верит. Я помню, как папа отчитывал её, узнав, что она меня – пионерку! – тайком окрестила: «Хочешь, чтобы меня с работы сняли?! Ты когда-нибудь забудешь, что ты – поповская дочь?!» Мама рассказывала, как разрушали Стефановский собор, чтобы поставить на его месте памятник Ленину. Она это видела. Мне кажется, всю свою жизнь мама не могла избавиться от чувства страха и от чувства веры. И всё это поровну… А знаешь, что тяжким крестом лежит на всем роде Спасских? То, что у деда нет могилы, никто ведь толком не знает, где его расстреляли.
…В тайгу пошли едва ли не всем селом. Нашли поляну, которую вековечные сосны обступили, как солдаты на посту. Солнце грело мшистый холм посреди зеленого безмолвия.
– Здесь его тогда нашли, – уверенно указал один из старожилов, – когда Мандельбаум ушёл, мы по следу пробрались. Смотрим, рука… Едва ветками закидали. Не потрудились могилу вырыть. Мы его с тайги привезли, тайком похоронили. А убили его здесь.
– Ну вот, тут и поставим Памятный крест, – тихо сказал Стефанов, – как над вечным покоем будет…
Не суетясь, мастеровито и споро, водрузили в центре холма собственноручно срубленный крест…
– Ве-ечна-ая па-амя-амять!.. – возвестил священник.
Его густой бас был подхвачен и усилен, как эхом, сотнями голосов… Вечная память…
…Утро Девятого Мая тысяча девятьсот девяносто шестого года началось в Москве с поисков патриарха Московского и Всея Руси.
– Как нет в столице? В такой праздник оставил Москву?! – отказывались верить в мэрии, обрывая телефоны патриархии. – Куда он полетел?.. Куда? В Коми? Зачем?!!
Республика праздновала Девятое мая и шестисотлетие успения Стефана Пермского, который ушёл в бессмертие именно в тот день, в который российская земля спустя полтысячелетия стала праздновать свой великий День победы. И именно в этот день на Пермскую землю ступил Патриарх Московский и Всея Руси. Впервые за многовековую историю существования христианства Коми.
Стрела крана дрогнула и, будто часовая стрелка, медленно поползла по бело-голубому циферблату неба. Стефанов, как и все, кто был сейчас у подножья собора, стоял, задрав голову вверх. Золотой купол, подхваченный кранами, поплыл навстречу взмывшему ввысь храму.
– Повыше будет, чем у Юрия Михалыча! – удивился московский инженер, поправляя съехавшую на макушку каску.
Его «со товарищи» пригласили поднять купола, и Игнатович сам не заметил, как втянулся в действо, с грустью подумывая о том, что еще день-другой, работа будет закончена и надо будет возвращаться восвояси. А золотой купол тем временем увенчал собор, взметнувшийся в небо охристыми стенами. Последний…
Едва рассвет забрезжил, «поповская дочь», урожденная Спасская, проснулась с чувством, что нынче – день особенный. Зоя Георгиевна с вечера предупредила, что сегодня будут ставить купола. Старушка с грустью подумала, что стала слышать совсем плохо, дочери приходится кричать, чтобы она поняла сказанное. Да что там слух! Жизнь уходит, отдаляются воспоминания, как тают звуки убегающего эха. Но сейчас у неё было такое чувство, словно река Времени побежала вспять. Она очень боялась разочароваться, раньше времени выйти на балкон, с которого будут видны купола, как только их установят. День был на исходе, когда она, наконец, отважилась, выбралась на лоджию: в лучах предзакатного солнца купола отливали багрянцем.
– Бог меня не забыл! Куполами папа ко мне вернулся, – поразилась урожденная Спасская, а губы уже шептали затверженную в детстве молитву.
«Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что всё ниспослано Тобою……»
Между тем инженерный спектакль подошел к концу. Замерли башенные краны, спустились на землю крановщики, чтобы посмотреть на творение своих рук теперь снизу вверх. Снял каску, вытирая вспотевший лоб, и Игнатович.
– Кирилл, – позвали его коллеги, – пока здесь мастерицы из Софрина работают, хорошо было бы, чтобы и от нас, высотников, кто-то здесь находился, – вдруг что-нибудь понадобится. Ты как, домой спешишь или не очень?
– Да разве ж это проблема, я остаюсь. Запросто!
У него было странное предчувствие перемен, которые, теснясь, обступали его, исподволь подготавливая к главному решению в его жизни. Командировка уже закончилась три дня назад, но он продолжал сидеть подле софринских мастериц. Те свыклись с его присутствием, да, впрочем, и некогда им было входить в подробности, кто он, что он, почему прикипел к ним душой, они торопились закончить иконостас. Отрывались от работы лишь когда приезжал Стефанов, про себя удивляясь, что он, а не владыка, бывает здесь чаще. Однажды Игнатович оказался лицом к лицу с Главой.
– Да, если только, не дай бог, не появятся снова те, которые «весь мир насилья…»
– Вряд ли удастся разрушить ещё раз.
– Не надо разрушать, достаточно просто равнодушно смотреть. Но нам смотреть некогда, надо построить не просто церковь, а духовный центр, чтобы училище было, воскресная школа, колокольня, – перечислял Стефанов, не отрывая взгляда от софринских мастериц. – Так что это только начало.
III. Истинные сибиряки
О первооткрывателях и притоке речки Колымы Зырянке
1. 1968—1998
Геолог Сошкин, на днях защитивший в Москве кандидатскую диссертацию о разведке алюминиевых руд на северных территориях СССР, только что расписался за вручённое ему курьером приглашение на беседу в обком партии. Ким Дмитриевич ликовал, мысленно воображая, как практика, подпитанная наукой, приведёт к тому, что советские бокситы15 бурным потоком устремятся на металлургические заводы родного Свердловска.
Собрав заветную папочку с далеко идущими идеями, Сошкин явился на четверть часа раньше назначенного срока. Просидев в приемной полтора часа свыше назначенного времени, он наконец был допущен в кабинет инструктора отдела тяжёлой промышленности. Дородный Шевчук из-за стола поднялся неожиданно легко и радушно шагнул навстречу.
– Здравствуй, – по-партийному демократично пробасил он геологу, которого видел впервые. – Времени в обрез, к сталеварам опаздываю.
При упоминании о заводе Сошкин встрепенулся. Шевчук, похлопав по лежавшей на столе тощей папке, пробасил:
– Вот что, Сошкин, есть мнение, что ты знаток бокситов. Автореферат твоей кандидатской читал, молодец, толково. Такие люди нам нужны. Пр-рямо одобр-ряю!
Инструктор с удовольствием прислушался, как пророкотали согласные в последней фразе, и поднажал:
– Дуй к моему помощнику, он тебе поможет оформиться в командировку. Бокситы будешь добывать в Маданге.
– Где? – переспросил Сошкин. – На Магадане?
Шевчук, покачав головой, выдержал паузу и очень весомо произнес, понизив голос до доверительной нотки:
– В Маданге. Это в Новой Гвинее, дружище, где ж ещё.
От панибратской раскованности и следа не осталось. Шевчук построжел, потяжелели складки у губ, он набычился, подался вперёд, глыбой нависнув над Сошкиным:
– Может, мне к металлургам и не ехать, тебе лекцию о международном положении читать, о расширении социалистического лагеря странами третьего мира, а, Сошкин?
– Не надо, – попросил геолог севшим голос, – я уже еду.
– То-то, – заулыбался инструктор, нажимая кнопку селектора, чтобы передать Сошкина на руки помощнику.
– Смотри не подведи меня, – догнал геолога у самого выхода шевчуковский бас. Раздумавший ехать к металлургам инструктор удобно устроился в кресле за огромным столом: «Мы, Сошкин, не каждому доверие оказываем, за границу посылая».
Через три часа Ким вышел из обкома, прошёл мимо неподвижного постового в тулупе и, поравнявшись со скамейкой, едва выглядывавшей из-под снега, плюхнулся на неё и достал из кармана загранпаспорт с открытой визой. Сидел и смотрел на синие в вечерних сумерках снежинки, пытаясь представить вместо родной тайги джунгли.
…Двадцать пять лет спустя поседевший Сошкин, натянув шапку на замерзшие уши, стоял и смотрел вслед колонне самосвалов, увозивших первые бокситы Тимана.
– Ким Дмитрич, – окликнул его садившийся в джип главный инженер, – поехали на митинг!
– Ох, – смешался Сошкин, – да я митинги эти…
– Да ладно, – рассмеялся главный инженер, – тут другое.
Митинг между тем уже начался. Сошкин, отмахнувшись от приглашения присоединиться к фирмачам, у которых он с недавних пор работал консультантом, остался стоять у джипа. Его захлестывала волна едкой иронии. «Приученного к митингам совкового человека и морозом не проймёшь», – усмехнулся про себя Ким Дмитриевич, наблюдая за сослуживцами. На импровизированной трибуне президент компании, окладистой бородой напоминавший священника, обратился к седоголовому человеку, державшему шапку в руке:
– Фёдор Тимофеевич, день сегодня исторический, тридцать лет ждали начала отечественной разработки бокситов…
– Почему ждали? – усмехнулся тот, шагнув к микрофону, – готовились к этому дню, работали. Нашли, разведали, защитили, отработали технологию обогащения. Когда в Екатеринбурге у власти толковый губернатор стал, начали двойной тягой толкать. Бумаги не у одного премьера на столе лежали, только они их подписать не успевали, сменяясь. Конечно, не так бы хотелось начинать дОбычу. Хотелось бы сразу иметь инфраструктуру, чтобы условия жизни получше были, и чтобы железная дорога уже была здесь. Только, я думаю, идеализировать нечего. Да, у нас стала зарождаться горнорудная промышленность, но она пошла в самое тяжёлое время. Без участия правительства вряд ли нам поднять это.
Седоголовый, на мгновение задумавшись, добавил:
– Поэтому мы решили сдвинуть проблему с мёртвой точки старыми методами: сначала ввязаться, а там посмотрим, что получится. Только делом можно подтолкнуть тех, от кого зависит сегодня финансирование этой большой работы – создания отечественной сырьевой базы алюминиевой промышленности, которую мы растеряли с развалом Советского Союза. Впрочем, если вспомнить, какие мы деньги вкладывали в развитие других стран, в частности, Гвинеи…
Сошкин встрепенулся и, не отрывая взгляда от говорившего, стал продвигаться вперед.
– Строили там не только заводы, рабочие места создавали, а своё лежит вот под ногами, – кивнул седоголовый на заснеженную вечную мерзлоту. – Но когда тяжело, когда сложно, хозяин появляется всегда. Потому сегодня бокситы пойдут на простаивающие уральские заводы. А Север жил, живёт и будет развиваться. Не дай бог, если у кого-то появится червячок сомнения.
Сошкин, подхваченный толпой, влился в фойе старого клуба. Вдруг кто-то по плечу хлопает, оглянулся – главный инженер.
– Пошли, чайком с водочкой погреемся с морозца.
Вошли в кабинет директора клуба, там начальство толпится – не столько вокруг стола, сколько вокруг седоголового. Тот, смачно откусив кусок булки, прищурился:
– Не выдерживают наши мужики ваших темпов работы, серчают. Тут один ко мне подошел, говорит, я вот раньше думал, Стефанов мужик, что надо, а теперь вот задумался, зачем нам бокситы эти, вы что, этим фирмачам месторождение продали? Отвечаю: ничего не продавали, для нас это перспектива развития. – Прожевал и очень серьезно добавил: – Для нас первый вопрос: будет ли глинозёмный завод. Второй вопрос и того острей: а когда будет глинозёмный завод?
И, заметив, как ходят плечи у Сошкина, отвернувшегося к окну, чтобы не заметили его неудержимого веселья, спросил:
– Че смеётесь, дорогой товарищ?
– Да я не чё, – в тон ему ответил Ким Дмитриевич, – вот бы вас хоть какой-нибудь завалящийся партократ послушал…
– Так я он и есть, только не завалящийся, а самый что ни на есть махровый…
– Ну, значит, вы перестроились, – криво улыбнулся Сошкин, – потому что все, что вы говорите и делаете, противоречит партийному стереотипу.
Стефанов порывисто поставил стакан с едва не расплескавшимся чаем на стол:
– В партийной системе тоже работали корифеи, имели богатый опыт за плечами. Люди, которые замахиваются на власть, не должны морочить голову шараханьями «великих» реформаторов – от общей приватизации к общей коллективизации и обратно. Кому нужен Госплан с пустым чемоданом? Это не я говорю – экономика говорит. Она играла и будет играть главную роль, эта дама. Как она скажет, так и будет, – и, небрежно нахлобучив шапку на седую голову, добавил: – Это вам говорит старый партократ.
Ким Дмитриевич замер, пожирая Стефанова глазами. Что-то очень знакомое было в том, как тот надевал шапку. Когда дверь за Стефановым и его провожатыми закрылась, Сошкин вдруг со стоном хлопнул себя по лбу:
– М-м-м! Вспомнил!
…Четверть века назад Сошкин, вернувшись из Гвинеи, должен был вскоре лететь во Вьетнам. А пока у него был по-холостяцки неприкаянный отпуск, который он не знал на что потратить, равно как и заработанные в Африке деньги. Выручил случай. Сошкин позвонил своему бывшему однокурснику Шурику Ерохину.
– Ким! – обрадовался тот. – Молоток, что позвонил. У нас Тиманская гряда тянется на тыщу километров, и все бокситы, бокситы!.. Мы на той неделе туда летим, айда с нами!