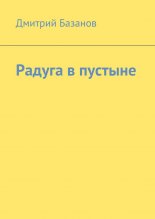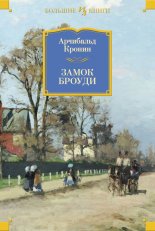Северный волк. Историческая повесть Прошак Людмила

Сошкин, не раздумывая, схватил рюкзак – и в аэропорт. Шурик у трапа встретил:
– Здорово, что ты сразу выбрался, я уже боялся, что без тебя лететь придется, у нас тут оказия – «вертушка» на гряду уходит. Айда!
Ким, взвалив рюкзак, побежал за Шуриком. В вертолете валом лежали огромные рюкзаки, впритирку друг к другу сидели бородатые парни в хаки. «Геологи», – безошибочно определил «своих» Сошкин. Под медленно раскручивающимся винтом стоял лобастый мужик, сдвинувший на макушку спортивную шапку. Рядом с ним надрывался интеллигент, державший обеими руками готовую слететь с головы шляпу:
– Фёдор Тимофеевич, первому ваша поездка не нравится! Некорректно, что завотделом горкома летит в чужой район!
– Да я с ребятами-геологами на бокситы улетаю, – отмахнулся тот, – а в ваши эти игры не играю!
– О-ох, Фёдор Тимофеевич! – простонал «шляпник».
…Вертолёт, стрекоча как гигантская стрекоза, пошёл на снижение, облюбовав для посадки крошечный пятачок. Растянувшись цепочкой, быстро покидали рюкзаки и махнули летчикам: мол, не забудьте назад забрать. Разбили лагерь и не утерпели, хоть время за полдень перевалило, всё-таки пошли на промысел.
– Что мы тут понаоткрывали! – с гордостью говорят. – Пока Родина от тебя глинозём из Гвинеи получала, мы тут на богатейшее месторождение набрели. Крупнейшее в мире, честное слово!
Ким в ответ только вздохнул, хотя в глубине души всё-таки слегка обиделся: друзья называется, по самому больному месту бьют. В лагерь вернулись, когда уже смеркаться начало. На скорую руку чаёк согрели, вяленую оленину ломтями порезали. Разговор метался, как пламя на ветру, но всё равно возвращался к бокситам.
– Ещё Великая отечественная не закончилась, а в Северном отделении академии наук доказывали перспективность бокситов Тимана.
– Потому что думали о государственной безопасности, независимости своей Родины побольше, чем те, кто Сошкина в Гвинею посылал.
Кима словно прорвало:
– Да что ж вы меня все Африкой попрекаете! Думаете, я не знаю, что в нашем Отечестве месторождения и открыли давно, и защитили? Да я диссертацию об этом написал, а мне говорят: молодец, вали в Гвинею. Туда не только такие, как я, поехали, туда ещё и миллиарды долларов пошли.
– Да ладно, мужики, глотки драть, – подал голос высоколобый, которого все Тимофеичем звали, хотя вроде бы по возрасту он не старше других был. – Ясное дело, у себя добывать надо. И он (энергичный кивок в сторону Сошкина) не хуже нас это знает. Ничего, настанет время, будет и у нас зарождаться горнорудная промышленность!.. Пойдут ещё наши бокситы прямо с рудника – да на наш глинозёмный завод. Весь вопрос – когда?
2. 1491—1649
По греческим хронологам, на исходе была седьмая тысяча лет от сотворения мира: в народе суеверно ждали конца света. А в это самое время вся земля зырянская покорилась Москве, которая прислонилась к Каменному поясу16, получив благодаря этому немалую выгоду, о чём и дерзали век назад Великий князь московский Димитрий Донской и святитель Стефан Пермский. В семь тысяч девятом году17 от сотворения мира в окрестности Печоры прибыла необычная для этих мест экспедиция. Проныры-мальчишки с любопытством глазели из-за ёлок, как два москаля вместе с иноземцами промышляют в верховьях реки Цильмы, весь берег изрыли, жилки какие-то в камне высматривают, в ступе поскрёбыши эти толкут, а потом радуются чему-то несказанно…
Самый младший пацан, непоседа Алешка Пермяк, потомственный житель полнощного края, побежал обо всем этом сказать главному из слободчиков – Ивашке Ластке. Тому не до баловства было. Усть-Цилемскую слободу опять половодье едва не слизнуло с оттаявшей земли, разметав по брёвнышку ближние к реке избы. Сейчас перебирались на правый берег Печоры, вылавливали из воды не успевший затонуть скарб. Ластка хотел было уж прикрикнуть на Алешку, чтоб не приставал, но поскреб в затылке:
– А любопытно бы узнать, что ж иноземцам в нашем глухом краю надо, и не ждать ли от них какой-нибудь беды, – засадил топор поглубже в бревно, а потом передумал, с собой решил прихватить: – Кто их знает, а вдруг что-нибудь худое помышляют?
Жене, чтобы не тревожить понапрасну, сказал небрежно:
– Пойду добычу проверю, вверх устья Цильмы пройду немного. К заходу солнца назад должен быть, поняла?
Кликнул мальца, чтоб дорогу показывал. Алёшка, как медвежонок, ломился напрямик. Ивашка Ластка, храня достоинство, огибал буреломы, на ходу заглядывал в силки и капканы. Богатая добыча радовала глаз… От реки потянуло дымком костра. Ластка велел мальчонке спрятаться в ельнике. А сам вразвалочку, будто бы гуляючи, пошел к бивуаку. Над костром колдовали двое. Варево булькало и плескалось в огонь, а мужики, обжигая пальцы, безуспешно пытались снять котелок с рогулины.
– Бог в помощь! – гаркнул Ивашка, зайдя со спины. Не выказывая удовольствия, с серьезным вниманием наблюдал, как пришельцы подпрыгнули от неожиданности. Котелок едва не перекувырнулся, костёр ещё пуще зашипел, заклубился дымом.
– Что ж это вы, – укоризненно сказал Ластка, – так с пустым брюхом останетесь.
Поплевал на ладони, снял с костра кипящую похлебку, не спеша поставил на камень. Пусть знают, кто здесь хозяин. Вдруг – кто-то за спиной как засопит… Оглянулся – Алёшка уже тут как тут, не усидел в дозоре, оголец. Помолчали. Один из чужаков потянулся к перемётной сумке. Ластка, не сводя с него глаз, лениво потянулся к топору за поясом. Чужак широко улыбнулся и достал …ложки. Одну из них протянул мальцу, другую – Ивашке. Ластка, как и все в слободе, чужой посудой не пользовался. Всегда при себе имел и плошку, и ложку, потому степенно отказался. У Алёшки рука сама потянулась, больно уж ложка чудная: маленькая, тяжелая, прохладная на ощупь, серовато-белого цвета. Пальчики, привыкшие к легкой, но большой деревянной ложке, никак не могли приноровиться. Она, словно ящерка, выскользнула из детской ладошки, гулко стукнувшись об камень. Наклонился, чтобы скрыть смущение, и пробурчал себе под нос:
– Что за вычура?
Чужак закашлялся от смеха, подсел к мальцу.
– Верно, непростая ложечка… Видишь эту гору? – Мужик кивнул на отвесную стену у реки. – А жилки на ней примечал? Это и есть серебро. Из него цари монеты льют, а мы с тобой похлебку хлебать будем. Чем мы с тобой не цари? А хочешь я тебе медную руду покажу?
Второй чужак словно и не слышал своего товарища. Ссутулившись, молча зачерпывал варево и отправлял в рот, подставив под ложку кусочек сухаря, чтобы не капало. Алёша попробовал тоже хлебнуть, но ложка, враз нагревшаяся, ожгла губы. Дёрнулся, горячее пролилось на рубашку. Малец осерчал и встал, бросив новинку. А смешливый даже и не взглянул, тискал в руках что-то вязкое, красновато-желтого цвета.
– Видишь, это медь. Ты теперь понимаешь, какие вы тут все богачи? На серебре, на меди сидите!
– Василь, – Алёшка аж вздрогнул от неожиданности, когда сутулый подал голос, – не дури голову, дай людям поесть! Вон пацан уже ложку бросил…
Смешливый наконец оторвал взгляд от своих находок и расхохотался, увидев рассерженное Алёшкино лицо. Ластка степенно достал из-за пояса свою деревянную ложку и не спеша зачерпнул похлёбку. Дал маленько остыть на ветру и с шумом втянул в себя – наваристый супец приятно согрел нутро. Ивашка снисходительно посмотрел на смешливого:
– А на что мне эти ваши причуды? Баловство одно! Что проку от такого богатства? Вы сюда лучше гляньте!
Ластка наклонился к охотничьей сумке и, торжествуя, достал зверьков, добытых из капканов. Хозяйскою рукой взял тушки за загривки, все четыре разом. Встряхнул – засеребрился мех, заиграл каждой шерстинкой.
– Вот оно богатство! А вы тут гору скребёте. Камень – он и есть камень. Не согреет, не накормит. Разве что ложка эта ваша греется, так из нее хлебать дитёнок и тот не стал.
Теперь уже смеялся и сутулый. Ещё больше сгорбившись, он тихонечко взвизгивал, уткнувшись в острые коленки.
– Понимаешь, – сказал он, – все богатства меряются монетой. И твои соболя тоже.
– А, знаю, куны. А на что они мне в тайге?
– Куны – кожаные деньги. Они дальше Новгорода не ценятся. А в других краях серебряная денежка в ходу. Государь Всея Руси Иоанн Васильевич иноземную монету, какая гнутая да ломанная, на твои меха выменивает. После на монетном дворе из этого лома нашу монету льют, потому как государь без нее и не государь вовсе. Смекаешь, какая московскому царю радость будет, когда он про сие открытие узнает, что на речке Цильме и серебро, и медь имеются?
– Ты мне голову не морочь, – осерчал Ивашка, – как ты собираешься камень в лепешку расплющить, чтобы из него монета получилась?
Смешливый снова засмеялся, а сутулый его оборвал:
– Чего зря зубы сушить, дело мужик говорит, – и, уже повернувшись к Ивашке, добавил со вздохом: «Твоя правда, медь, серебро мы нашли, да что серебро – золото и то попадается тут, а руду мы чистить не умеем. Потому с нами немцы-басурманы приехали. Эх!..»
Не договорил и сплюнул. Латка, толком не уразумев, о чём речь, душой почуял тоску и обиду сутулого – Ивашке и самому не по нраву, когда по его тайге чужие следят. Тот, встретившись с Ивашкиным взглядом, улыбнулся грустно:
– Ничего, кто в трудностях живёт, тот быстрее умнеть обязан. Вот с докладом в Москву съездим, а там и назад, на Цильму воротимся.
– Так, – недобро крякнул Латка. – Москали, значит? Ох, нас ваши порядки и в Новгороде допекли, мы с насиженного места снялись и в полнощный край убегли. А вот у него, – Латка кивнул на Алёшку, – прадед аж сто лет назад от Москвы потерпел как стригольник, его сам Стефан Пермский в своих санях сюда привез. Это что ж, опять до нас Москва сунется? Что ж мне завтра с семьей из слободы дёру давать?
– Да ты не горячись, – улыбнулся сутулый. – Раньше чем к будущему лету мы сюда не поспеем – три с половиной тысячи верст в одну сторону, месяцев за семь такой путь справим, передохнём маленько и обратно. Рудник здесь обустроим, у иноземных горных мастеров, искусных в отделении серебра и золота от земли и камня, подучимся и разбогатеем всей державой, – к Алешке повернулся. – А ты, малец, ложку на память возьми, ладно?
…Иоанн III, государь Всея Руси, был не в духе. Тягостные воспоминания о предутреннем сне теснили грудь. Сновидение пришло, когда предрассветная мгла рассеивалась и в окно сочился молочно-белесый свет. Иоанн Васильевич, наполовину пробудившись, качался в зыбких волнах дрёмы, чувствуя на себе печальный взгляд своей первой жены, умершей двадцать лет тому назад. Она лежала на пуховой перине, подперев голову рукой, и не сводила заплаканных глаз с Иоанна Васильевича.
– Что тебе? – и во сне знал, что разговаривает с мертвой.
Она словно не слышала его. Напряженно смотрела на узорчатую решетку ворот. Сзади неслышно подсел к матери на краешек перины сын Иоанн Иоаннович… Перина колыхнулась, и то, что сдавалось пухом, оказалось снежинками. Они кружились, плавно опускаясь на бледный лоб, бескровные губы младого князя, замирали там и не таяли. Сын и мать смотрели невидящими глазами сквозь изнемогшего в скорби государя, словно поджидая кого-то… И в этой могильной тишине вдруг явственно раздался топот детских ног. Быстрее, еще быстрее… Совсем рядом. Здесь!
Великий князь, цепенея от ужаса, на слух узнал эти торопливые шажки – так мог бежать только внук, Димитрий Иоаннович. Расставил руки, чтобы подхватить дитя. Не тут-то было. Малыш уклонился от объятий, испуганно побежал дальше. «Куда он? – мучительно размышлял во сне государь. – Почему он всё время озирается назад? Почему у меня самого так странно холодеет спина и бегут мурашки по затылку? Надо оборотиться…» Но шея не слушалась его. «Мне надо оглянуться, надо!» – умолял он кого-то неизвестного, от чьей воли теперь зависело всё… Голова, огромная и тяжёлая, не поворачивалась. Тогда он скосил глаза, как испуганная лошадь, и самым краешком увидел тех, на кого смотрел внук.
«Мои придворные? – удивился он. – Но почему же Димитрий бежит от них? Да как они смеют!» В это мгновение государь почти вынырнул из дрёмы и, словно со стороны, приказал себе – тому, каким он был сейчас в этом странном полусне – вернуться в сновидение с судорожным желанием: «Надо запомнить лица…». Но они ускользали от его взора, мерцали, гасли, вспыхивали вновь и вдруг начали расплываться, приближаясь. «Так близко? – почему-то пугаясь подумал государь. – Но как же различить их лица?..»