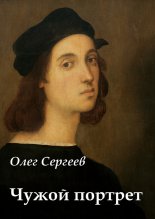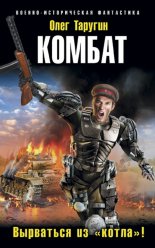Возвращение примитива. Антииндустриальная революция Рэнд Айн
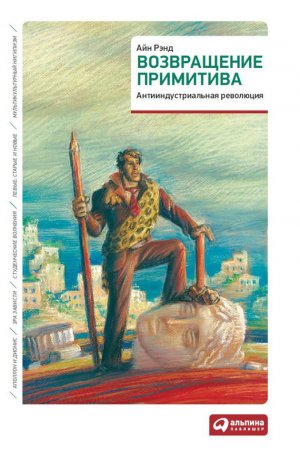
Если сущность актов гражданского неповиновения в контексте движения за гражданские права оказывается несколько размытой и в связи с этим отношение к ним государства не таким однозначным, то в случае сидячей забастовки на территории университета она становится вопиюще явной. Если университеты – которым положено быть оплотом разума, знаний, образования и цивилизации – можно заставить уступить грубой силе, то участь всей страны кажется предрешенной.
Чтобы людям было проще согласиться с применением силы, бунтовщики из Беркли придумали различать силу и насилие: сила, поясняют они, является приемлемой формой общественной деятельности, в то время как насилие – нет. Различие между этими понятиями они определяют таким образом: принуждение путем прямого физического взаимодействия – это «насилие», оно недопустимо; любая другая форма нарушения прав – это всего лишь «сила», которая представляет собой законный мирный метод коммуникации с противником.
К примеру, если бунтовщики занимают административное здание – это применение «силы»; а если полиция вытаскивает их оттуда – это «насилие». Когда Савио завладел микрофоном, которым не имел права воспользоваться, он применил «силу»; а когда полицейский попытался оттащить его от стойки, это был акт «насилия» с его стороны.
Попробуем представить, что будет, если люди начнут руководствоваться таким разграничением понятий при определении норм общественного поведения. Если однажды вечером вы приходите домой, обнаруживаете там незнакомца и отважно вышвыриваете его вон, то его действия представляют собой лишь мирный акт «силы», а вы будете обвинены в применении «насилия» и понесете за это наказание. Теоретический смысл этой исключительной нелепости в установлении моральной инверсии: в том, чтобы инициативу в применении силы считать моральной, а сопротивление силе – аморальным, то есть аннулировать право на самозащиту. Непосредственный же практический смысл заключается в поддержке деятельности политических проходимцев самого низкого пошиба – провокаторов, которые совершают акты насилия, а потом перекладывают вину на своих жертв.
Чтобы оправдать это жульническое разграничение, бунтовщики из Беркли попытались взамен отменить другое, вполне законное: между идеями и действиями. Они заявили, что свобода слова равнозначна свободе действия и что между ними нельзя провести четкой границы.
Например, если у них есть право защищать любые политические взгляды, заявляют они, они также имеют право устраивать на территории университета любые мероприятия, даже те, что являются противозаконными. Как выразился профессор Петерсен, они требовали права «на использование университета как убежища, откуда они могли бы совершать незаконные налеты на объекты за пределами его территории».
Разница между обменом идеями и обменом ударами очевидна. Граница между свободой слова и свободой действия определяется запретом на применение физической силы. Такая проблема может возникнуть лишь в том случае, если этот запрет аннулируется; однако, если аннулировать этот запрет, политическая свобода в любом виде станет абсолютно невозможной.
На первый взгляд может показаться, что «пакет требований» бунтовщиков должен послужить основой для дальнейшего расширения рамок свободы; однако фактически и логически результат оказывается прямо противоположным – злая шутка для тех неразумных юнцов, которые присоединились к движению ради «свободы слова». Если приравнять свободу выражения идей к свободе совершения преступлений, то очень скоро станет очевидно, что организованное общество не может существовать при таких условиях, и, следовательно, высказывать идеи будет трудно, а некоторые из них окажутся под полным запретом, аналогично преступным действиям.
На этот мотив указывают выдвинутое бунтовщиками требование неограниченной свободы слова на территории университета и ставшее его следствием «Движение за непристойные выражения».
Не может существовать такой вещи, как право на неограниченную свободу слова (или действия) на территории, находящейся в чьей-то чужой собственности. Тот факт, что университет в Беркли является собственностью государства, лишь осложняет дело, но ничего, по сути, не меняет. Собственниками государственного университета являются избиратели и налогоплательщики данного государства. Университетская администрация, назначенная (прямо или непрямо) избранным государственным чиновником, теоретически является представителем владельцев и должна действовать соответствующим образом, раз уж государственные университеты у нас существуют. (Должны ли они существовать – это уже другой вопрос.)
В любом предприятии или организации, состоящей более чем из одного человека, правила и приемлемые методы работы устанавливаются владельцем (или владельцами); остальные участники, если они с установленными правилами не согласны, имеют право идти на все четыре стороны и искать там правила, которые им подходят больше. Здесь нет места таким вещам, как поступки по собственной прихоти, как самовольное распоряжение данным предприятием (в частности, его территорией) во вред прочим его участникам.
Студенты, обучающиеся в университете, имеют право рассчитывать на то, что не будут выслушивать непристойности, за которые владелец бара среднего пошиба выбросил бы хулиганов на улицу. Правом определять, какие выражения можно употреблять на данной территории, обладает администрация университета – точно так же, как владелец бара в помещении своего предприятия.
Метод, который использовали калифорнийские активисты, характерен для сторонников тоталитаризма и заключается в том, чтобы, воспользовавшись преимуществами свободного общества, попытаться подорвать его же основы, продемонстрировав их мнимую «недейственность» – в данном случае «недейственность» права на свободу слова. Но то, что им удалось продемонстрировать на самом деле, максимально удалено от поставленной ими цели: они показали, что ни одно право не может быть применено без учета права собственности.
Лишь на базе прав собственности могут быть определена сфера применения любых личных прав в любой социальной ситуации. Без учета прав собственности невозможно разобраться и избежать хаоса в мире постоянно сталкивающихся интересов, взглядов, требований, стремлений и прихотей.
Администрация Беркли не могла адекватно отреагировать на действия бунтовщиков иначе, чем обратившись к правам собственности. Вполне понятно, почему ни современные «либералы», ни «консерваторы» не стали этого делать. Активисты студенческого движения воспользовались для достижения своих целей не противоречиями свободного общества, а противоречиями смешанной экономики.
А вот вопрос о том, какой политики следует придерживаться администрации государственного университета, не имеет ответа. У множества противоречий, связанных с понятием «общественной собственности», нет решений, особенно если эта собственность непосредственно связана с распространением идей. Именно это стало одной из причин, почему бунтовщики выбрали в качестве стартовой площадки для своего движения именно государственный университет.
Можно было бы устроить показательный процесс, связанный с тем, что государственный университет не имеет права запрещать пропаганду или распространение сведений о любых политических взглядах, например о коммунизме, поскольку часть владельцев-налогоплательщиков могут оказаться коммунистами. Но с тем же успехом можно было бы устроить показательный процесс, связанный с тем, что государственный университет не имеет права разрешать пропаганду или распространение сведений о любых политических взглядах, которые (как, например, коммунизм) представляют прямую угрозу собственности, свободе и жизни большинства владельцев-налогоплательщиков. В области идей неприменима власть большинства; личные убеждения не поддаются решению голосованием; однако ни отдельного человека, ни меньшинство, ни большинство нельзя заставлять поддерживать тех, кто хочет их уничтожения.
С одной стороны, государственное учреждение не имеет права запрещать высказывать какие-либо идеи. С другой стороны, государственное учреждение не имеет права предоставлять убежище, помощь или финансовую поддержку врагам государства (как это делали, например, сборщики средств в помощь Вьетконгу).
Источник этих противоречий лежит не в сущности прав личности, а в их нарушении институтом «общественной собственности», придуманным коллективистами.
Тем не менее решать эти вопросы следует в сфере конституционного права, а не на территории университетского городка. У бунтовщиков, как у студентов, нет в государственном университете каких-то особых прав по сравнению с университетом частным. Как налогоплательщики они также не обладают какими-то особыми правами по сравнению с миллионами других налогоплательщиков Калифорнии. Если они не согласны с политикой, проводимой попечительским советом, они не могут воздействовать на ситуацию никаким другим путем, кроме голосования на следующих выборах – если смогут набрать достаточное количество сторонников. Шанс на это весьма призрачен – и это хороший аргумент против «общественной собственности» любого вида. Но в любом случае это не тот вопрос, который решается насилием.
Важно здесь то, что бунтовщики – которые, мягко говоря, никак не относятся к защитникам частной собственности, – отказываются считаться с той стороной власти большинства, которая имеет отношение к общественной собственности. Именно против этого они выступают, когда говорят о том, что университеты стали придатками, обслуживающими «финансовую, индустриальную и военную элиту». Они пытаются аннулировать права именно этих конкретных групп налогоплательщиков (право иметь голос в управлении государственными университетами).
Если кому-то нужно доказательство того, что защитники общественной собственности стремятся не к «демократическому» управлению этой собственностью по решению большинства, а к управлению диктаторскому, – вот вам одно из вполне красноречивых доказательств.
Бунтовщики попытались применить новую вариацию на старую тему, которая уже долгие годы была в арсенале всех сторонников тоталитарно-коллективного правления: стереть различия между личными и правительственными действиями, приписав гражданам специфические нарушения, конституционно запрещенные для правительства, и таким образом уничтожив индивидуальные права, одновременно освобождая правительство от всяких ограничений. Наиболее часто встречающийся пример использования такого метода – обвинение частных лиц в «цензуре» (понятие, применимое только в отношении государства) и, таким образом, лишение их права на несогласие.
Новая вариация, придуманная бунтовщиками, состояла в протесте против так называемой двойной ответственности. Выглядело это так: если студенты совершают незаконные действия, они должны понести наказание согласно решению суда и не могут, таким образом, быть наказанными за те же проступки администрацией университета.
«Двойная ответственность» – понятие, применимое исключительно к государству, причем исключительно к одной ветви государственной власти – к правосудию, и только к определенным ее действиям: оно означает, что один человек не может быть дважды осужден за одно и то же преступление.
Приравнивать личные суждения и действия (или, как в данном случае, суждения и действия государственного чиновника) к судебному решению – более чем абсурдно. Это вопиющая попытка аннулировать право на моральные суждения и моральные действия. Это заявление о том, что нарушитель закона не должен нести гражданской ответственности за свое преступление.
Если такой подход применить полноценно, то люди не будут иметь права ни оценивать поступки других, ни действовать в соответствии со своими взглядами и ценностями. Они должны будут дожидаться, пока суд признает их виновными или невиновными, и даже в том случае, если вина будет доказана в суде, никто не будет иметь права изменить свое поведение по отношению к преступнику, и его наказание будет исключительно прерогативой государства.
К примеру, если банковский служащий будет признан виновным в хищении денег и отбудет назначенное ему судом наказание, банк не будет иметь права отказать ему в возвращении на ту же должность, потому что такой отказ означал бы «двойную ответственность».
Или другой пример: государственный служащий не будет иметь права следить за законностью действий своих подчиненных или устанавливать правила, а будет вынужден ждать, пока суд не признает, что кто-либо из них действительно нарушил закон, а затем принять нарушителя обратно на работу после отбытия наказания за злоупотребление служебным положением, взяточничество или государственную измену.
Идея морали как монополии государства (и конкретно одной ветви власти или части правительственной структуры) настолько откровенно является составляющей идеологии диктатуры, что приверженность ей бунтовщиков просто шокирует.
Требование бунтовщиков отдать управление университетами в руки студентов и преподавателей – это явное, открытое выступление против того же, против чего остальные их требования направлены скрытым образом: против частной собственности. Из всего разнообразия вариантов тоталитарно-коллективистских систем та, которую они выбрали в качестве своей цели, является наименее действенной с политико-экономической точки зрения; наименее устойчивой – с интеллектуальной; наиболее позорной – с моральной. Речь идет о гильдейском социализме.
Гильдейский социализм – это система, не позволяющая гражданину проявлять индивидуальные способности с помощью объединения людей в группы согласно направлению их профессиональной деятельности и передаче всей работы в полное ведение группы, с тем чтобы группа устанавливала правила, стандарты и методы выполнения работы, а также конкретных ее исполнителей.
Гильдейский социализм – это ментальность дикарей, поднятая до уровня общественной теории. Точно так же, как племя дикарей захватывает кусок территории джунглей и объявляет его своим на том основании, что оно здесь находится, гильдейский социализм устанавливает монополию – только уже не на лес или источник воды, а на завод или университет, руководствуясь не способностями, достижениями или даже «общественным долгом» человека, а исключительно фактом его нахождения в данном месте.
Подобно тому как у дикарей отсутствуют понятия причин и следствий, прошлого и будущего, а также понятие силы за исключением мускульной силы своего племени, так и гильдейские социалисты, обнаружив себя в центре индустриального общества, рассматривают его институты как явления природы и не видят причин, по которым какая-то группа не может захватить их.
Если существует какое-либо доказательство некомпетентности человека, то таким доказательством является застойное мышление рабочего (или профессора), который, выполняя какую-то мелкую рутинную работу в составе огромного предприятия, не заботится о том, чтобы заглянуть за пределы рычагов своего станка (или кафедры в лекционной аудитории), не желает знать, как его станок (или аудитория) очутились здесь или что дает ему возможность работать, и при этом объявляет руководство предприятия бесполезными паразитами. Управленческая работа – организация и интеграция человеческих усилий в осмысленную, масштабную, долговременную деятельность – это в сфере действия то же самое, что способность к концептуальному мышлению в сфере познания.
Можно считать, что самый прямой способ признать собственную посредственность – это готовность отдать свой труд в абсолютную власть группы, особенно группы коллег по роду деятельности. Из всех форм тирании эта – самая страшная; она направлена против единственного сугубо человеческого качества – разума и против единственного врага – новатора. По определению новатор – это человек, который покушается на традиционные методы своей профессии. Отдать профессиональную монополию любой группе – значит принести в жертву человеческие способности и уничтожить прогресс; защищать подобную монополию – значит признать, что тебе нечего принести в жертву.
Гильдейский социализм – это правление посредственности во имя посредственности. Его корни – в интеллектуальном коллапсе общества; его последствия – кошмар стагнации; его историческим примером может служить цеховая система Средневековья (или, в нашу эпоху, итальянское фашистское государство Муссолини).
Требование бунтовщиков предоставить управление университетами и выбор учебных программ студентам (и преподавателям) – совершенная нелепость. Если невежественный юнец приходит в образовательное учреждение ради того, чтобы получить знания в определенной области, то как может он сам определять, что ему требуется и чему его нужно учить? (В процессе обучения он может судить лишь о том, понятно или непонятно излагает материал преподаватель, логична ли его подача или противоречива; он не может сам выбирать содержание и методику курса, не обладая знанием предмета.) Совершенно очевидно, что студент, который требует права управлять университетом (или решать, кто будет им управлять), не обладает необходимыми для этого знаниями о концепции знания; его требование противоречит само себе и автоматически свидетельствует о его непригодности для данной деятельности. То же самое верно – только в этом случае груз морального прегрешения куда тяжелее – и в отношении профессора, который научил студента выдвигать такие требования и который поддерживает их.
Хотели бы вы лечиться в больнице, где методы лечения выбираются путем голосования среди врачей и пациентов?
Но в этом примере абсурдность просто более очевидна, чем в стандартном коллективистском требовании отдать рабочим власть над предприятиями, которые были созданы людьми, чьих достижений им никогда не понять и никогда не повторить. Основные философско-моральные предпосылки и принципы здесь совершенно идентичны: отказ от мышления уничтожает смысл реальности, что, в свою очередь, уничтожает смысл достижений, что уничтожает смысл различия между заработанным и незаработанным. Тогда непрофессионалы могут захватывать руководство заводами, невежды – руководство университетами, громилы – руководство научными лабораториями, – и в человеческом обществе не останется ничего, кроме власти произвола и кулака.
Гильдейский социализм – это более жестокая (но ничем не отличающаяся по сути), чем большинство прочих, тоталитарно-коллективистская теория, потому что именно он представляет другую, обычно остающуюся без внимания, сторону альтруизма: это голос не тех, кто дает, а тех, кто получает. В то время как большинство теоретиков альтруизма провозглашают в качестве оправдания «общественное благо», защищают служение «обществу» и ничего не говорят об истинной природе тех, кому именно приносятся жертвы, сторонники гильдейского социализма откровенно заявляют о том, что это они сами являются получателями благ, и предъявляют свои требования обществу, которое должно им служить. Они заявляют, что, если они хотят получить монополию на определенную профессию, прочие граждане лишаются права заниматься ею. Если они хотят получить университет, общество должно им его предоставить.
Если же, с точки зрения альтруистов, «эгоизм» означает принесение других в жертву себе, то мне бы очень хотелось, чтобы они привели мне более отвратительный пример этого, чем слова одного юного коллективиста из Беркли, который заявил: «Мы считаем, что любой университет состоит из преподавателей, студентов, книг и идей. В буквальном смысле администрация нужна лишь для того, чтобы обеспечивать чистоту дорожек. Она должна обслуживать преподавателей и студентов».
О чем же забыл в своем представлении об университете этот юноша? Кто платит зарплату преподавателям? Кто обеспечивает средствами к существованию студентов? Кто издает учебники? Кто строит учебные корпуса, библиотеки, общежития – и, кстати, дорожки?
Кто – помимо администрации университета – играет роль безгласной, бесправной «прислуги» и подметальщика дорожек для преподавателей и студентов? Нет, это не только те гениальные производители, которые создали материальные средства, благодаря которым существуют университеты, не только «акулы большого бизнеса», не только «финансовая, промышленная и военная элита», но и каждый налогоплательщик штата Калифорния. Это каждый человек, который трудится, чтобы жить, роскошно или скромно, каждый гражданин, который обеспечивает себе средства к существованию.
Посмотрите на сложность, иносказания, хитрости, извращения и интеллектуальную акробатику, исполняемую этими заявленными адвокатами стихийных чувств, и на идеологическую твердость тех активистов, которые заявляют, что у них нет никакой идеологии.
Первый раунд студенческих волнений прошел не слишком удачно. Несмотря на бесплатную рекламу в прессе, отношение к ним публики представляло собой смесь непонимания, безразличия и антагонизма. Безразличия – из-за уклончивой размытости журналистских репортажей, которые не приносили никакой пользы: люди не понимали, к чему это все, и не видели, о чем им стоит беспокоиться. Антагонизма – потому что американское общество до сих пор испытывает огромное уважение к университетам (к тому, чем они могли бы быть и должны бы быть, но на самом деле больше не являются) и потому что наполовину хвалебные, наполовину снисходительные банальности комментаторов насчет «юношеского идеализма» не смогли обелить того факта, что в университетских стенах стала применяться грубая физическая сила. Из-за этого у людей возникло смутное ощущение обеспокоенности, чувство неопределенного, опасливого осуждения.
Попытка бунтовщиков захватить другие кампусы также оказалась не слишком результативной. Этой весной еще слышались некие позорные заявления со стороны университетских руководителей, но никакой явной общественной симпатии заметно не было.
Часть университетского руководства продемонстрировала немногочисленные примеры адекватного отношения к происходящему – примеры твердости, благородства и бескомпромиссной жесткости, особенно в Колумбийском университете. Стоит также отметить обращение доктора Менга, президента Колледжа Хантера. Заявив, что нарушение прав окружающих «недопустимо» в научном сообществе и что каждый студент или преподаватель, виновный в этом, заслуживает «моментального отлучения от университета», он сказал: «Вчерашняя башня из слоновой кости сегодня стала лисьей норой. Ленивые теоретики оказались очень занятыми организацией пикетов, демонстраций, митингов и забастовок того или иного рода».
Но несмотря на то, что студенческие волнения не вызвали большой симпатии в обществе, наиболее угрожающим в этой ситуации можно считать то, что против них не возникло никакой идеологической оппозиции, что идеи бунтовщиков не вызвали никакого ответа и отпора, что та критика, которой они подверглись, была, за редким исключением, невразумительно-поверхностной.
Отчасти этот бунт достиг целей, поставленных его лидерами: он показал, что они зашли немного дальше, чем нужно, слишком рано показали зубы и тем самым отвратили от себя многих потенциальных сторонников, даже из числа «либералов», но при этом дорога впереди свободна, и на ней не наблюдается никаких интеллектуальных баррикад.
Битва еще не окончена. Те же активисты, которые объявляли о своей исключительной приверженности конкретному моменту, неоднократно говорили и о долгосрочных целях студенческого восстания. Остатки «Движения за свободу слова» в Беркли переформировались в «Союз свободного студенчества», который издает какой-то воинственный шум, готовясь к очередному наступлению. Как бы ни были абсурдны их идеи, они направляют свои удары на наиболее важные философско-политические аспекты нашего времени. Это нельзя игнорировать или пытаться решить путем компромисса. Когда в дело вступает насилие, компромисс оказывается красной тряпкой для быка. Когда атакован разум, здравого смысла недостаточно.
Ни отдельный человек, ни народ в целом не могут существовать без какой-либо философии. У человека имеется свобода воли, он может мыслить, а может и не мыслить; если он выбирает последнее, он соглашается на все, что ему предлагают. Свободная воля народа – это его мыслители; остальная часть общества принимает то, что они предлагают; они устанавливают условия, ценности, направление движения и его цель.
В отсутствие интеллектуальной оппозиции идеи бунтовщиков постепенно будут абсорбированы культурой. Сегодняшние нелепости, против которых никто не возражает, превратятся в общепринятые лозунги завтра. Они будут приниматься постепенно, по частям, по прецеденту, по общему смыслу, по недопониманию, по умолчанию, благодаря постоянному давлению с одной стороны и постоянным уступкам с другой – пока не придет день, когда они будут провозглашены официальной идеологией государства. Студенческие активисты – не более чем наемники, которым было дано задание установить идеологические «буйки», отмечающие путь для полномасштабного наступления тоталитарно-коллективистских сил на останки американского капитализма; частью этого задания было установление идеологического контроля над американскими университетами.
Если коллективисты победят, самая страшная историческая ирония будет заключаться в следующем: то, что казалось громкой, отчаянной, воинствующей уверенностью, на самом деле окажется истерическим блефом. Подъем коллективизма – это не марш победителей, а слепое нашествие неудачников. Коллективизм уже проиграл сражение за человеческий разум; его сторонникам это известно; их последний шанс в том, что никто больше об этом пока не знает. Если его сторонники хотят воспользоваться плодами десятилетий философской коррупции, тем лабиринтом философских крысиных нор, которые они так долго выцарапывали, выгрызали и выскребали, они должны решиться на это сейчас или никогда.
Как культурно-интеллектуальная сила коллективизм окончил свое существование в период Второй мировой войны. Мы все еще продолжаем катиться в том же направлении, но лишь по закону инерции и благодаря импульсу разрушения. То социальное движение, которое было запущено громоздкими диалектическими сооружениями Гегеля и Маркса и закончилось толпой морально нечистоплотных юнцов, топающих ногами и вопящих: «Хочу это сейчас!», пришло к концу.
По всему миру, захватывая одну беспомощную нацию за другой, коллективизм неуклонно терял два элемента, которые составляют ключ к будущему: разум человечества и его молодежь. В доказательство первого посмотрите на утечку мозгов из Великобритании. В доказательство второго подумайте о том факте, что в подавляющем большинстве американских университетов политические взгляды сотрудников куда более «либеральны», чем взгляды студентов. (То же самое верно и в отношении молодежи страны в целом – по сравнению с более старшим поколением в возрасте от 35 до 50 лет, которое выросло во времена «Нового курса» и в руках которого в настоящий момент находится руководство страной.) Это один из тех фактов, на которые студенческие активисты предпочли закрыть глаза.
Я не хочу сказать, что антиколлективисты представляют среди студентов колледжей количественное большинство. В любой группе, любом обществе, в любое время большинство всегда составляют пассивные сторонники статус-кво. Но не пассивное большинство определяет путь нации. А кто же? Все, кому есть до этого дело, если только у них хватает интеллектуального оружия для победы на идейном поле битвы, которое принадлежит именно им, тем, кому есть дело. Те, кому нет, – не более чем социальный балласт.
То, что «не-либералы» среди студентов колледжей (и среди молодежи мира) могут в настоящее время считаться лишь «антиколлективистами», – это опасная тенденция и важная проблема в современной ситуации. Это молодежь, которая не готова сдаться, которая хочет сражаться против трясины зла, но понятия не имеет о том, что такое добро. Они отказываются от тошнотворных, избитых лозунгов коллективизма (вместе со всеми его культурными проявлениями, включая культ разочарования и развращенности, всем известные танцы, песни и прочие сценические действия, неизменно сопровождающиеся дерганьем и стонами, поклонение антигероям, поиск вдохновения во вскрытом мозге психического больного и руководства к действию – в поступках бессловесного дикаря). Но они до сих пор не нашли своего направления, своей устойчивой философии, своих разумных ценностей, своих долгосрочных перспектив. Если они этого не сделают, их непоследовательное стремление к лучшему будущему не сможет противостоять последнему удару коллективистов.
В исторической перспективе наша страна сейчас представляет собой интеллектуальную пустыню, и будущее будут определять те, кто рискнет вырваться за рамки статус-кво. Направление нашего движения будет зависеть от того, окажутся ли эти смельчаки борцами за новое Возрождение или падальщиками, роющимися в останках вчерашних битв. Борцов за возрождение пока не видно, а падальщики уже тут как тут.
Именно поэтому, но в гораздо более глубоком смысле, чем способны осознать юные зомби из университетских кампусов, «Сейчас, сейчас, сейчас!» – это последний лозунг и клич бородатых оборванцев, которые когда-то были армией, поднятой на битву обещанием построения научно спланированного общества.
Пресса дала две наиболее точные характеристики студенческого бунта: «политический экзистенциализм» и «кастровское движение». И та и другая подразумевают интеллектуальное банкротство: первая свидетельствует об отказе от рационального мышления, а вторая – о состоянии истерической паники, которая полагается на кулаки как на единственное средство.
Готовясь к публикации своего исследования (22 марта 1965 года), Newsweek провел несколько опросов среди студентов различных колледжей, один из которых был посвящен тому, кого они считают своими героями. Редакторы Newsweek информировали меня о том, что мое имя оказалось среди результатов этого опроса, и послали ко мне журналиста для интервью, посвященного тому, что я думаю о состоянии современных университетов. По причинам, лучше известным им самим, они решили не публиковать из этого интервью ничего. Я же (только кратко) говорила о том же самом, о чем говорю в этой статье, за исключением тех заключительных замечаний, которые вы прочтете ниже и которые я хотела бы адресовать тем студентам, которые избрали меня своей героиней.
Молодежь постоянно спрашивает, что они могут сделать для борьбы с сегодняшними разрушительными тенденциями; они стремятся к какому-то действию и теряют свои надежды в темных тупиках, особенно раз в четыре года, во время выборов. Тем, кто не понимает, что это битва идеологическая, лучше вообще не лезть в это дело, потому что у них нет никаких шансов. Те же, кто это понимает, должны осознать, что студенческие волнения дали им шанс приобрести необходимые навыки для будущей мировой битвы, в которую они вступят, покинув университетские стены; и не только научиться чему-то, но и выиграть первые раунды этого более масштабного сражения.
Если молодые люди ищут для себя важного дела, они имеют возможность бороться с бунтовщиками, бороться идеологически, на морально-интеллектуальном фронте, путем раскрытия сути требований бунтовщиков. Прежде всего эта битва состоит в том, чтобы дать стране идеологические ответы – это то самое поле, с которого старшие поколения дезертировали под огнем противника.
Нельзя победить идеи ничем, кроме лучших идей. Битва заключается не в том, чтобы противостоять, а в том, чтобы разоблачать; не в поношении чужих идей, а в их развенчании; не в уклонении, а в смелом провозглашении полновесной, устойчивой и радикальной альтернативы.
Это не означает, что разумная часть студенчества должна вступать в дискуссии с бунтовщиками или пытаться обратить их в свою веру: невозможно переспорить самоуверенных иррационалов. Смысл идеологической битвы в том, чтобы просветить огромное, беспомощное, запутавшееся большинство университетского сообщества – и страны в целом – или, точнее говоря, умы тех представителей большинства, которые все-таки хотят найти ответы, или тех, кто, не слыша ничего, кроме коллективистских софизмов на протяжении многих лет, с отвращением замкнулся в себе и сложил оружие.
Первая из целей подобной битвы – это отобрать у кучки битников титул «голоса американской молодежи», которым с такой готовностью наделяет их пресса. Первый шаг – это добиться того, чтобы быть услышанными и на территории университетов, и за их пределами. Есть много цивилизованных путей для этого: митинги протеста, общественные петиции, речи, агитационные материалы, письма в прессу. Это гораздо более важное дело, чем пикетирование штаб-квартиры ООН.
Но чтобы быть услышанными, нужно иметь что сказать. А для этого нужно полностью представлять себе существующее положение вещей вплоть до самых фундаментальных философских начал. Нельзя победить ядерную бомбу пугачом. А лидеры, стоящие за студенческим движением, – настоящие специалисты по ведению «ядерной» идеологической войны.
Но они представляют опасность лишь для тех, кто смотрит на проблемы поверхностно и надеется одолеть идеи с помощью веры, чувств и сбора средств. Вы сами удивитесь, насколько поспешно идеологи коллективизма отступают, столкнувшись с уверенным, интеллектуальным противодействием. Их дело основывается на обращении к человеческой неуверенности, невежеству, нечестности, трусости, разочарованию. Встаньте на те позиции, куда они боятся сунуться: обращайтесь к человеческому разуму.
Коллективизм потерял два вида необходимого оружия, с помощью которого ему удалось подняться к вершинам мировой власти и которое сделало возможными все его победы: интеллектуальность и идеализм, или, иными словами, разум и мораль. Он потерял их именно на вершине успеха, поскольку его претензии на обладание ими оказались ложью: подлинная реальность социал-коммунофашистских государств показала всем жестокую иррациональность коллективистской системы и антигуманность альтруизма как морального кодекса.
Тем не менее именно разум и мораль остаются единственным оружием, которое определяет ход истории. Коллективисты его потеряли, потому что у них нет права им владеть. Поднимите его – у вас такое право есть.
Июль – сентябрь 1965 г.
2. Возвращение бумеранга
Айн Рэнд
28 декабря 1969 года на ежегодном итоговом заседании Восточного отделения Американского философского общества (АФО) было очень кратко представлено, что не так с современным миром, включая причины и точные механизмы процесса, к этому приведшего. Подобно старомодной морализаторской пьесе, это событие содержало внушающий благоговение элемент справедливости: трудно найти другую группу людей, которые сделали бы столько же, чтобы получить по заслугам.
Центральной темой для обсуждения на этой встрече стал вопрос, поднятый рядом философов, про которых известно лишь то, что они «радикальные», и которые потребовали, чтобы собрание приняло предложенную ими резолюцию. В ней в откровенно марксистских терминах осуждалась война во Вьетнаме и заявлялось, что это «прямое следствие [американской] внешней политики, основная цель которой – сделать и сохранять большую часть мира безопасной территорией для американского предпринимательства»; что международная гуманитарная помощь, которую Штаты предоставляют другим государствам, «особенно развивающимся, лишь увеличивает эксплуатацию населения этих стран» и что инициативы Америки в этих странах вызывают «народное возмущение, которое приходится подавлять».
Группа так называемых консерваторов высказалась против такой резолюции. Согласно материалу, опубликованному в The New York Times (29 декабря 1969 года),
«ученые, в числе которых был ряд знаменитых мыслителей нашей страны, обсуждая в Большом зале гостиницы Waldorf-Astoria этот вопрос, докатились до свиста и криков…
При том, что официальной темой дискуссии был Вьетнам, на самом деле в ней схлестнулись два противоположных взгляда на задачу философии: что наука должна воспитывать умы и стимулировать мысли, не отвлекаясь на человеческие страсти и политику, и что философы должны использовать свои таланты для воздействия на сегодняшнее положение вещей в мире. [Это верное описание состояния дел в современной философии; обратите внимание на природу этого мнимого противоречия, мы вернемся к нему позже. – А.Р.]
Данная дискуссия вполне соответствует тому состоянию беспокойства, которое охватило в последние годы студентов и ученых, утверждающих, что философия оторвалась от жизни американских граждан и развлекается стерильными абстрактными построениями. [Здесь журналист расщедрился: сегодняшние философы развлекаются вовсе не абстракциями. – А.Р.] Высказывание о том, что философия сегодня посвящает себя проблемам философии, а не проблемам людей, уже стало общим местом».
Как же «бесстрастные воспитатели умов» противостояли радикалам? Они поступили точно так же, как в подобных ситуациях поступали их же бывшие студенты, как поступали консерваторы, противостоящие либералам, или либералы, противостоящие социалистам, или социалисты, противостоящие коммунистам, или администрации колледжей, противостоящие бандитам в кампусах: они упорно избегали упоминаний о любых важных вещах или обращения к любым фундаментальным принципам.
Первым делом они попробовали прибегнуть к стандартному оружию современности: уклончивости. «Оппоненты [резолюции] в самом начале попытались отложить на неопределенное время обсуждение вопроса, – пишет The New York Times, – и проиграли 78 голосами против 120».
«Я надеюсь, – заявил лидер радикалов, – что мы не будем позиционировать себя как организация узких специалистов. Наш человеческий долг должен быть для нас важнее, чем наши так называемые профессиональные обязанности».
«Это нанесет нашей организации лишь вред, – возражал лидер оппозиции. – Я призываю вас, как философов, воздержаться от вынесения суждений по ряду ужасающих пунктов этой резолюции».
(Очевидно, этика не является частью философии, и, сталкиваясь с ужасающей резолюцией, философ не должен пытаться определить истинность или лживость ее утверждений: он должен не выносить суждения, а воздерживаться от них.)
Если такие приемы не приносят удачи даже в области практической политики (доказывают события последних 50 лет), чего можно ожидать от них в области философии? Именно того, чего они и достигли. Оппоненты резолюции, предложенной радикалами, не победили, не отказались от дальнейшего участия в заседании, не подписали ее, – они пошли на компромисс.
Итогом встречи стала исправленная резолюция, в которой почти не тронутыми остались первый и последний параграфы, а все остальное исчезло. Исчезла марксистская оценка американской внешней политики, а война во Вьетнаме была подвергнута критике без указания причин и объяснений. Иными словами, в резолюции марксистская теория оказалась отвергнута, но при этом ее следствие было принято так, как будто является аксиомой, не требующей доказательств.
О качестве и смысле исправлений можно судить по следующему.
В первом параграфе первоначального варианта резолюции утверждалось, что война во Вьетнаме представляет собой «моральную и политическую проблему». В исправленной резолюции говорилось уже только о «моральной проблеме» (чтобы никто не попытался обвинить АФО в том, что оно делает политические заявления – пусть темой резолюции и является война во Вьетнаме).
В последнем параграфе первого варианта говорилось:
«Таким образом Американское философское общество выступает против как "вьетнаминизации" войны, так и идеи о том, что Соединенные Штаты имеют право определять будущее вьетнамского народа; и выступает за полный вывод войск из Вьетнама в максимально короткие сроки».
Последний параграф исправленной резолюции звучит так:
«Таким образом Восточное отделение Американского философского общества выступает против как политики бомбардировки деревень в качестве компенсации за частичный вывод американских войск, так и идеи о том, что Соединенные Штаты имеют право определять будущее вьетнамского народа; и выступает за полный вывод войск из Вьетнама в максимально короткие сроки».
Подобно тому как политики считают безопасным для себя принимать четкую позицию в пользу отечества, так и люди, занимающие аналогичное место в философской науке, считают безопасным для себя заявлять о том, что они против бомбардировки деревень. То, что эта резолюция подразумевает, что такие бомбардировки являются не военной необходимостью, а намеренной бесчеловечной жестокостью со стороны США, должно быть понятно даже школьнику, но, судя по всему, непонятно современным философам. Точно так же они не понимают того, что рассмотрение войны во Вьетнаме как моральной проблемы и обвинения США без учета сущности, методов и жестокости врага, сами по себе совершенно аморальны, особенно в свете того факта, что США ничего не получают от этой самоубийственной войны и ведут ее исключительно в соответствии с альтруистической моралью, проповедуемой теми же философами.
Очевидно, из страха создать путаницу и быть непонятым автор исправленной резолюции написал письмо редактору The New York Times (7 февраля 1970 г.) с просьбой уточнить смысл опубликованного в газете репортажа:
«Текст и заголовки представляют событие как победу правого крыла над левым, в то время как на самом деле это была победа умеренно левых. В конце концов была принята резолюция Патнэма, хотя и с моими исправлениями».
Действительно, так и было, что еще хуже для Американского философского общества, – как бывает всегда, когда центристы начинают иметь дело с вопросами морали, поскольку в этой сфере компромиссы невозможны.
(И еще один штрих к торжеству мрачной справедливости: автор исправленной резолюции оказался учеником одного из лидеров консервативной оппозиции.)
Первоначальный проект резолюции был честнее исправленной версии и более философичен: он опирался на теоретическую базу и признавал ее. Эта база (марксизм) категорически ошибочна, однако сама ее ложность разрушает ее и служит для защиты слишком доверчивых: когда люди знают теоретические основания для любого утверждения, они могут проверить его, судить о нем самостоятельно и самостоятельно решать, соглашаться с ним или нет. Открыто объявить о своих принципах – значит открыть свои заявления для серьезного критического рассмотрения. Но увиливание от теории, провозглашение произвольных, ничем не подкрепляемых заявлений – это разрушительный акт, с которым не может поспорить никакая марксистская теория: он разрушает эпистемологию. Он подрывает принципы рациональности, обесценивает процесс цивилизованной дискуссии, отказывается от логики и заменяет ее методом «А вы говорите – а я говорю», который с большим успехом использовали лидеры студенческого движения.
Сложно понять, как так вышло, что практически вся программа «Манифеста коммунистической партии» была воплощена в жизнь в США, при том, что американские граждане никогда не голосовали за социализм. Однако сегодня вы могли увидеть, как тот же самый процесс проигрывается заново в рамках философского заседания.
Отказаться от теоретической базы, но при этом принять ее продукт – отказаться от марксистских методов (или скрыть их), но принять и пропагандировать их результаты – это низко даже для политиков. Когда же так делают философы, это лишь добавляет доказательств к тому, что философия мертва и что умерла она от собственной ненужности.
Мы можем произвести вскрытие и изучить то самое мнимое противоречие, о котором уже упоминалось, «два противоположных взгляда на задачи философии». Одна сторона считает, что эта задача состоит в том, чтобы «воспитывать умы и стимулировать мысли», и что политика не имеет к философии отношения; другая сторона, напротив, считает, что имеет и что философия должна заниматься «сегодняшним положением вещей в мире». Но что пропало из этого противоречия? Политика – в полном, истинном, философском значении этого слова.
Политика изучает принципы, управляющие правильной организацией общества; она основывается на этике – изучении ценностей, которыми должны руководствоваться люди в своем выборе и амбициях. И этика, и политика по своей сути всегда были ветвями философского учения с самого момента его зарождения.
Философия – наука о фундаментальных аспектах природы бытия. Задача философии – обеспечить человеку всеобъемлющий взгляд на мир. Этот взгляд должен быть основой, системой координат для всех его действий, мыслительных или физических, психологических или экзистенциальных. Этот взгляд дает ему объяснение природы вселенной, с которой ему приходится иметь дело (метафизика); способы, которыми он должен при этом пользоваться, то есть способы овладения знаниями (эпистемология); стандарты, по которым он выбирает себе цели и ценности, в отношении своей собственной жизни и характера (этика) и в отношении общества (политика); а методы конкретизации этого взгляда дает ему эстетика.
Человек не может сам выбрать, нужен ли ему такой всеобъемлющий взгляд на мир: без него он просто не сможет существовать. Природа его сознания не позволяет ему жить как животному – жизнью, направляемой лишь сиюминутными ощущениями. Как бы ни были примитивны людские действия, человек должен прогнозировать будущее и взвешивать их последствия; а для этого требуется концептуальный процесс, который не может происходить в вакууме: он требует контекста. Человек не может по собственному выбору решить, нужно ли ему такое видение мира, но он может выбрать взгляд, который является либо истинным, либо ложным. Если он окажется ложным, то это приведет человека к саморазрушению.
На ранних стадиях развития человечества этот взгляд на мир обеспечивала ему религия, то есть мистические фантазии. Психоэпистемологическая потребность человека – причина того, почему даже самые примитивные племена дикарей всегда выбирали для себя какую-то форму религиозных верований; мистическая (то есть антиреалистическая) природа такого взгляда на мир оказалась причиной невероятно долгого застоя в развитии человечества.
Человек стал самим собой в Древней Греции, примерно два с половиной тысячелетия назад. Рождение философии ознаменовало его зрелость; не содержание какой-либо конкретной философской системы взглядов, а глубже: сама идея философии – понимание того, что для обретения целостной картины мира требуется человеческий разум.
Философия – это цель, к которой религия может лишь слепо и беспомощно подбираться. Благородство, почитание, возвышенная чистота, суровая преданность поискам истины – все, что обычно ассоциируется с религией, на самом деле должно принадлежать сфере философии. Жизнь Аристотеля соответствовала этим принципам, так же, как отчасти жизнь Платона, Фомы Аквинского, Спинозы – но многих ли еще?
Если вы подумаете о том, что со времен Юма и Канта (преимущественно Канта, поскольку Юм был всего лишь Бертраном Расселом своего времени) философия изо всех сил старалась доказать, что человеческий разум бессилен, что реальности не существует, а если бы и существовала, мы бы все равно не могли ее постичь, вы поймете масштаб совершенного предательства.
Задача философии требует всего лучшего, на что способен человеческий разум; и ответственность здесь столь же велика. Большинство людей не способны сформировать всеобъемлющий взгляд на мир: некоторые потому, что их способности отданы другим занятиям; а большинство потому, что у них просто нет таких способностей. Но такой взгляд необходим каждому, и, сознательно или бессознательно, прямо или косвенно, люди принимают то, что предлагает им философия.
Интеграция фактического материала, охват контекста, распознавание принципов, установление причинных связей и, таким образом, обретение масштабного видения – вот некоторые из задач, которые должен решать философ любого направления, а сегодня – в особенности в политике.
На протяжении одной человеческой жизни две мировые войны опустошили весь цивилизованный мир; два мощных диктаторских режима, в России и Германии, совершали такие злодейства, что большинство людей просто не в состоянии в них поверить, и кровавая практика правления грубой силы распространилась по всему земному шару. Очевидно, что что-то не так с политическими идеями человечества и требует пристального внимания. Объявить – при таких обстоятельствах, – что политика не является предметом философии, – это такая невообразимая пассивность, что сравнить ее можно лишь с заявлением врача, сделанным в разгар эпидемии чумы, что здоровье и болезнь не являются предметом медицины.
Именно политическая философия устанавливает цели и определяет курс практической политики государства. Но политическая философия подразумевает абстрактную теорию, которая идентифицирует, объясняет и оценивает развитие событий, находит их причины, прогнозирует их последствия, определяет проблемы и предлагает методы их решения.
Однако на протяжении многих десятилетий академических философов не интересовали политические теории; политической философии не существовало вообще, за исключением затасканного марксизма – если его можно назвать философией.
Приняв все это во внимание, оцените противоречие, проявившееся на совещании Американского философского общества.
Если консервативные философы заявляют, что их работа – «воспитывать умы и стимулировать мысли, не отвлекаясь на политику», то как они намерены это осуществлять? Воспитывать умы – ради чего? Стимулировать мысли – в каком направлении? Очевидно, человеческий ум должен научиться мыслить безотносительно к человеческим проблемам, следовательно, подразумевая, что мышление не должно никак влиять на любые события, происходящие в окружающем мире или на его собственную жизнь, цели и деятельность. Если это так, долго ли он будет продолжать мыслить и каково будет его отношение к разуму и мышлению? (Ответ вы можете найти в любом университетском кампусе страны.)
С другой стороны, если радикальные философы утверждают, что их работа – разбираться с «сегодняшним положением вещей в мире», что они имеют в виду под «сегодняшним»? Философские проблемы не могут иметь отношения к конкретному дню или даже году. Откуда взялось «сегодняшнее положение вещей»? Кто его создал? Как философы должны выбирать, какой проблемой им заняться и на чьей стороне выступать?
Очевидно, что то, что радикалы подразумевают под вовлеченностью в политическую жизнь – это не профессиональное, то есть философское, участие в политике, а бездумное, эмоциональное «посвящение себя» любому лозунгу или событию настоящего момента. Радуясь полученному в отсутствие конкурентов положению монополистов в политической философии, они стремятся закрыть эту тему и обсуждают любые проблемы лишь в терминах практической политики, с принятием марксистской системы координат как само собой разумеющейся, в качестве догмы.
Однако основная часть вины падает на консерваторов: они приняли правила игры радикалов. Когда они говорят о бесстрастном безразличии к политике, они имеют в виду практическую политику, но также оставляют за кадром более широкое, философское значение термина. Они соглашаются с тем, что нет такой вещи, как политическая теория, и что область политики состоит лишь из случайных конкретных событий, не входящих в сферу рассмотрения философской науки. К тому, чтобы они согласились с этим, стремятся все радикалы.
Данное заседание в результате превратилось в отвратительный спектакль: в битву защитников отделения мысли от действия против защитников отделения действия от мысли – людей, вооруженных идеями в форме расплывчатых абстракций, против людей, вооруженных конкретными продуктами восприятия.
Итог оказался позорным вдвойне: 1) философское общество выступило с политическим заявлением; 2) характер заявления вызывал лишь брезгливое недоумение.
1. Никакая профессиональная организация не имеет права делать политических заявлений от имени своих членов. Каждый человек может только сам определять свои идеи, в том числе и политические убеждения, и не может ни передавать их кому-то, ни получать от кого-то. Это вопрос не «профессиональной этики», а личных прав. Практика выдвижения идеологических резолюций – пустое и аморальное изобретение системы групп влияния. По тем же самым причинам, по которым философ как думающая личность должен иметь твердые убеждения в политических вопросах, он не должен позволять высказывать их за него коллективу: он лучше всех прочих людей должен понимать, что человеческие убеждения не могут определяться или предписываться большинством. (Те же моральные принципы относятся к университетам, которые пытаются принять подобные резолюции.)
2. Если кинозвезда дает интервью, в котором осуждает военную тактику, никто не воспримет это всерьез. Если обкуренный подросток выкрикивает требования немедленно прекратить войну во Вьетнаме, независимо от способов, средств, контекста или последствий, любой задумается лишь о том, кто научил его всему этому. Но когда и то и другое делает философское общество, это позор.
Философия должна задумываться о природе нашей внешней политики, а не о стратегии наших военных операций. Философия должна рассматривать цель войны во Вьетнаме, а не то, нужно или не нужно бомбить что-либо. (Если кто-то начнет говорить о том, что бомбардировки деревень – это «моральная» проблема, пусть вспомнит о том, что деревни во Вьетнаме – это вражеские крепости, факт, который никак не упомянут в этой постыдной резолюции.)
Философы могут многое сказать о войне во Вьетнаме, и их участие отчаянно необходимо. Вся страна, в том числе наши солдаты, гибнущие в джунглях, находится в состоянии полнейшего непонимания этой войны и ее смысла. Но философский подход должен заключаться в исследовании идеологической истории того, как мы ввязались в эту войну, какие влияния или интересы заставили нас вступить в нее, какие ошибки внешней политики к ней привели, на чем основывалась эта политика и как можно их исправить.
Если бы было проведено такое исследование, оно бы напомнило стране о том, что войну во Вьетнаме начал президент Кеннеди, который был идолом протестующих пацифистов; что основы нашей внешней политики были заложены другим идолом, президентом Рузвельтом, и укреплены ООН и каждой группой, выступавшей за мир во всем мире с тех пор: что мы должны помогать всем, что мы несем ответственность за благосостояние всех народов мира, что изоляционизм – это эгоистическая, аморальная и непрактичная политика в «уменьшающемся» современном мире и т. д. Такое исследование продемонстрировало бы вред альтруистического «интервенционизма» или «интернационализма» и вывело бы должные принципы (основы национальных интересов), которые должны направлять международную политику Соединенных Штатов.
Это лишь краткое примерное описание того, чем могли бы заняться философы в отношении войны во Вьетнаме, но этого достаточно, чтобы сделать явной степень уклонения так называемых консерваторов.
Если – с разумом, справедливостью, моралью, фактами и историей на их стороне – они отказались от своего лидерства как философы и не могут предложить людям ничего, кроме совета игнорировать политику, любой может занять их место – и так и происходит.
Пассивное принятие поражения – не слишком широко распространенная характеристика среди людей, особенно среди американцев. Если в отчаянной ситуации одна сторона заявляет, что ничего нельзя сделать, а другая предлагает возможность действия, люди выбирают действие – даже если это некая самоубийственная попытка вроде данной резолюции.
Нужно помнить о том, что «разум», «справедливость», «мораль», «факты» и «история» – это вещи, которые большинство консервативных философов объявляют несуществующими, или необъективными, или непознаваемыми, или недоказуемыми, или принадлежащими к области произвольного эмоционального выбора. На протяжении десятилетий распространения таких доктрин, как прагматизм, логический позитивизм, лингвистический анализ, они отказывались от рассмотрения того факта, что эти доктрины разоружают и парализуют лучших людей, тех, кто воспринимает философию всерьез; и дают волю худшим, тем, кто, презирая философию, разум, справедливость и мораль, не задумываясь, отбросит с пути обезоруженных.
Философы не задумываются об этом в связи с будущим страны. Так что справедливо, что первыми оказались под ударом именно они. Группа, находившаяся в меньшинстве, захватила главную ветвь профессии, включающей около 7000 членов, и заставила ее дать пощечину самой себе с помощью резолюции, объявляющей философию фарсом.
Их братья сами на это напросились. Каким проблемам они хотели бы отдать приоритет по отношению к проблемам политическим? Среди докладов, которые должны были быть заслушаны на том же заседании, были такие: «Местоимения и имена собственные», «Можно ли осмыслить грамматику?», «Предположения как единственная реальность».
Единственная реальность, как это ей свойственно, на этом заседании отомстила за себя.
Июнь 1970 г.
3. Компрачикос
Айн Рэнд
I
«Компрачикос, или компрапекеньос, представляли собой необычайное и гнусное сообщество бродяг, знаменитое в семнадцатом веке, забытое в восемнадцатом и совершенно неизвестное в наши дни…
"Компрачикос", так же как и "компрапекеньос", – составное испанское слово, означающее "скупщик детей".
Компрачикос вели торговлю детьми.
Они покупали и продавали детей.
Но не похищали их. Кража детей – это уже другой промысел.
Что же они делали с этими детьми?
Они делали из них уродов.
Для чего же?
Для забавы.
Народ нуждается в забаве. Короли – тоже. Улице нужен паяц; дворцам нужен гаер…
Чтобы сделать из человека хорошую игрушку, надо приняться за дело заблаговременно. Превратить ребенка в карлика можно, только пока он еще мал…
Отсюда возникает настоящее искусство. Существовали подлинные мастера этого дела. Из нормального человека делали уродца. Человеческое лицо превращали в рожу. Останавливали рост. Перекраивали ребенка заново. Искусственная фабрикация уродов производилась по известным правилам. Это была целая наука. Представьте себе ортопедию наизнанку. Нормальный человеческий взор заменялся косоглазием. Гармония черт вытеснялась уродством. Там, где природа достигла совершенства, восстанавливался черновой набросок творения. И в глазах «знатоков» именно этот набросок и был совершенством…
Унижение человека ведет к лишению его человеческого облика. Бесправное положение завершалось уродованием…
Компрачикос умели видоизменять наружность человека, и это делало их полезными целям политики. Изменить наружность человека лучше, чем убить его. Существовала, правда, железная маска, но это было слишком грубое средство. Нельзя ведь наводнить Европу железными масками, между тем как уроды-фигляры могут появляться на улицах, не возбуждая ни в ком подозрения; кроме того, железную маску можно сорвать, чего с живой маской сделать нельзя. Сделать навсегда маской собственное лицо человека – что может быть остроумнее?
Компрачикос не только лишали ребенка его настоящего лица, они лишали его и памяти. По крайней мере в той степени, в какой это было им доступно. Ребенок не знал о причиненном ему увечье. Чудовищная хирургия оставляла след на его лице, но не в сознании. В лучшем случае он мог припомнить, что однажды его схватили какие-то люди, затем – что он заснул и что потом его лечили. От какой болезни – он не знал. Он не помнил ни прижигания серой, ни надрезов железом. На время операции компрачикос усыпляли свою жертву при помощи какого-то одурманивающего порошка, слывшего волшебным средством, устраняющим всякую боль…
В Китае с незапамятных времен существовало искусство, которое следовало бы назвать отливкой живого человека. Двухлетнего или трехлетнего ребенка сажали в фарфоровую вазу более или менее причудливой формы, но без крышки и без дна, чтобы голова и ноги проходили свободно. Днем вазу держали в вертикальном положении, а ночью клали на бок, чтобы ребенок мог спать. Дитя росло, таким образом, только в ширину, заполняя своим стиснутым телом и искривленными костями все полые места внутри сосуда. Это выращивание в бутылке длилось несколько лет. По истечении известного времени жертва оказывалась изуродованной непоправимо. Убедившись, что эксперимент удался и что урод вполне готов, вазу разбивали, и из нее выходило человеческое существо, принявшее ее форму». (Виктор Гюго, «Человек, который смеется»[3])
Виктор Гюго написал это в XIX веке. Его возвышенный ум не мог представить, что такая невероятная форма бесчеловечности сможет когда-то вновь стать возможной. XX век доказал, что он был неправ.
Производство монстров – беспомощных и искалеченных, нормальное развитие которых было нарушено, – происходит вокруг нас. Но современные наследники компрачикос умнее и хитрее, чем их предшественники: они не прячутся, они ведут свою торговлю в открытую; они не покупают детей, их отдают им по доброй воле; они не используют серу и железо, они достигают своей цели, не тронув пальцем своих маленьких жертв.
Компрачикос прошлого скрывали свою деятельность, но предъявляли ее результаты; их наследники делают наоборот: действие открыто, результат – невидим. В прошлом эта жуткая хирургия оставляла следы на лице ребенка, но не в его разуме. Сегодня она оставляет шрамы на разуме, а не на лице. В обоих случаях ребенок не понимает, как его уродуют. Нормальный мозг, данный ему природой, они заменяют умственной отсталостью. Это наилучший способ сделать человека не сознающим собственной жизни с помощью его собственного мозга.
Такой изобретательный метод применяется большинством сегодняшних деятелей сферы образования. Это компрачикос разума.
Они не помещают ребенка в вазу, чтобы его тело приняло ее форму. Они помещают его в «прогрессивный» детский сад, чтобы его разум принял форму, удобную для общества.
Прогрессивные детские сады начинают образование ребенка с трехлетнего возраста. Их взгляд на потребности ребенка агрессивно антикогнитивный и антиконцептуальный. Ребенок в этом возрасте, утверждают они, слишком мал для познавательного обучения; его природная потребность – не учиться, а играть. Развитие его познавательных способностей, утверждают они, – это неестественный груз, который не следует на него взваливать; он должен иметь свободу действовать под влиянием своих спонтанных побуждений и чувств, чтобы иметь возможность выразить свои подсознательные желания, неприязнь и страхи. Главная цель прогрессивного детского сада – «социальная приспособленность»; она должна достигаться через групповую деятельность, в которой ребенок должен развивать «самовыражение» (в форме делания всего, чего ему захочется) и подчинение группе.
(Представление о главных принципах теории прогрессивных детских садов в сопоставлении с рациональным подходом детских садов Монтессори вы можете получить из статьи «Метод Монтессори» – The Montessori Method – Беатрис Хессен, опубликованной в The Objectivist, в июле 1970 года.)
«Дайте мне ребенка на первые семь лет его жизни, – гласит известная сентенция, приписываемая иезуитам, – и потом вы можете делать с ним, что хотите». Это верно для большинства детей, за редкими, героически независимыми исключениями. Первые пять или шесть лет жизни ребенка критичны для его когнитивного развития. Они определяют не содержание его мыслей, но метод мышления, его психоэпистемологию. (Психоэпистемология – это изучение когнитивных процессов с точки зрения взаимодействия сознания человека и автоматических функций его подсознания.)
При рождении мозг ребенка – это tabula rasa; у него есть потенциал понимания – механизм человеческого сознания, но пока нет никакого содержимого. Говоря метафорически, это камера с крайне чувствительной неиспользованной пленкой (его сознание) и крайне сложным компьютером, ждущим программирования (его подсознание). Оба пока чисты. Он ничего не знает об окружающем мире. Он видит невероятный хаос, который должен научиться постигать с помощью сложного механизма, которым ему нужно научиться управлять.
Если бы взрослый человек за любые два года своей жизни мог выучить столько, сколько узнает ребенок за первые два года жизни, он стал бы гением. Фокусировать взгляд (не врожденное, а приобретаемое умение), понимать, что его окружает, путем объединения ощущений в образы (также не врожденное, а приобретаемое умение), координировать мышцы, чтобы суметь поползти, затем встать на ноги, а затем пойти; и в конце концов овладеть процессом формирования идей и научиться говорить – вот лишь некоторые из задач и достижений для ребенка, с объемом которых не могут сравниться у большинства людей достижения всей остальной жизни.
Эти достижения не являются сознательными и произвольными в понимании взрослого человека: ребенок заранее не понимает процессов, которые должны произойти для того, чтобы он усвоил какой-то навык; эти процессы реализуются преимущественно автоматически. Но тем не менее овладение навыками происходит, и огромные усилия, которые прилагает к этому ребенок, очевидны. Подумайте также о проницательности, чистоте и серьезности взгляда, которым смотрит на мир ребенок. (Если вы встретите такую же степень серьезности по отношению к реальности у взрослого, значит, вы встретили великого человека.)
Развитие познавательных способностей у ребенка не завершается к трем годам – оно лишь начинается в полном, человеческом, концептуальном смысле этого слова. Он только проходит через прихожую познания и обретает первичные предпосылки для знания, рудиментарные мыслительные инструменты, необходимые для того, чтобы приступить к обучению. Его разум находится в состоянии энергичного, бурного потока: он не способен справиться с образами, бомбардирующими его со всех сторон; он жаждет узнать все сразу. После гигантских усилий по обретению мыслительных инструментов он испытывает невероятное желание воспользоваться ими.
Для ребенка мир только начинается. Теперь это познаваемый мир; но в его разуме присутствует хаос, который он пока не научился организовывать – в этом состоит следующая, концептуальная задача. Каждый опыт для него – открытие; каждое впечатление, оставленное им в его разуме, ново. Но он еще не способен мыслить такими категориями: для него новым кажется сам мир. Ребенок в возрасте от двух до семи лет, открывающий мир для себя, испытывает то же самое, что испытывал Колумб, высаживаясь на берег Америки, то же самое, что испытывали астронавты, ступившие на Луну. (Не думаете же вы, что первым стремлением Колумба было «приспособиться» к аборигенам или что первым желанием астронавтов было принять участие в сказочной игре?)
Вот каково положение ребенка в возрасте около трех лет. Следующие три-четыре года определят яркость или трагичность его будущего: в это время происходит программирование когнитивных функций его подсознания.
Подсознание – интегрирующий механизм. Сознание наблюдает и устанавливает связи между всеми фактами человеческого опыта; подсознание вбирает эти связи и переводит их в автоматический режим. Например, возможность ходить достигается, после многих неудачных попыток, путем автоматизации бесконечных связей, контролирующих движения мышц; после того как ребенок научился ходить, ему не нужно сознательно контролировать такие вещи, как поза, равновесие, длина шага и так далее; простое решение пойти порождает интегрированный ответ мозга, позволяющий осуществить задуманное без участия сознания.
Развитие мышления требует продолжительного процесса автоматизации. Например, вы не можете воспринимать стол так, как воспринимает его ребенок, – как таинственный предмет на четырех ножках. Вы воспринимаете его как стол, то есть сделанный человеком предмет мебели, имеющий определенное назначение в человеческом жилище и так далее; вы не можете отделить эти признаки от образа стола, который вы видите, вы воспринимаете его как единое, неделимое понятие; однако все, что вы видите, – это предмет на четырех ножках, все остальное является результатом автоматической интеграции огромного объема концептуального знания, которое вы в свое время усвоили шаг за шагом. То же самое верно в отношении всего, что вы воспринимаете или испытываете; взрослый человек не может воспринимать или испытывать что-то в вакууме, он делает это в определенном автоматизированном контексте – и эффективность его мыслительной деятельности зависит от качества контекста, который автоматизирован подсознанием.
«Обучение речи – это процесс автоматизации использования (то есть значения и применения) идей. Более того: все обучение основано на процессе автоматизации, то есть первоначального обретения знания с помощью полностью сознательного, сосредоточенного внимания и наблюдения, и последующего установления мысленных связей, которые превращают это знание в автоматическое (мгновенно доступное в контексте), освобождая таким образом разум для обретения дальнейших, более сложных знаний» («Введение в эпистемологию объективизма» (Introduction to Objectivist Epistemology)).
Процесс формирования, интегрирования и использования идей не автоматический, а произвольный, то есть процесс, в котором используется как новый, так и автоматизированный материал, но который направляется сознанием. Это не врожденное, а приобретаемое умение; ему необходимо учиться — это наиболее важная часть обучения, и все остальные способности человека зависят от того, насколько хорошо или плохо он этому научился.
Данное умение относится не к какому-то конкретному содержанию человеческого знания в каком-либо конкретном возрасте, а к методу получения и организации знания – методу, с помощью которого разум справляется со своим содержимым. Этот метод программирует подсознание человека, определяя, насколько эффективно, посредственно или плохо осуществляются его когнитивные процессы. Программирование подсознания состоит из когнитивных привычек, усвоенных человеком; эти привычки образуют его психоэпистемологическую сферу.
Программирование определяется ранним опытом, наблюдениями и бессловесными заключениями ребенка. Таким образом, взаимодействие содержания и метода приобретает обратные связи: метод получения знаний зависит от их содержания, которое влияет на дальнейшее развитие метода, и так далее.
В потоке бесчисленных образов и мгновенных заключений ребенка главными оказываются те, которые помогают постичь окружающий мир и улучшают эффективность его мыслительных усилий. Сущность длительного, бессловесного процесса, происходящего в голове ребенка, выражается двумя вопросами: «Где я?» и «Стоит ли оно того?»
Ответы ребенка не облекаются в слова: они выражаются в форме определенных реакций, которые входят в привычку, то есть автоматизируются. Он не решает сознательно, что вселенная «благосклонна» к нему и что думать – это важно; у него развивается любопытство, стремление к новому опыту и желание понять его. Через автоматизированный мыслительный процесс в подсознании ребенка развиваются «встроенные» эквиваленты двух фундаментальных предпосылок, которые должны служить краеугольными камнями для его будущего ощущения жизни, – его метафизики и эпистемологии – задолго до того, как он сможет сознательно постичь эти концепции.
Приходит ли ребенок к выводу, что мир познаваем, и продолжает расширять границы своего понимания, пытаясь все больше концептуализировать знания и добиваясь все больших успехов и радости? Или он решает, что мир – это пугающий хаос, где то, что он узнал сегодня, назавтра становится своей противоположностью, где чем больше он видит, тем более беспомощным становится, и со временем отступает в келью своего собственного разума, заперев ее на замок? Достигает ли ребенок стадии самосознания, то есть схватывает ли различие между сознанием и существованием, между разумом и окружающим миром, которая приводит его к пониманию, что задачей первого является познание второго, что, в свою очередь, ведет к развитию его критической способности и контролю над собственными мыслительными операциями? Или он остается в неопределенном полусне, не понимая до конца, что он чувствует или воспринимает, когда заканчивается одно и начинается другое, в результате чего оказывается пойманным в ловушку между двумя непознаваемыми состояниями потока: хаосом внутри и снаружи? Учится ли ребенок определять, классифицировать и интегрировать свой опыт, обретая уверенность в себе, необходимую для развития масштабного видения? Или он учится не видеть ничего, кроме текущего момента и чувств, которые он порождает, никогда не рискуя взглянуть за его пределы, никогда не устанавливая никакого контекста, кроме эмоционального? Если выбрать последнее, это приведет к той стадии, когда под давлением любых сильных эмоций разум человека разрушается и реальность исчезает.
Такими проблемами и вопросами программируется разум ребенка в первые годы его жизни, по мере того как его подсознание автоматизирует один – психоэпистемологический – или другой набор когнитивных привычек, или континуум уровней шаткого перехода между двумя крайностями.
В итоге в лучшем случае примерно к семи годам ребенок уже может выработать масштабный концептуальный контекст, который будет освещать каждый его опыт, создавая постоянно наращиваемую цепь автоматизированных связей. В худшем же – ребенок чахнет по мере того, как съеживается его разум, и у него остается лишь неясная тревога и пустота, которая должна была бы быть заполнена его развивающимся интеллектом.
Интеллект – это способность справляться с широким спектром абстракций. Каковы бы ни были врожденные таланты ребенка, использование интеллекта – это приобретенный навык. Он должен быть получен с помощью собственных его усилий, но взрослые могут помочь ему в этом крайне важном процессе или, наоборот, замедлить его. Они могут поместить ребенка в такую среду, которая даст ему доказательства существования стабильного, постоянного, познаваемого мира, который будет стимулировать и вознаграждать его стремление к познанию. А могут – среду, где ничто ни с чем не связано, ничто не существует достаточно долго для того, чтобы быть понятым, ни на один вопрос нет ответов, ничто не определенно, где непонятное и непредсказуемое прячется за каждым углом и может накинуться на него в любой момент. Взрослые могут усилить или затруднить, замедлить и, возможно, разрушить полностью развитие концептуальных способностей у ребенка.
В «Руководстве доктора Монтессори» (Dr. Montessori's Own Handbook) рассмотрена природа и степень помощи, которая необходима ребенку в тот период, когда он ходит в детский сад. Он уже научился идентифицировать объекты, но не научился выделять признаки, то есть сознательно идентифицировать такие понятия, как высота, вес, цвет или число. Он едва научился говорить; он пока не способен понять природу этого удивительного для него умения, и его нужно учить применять его как следует (то есть учить концептуализации). Доктор Монтессори имеет в виду психоэпистемологическое обучение (хотя и не пользуется таким термином), когда пишет о своем методе следующее:
«Дидактический материал на самом деле предоставляет ребенку не "содержание" мышления, а порядок для этого "содержания"… Разум формирует себя сам с помощью специальных упражнений для внимания, наблюдения, сравнения и классифицирования.
Мыслительный подход, достигаемый с помощью таких упражнений, приводит ребенка к структурированному восприятию среды, восприятию, которое приобретает для него интерес открытий, и таким образом стимулирует его увеличивать их число до бесконечности и формировать в разуме богатое "содержание" ясных идей.
Теперь язык служит для фиксации с помощью конкретных слов тех идей, которые постигает его мозг… Этим способом ребенок может "найти себя" как в мире природных объектов, так и в мире предметов и слов, которые окружают его, потому что уже обладает внутренним указателем, который помогает ему быть активным и вдумчивым исследователем, а не блуждающим странником в неизвестной земле».
Намеренное, дисциплинированное использование разума – наивысшее возможное достижение для человека: именно это и делает его человеком. Чем значительнее умение, тем раньше нужно начинать его осваивать. Так же верно и обратное, если цель состоит в ограничении человеческого потенциала. Чтобы достичь атрофии интеллекта, состояния искусственно созданной тупости, нужно начинать работать над жертвой рано; превратить ребенка в интеллектуального карлика можно, только пока он еще мал.
В трехлетнем возрасте, когда разум ребенка почти так же пластичен, как его кости, когда его потребность и стремление к знанию выше, чем когда-либо, ребенок оказывается – посредством прогрессивного детского сада – среди группы таких же беспомощно невежественных, как и он сам, детей. Его оставляют не только без когнитивного руководства – его стремление к решению когнитивных задач подавляют. Он хочет учиться; ему приказывают играть. Почему? Ответа никто не дает. Его убеждают – через эмоциональные вибрации, пронизывающие атмосферу учреждения, через все грубые и тонкие способы, доступные взрослым, которых он не понимает, – в том, что самое главное в этом непонятном мире – не знать, а подчиняться группе. Зачем? Никто не дает ответа.
Он не знает, что ему делать; ему говорят делать то, что ему хочется. Он берет игрушку; ее отбирает у него другой ребенок; ему говорят, что он должен научиться делиться. Зачем? Ответа никто не дает. Он сидит один в уголке; ему говорят, что он должен быть с остальными. Зачем? Неизвестно. Он присоединяется к группе, тянется к их игрушкам, а его щипают за нос. Он плачет, не понимая, что происходит; воспитатель заключает его в объятия и пускается в излияния о том, как она любит его.
Животные и маленькие дети крайне чувствительны к эмоциональным вибрациям; это их основной способ познания. Маленький ребенок чувствует, искренни ли эмоции взрослых, и тут же улавливает вибрации лицемерия. Механические заученные манеры воспитателя – натянутая улыбка, воркующий голос, объятия и холодные, смотрящие в никуда глаза – добавляются в мозгу ребенка к определению слова, которое он скоро узнает: «фальшь». Он знает, что это маскировка; маскировка что-то скрывает, он испытывает подозрение и страх.
Маленький ребенок чувствует некоторое любопытство к другим детям своего возраста, но это не слишком сильный интерес. При ежедневном общении они просто смущают его, он ищет не равных себе, а тех, кто выше его в когнитивном плане, тех, кто знает. Обратите внимание на то, что маленькие дети предпочитают компанию детей постарше или взрослых, что они преклоняются перед старшими братьями и сестрами и пытаются им подражать. Прежде чем ребенок сможет наслаждаться компанией ровесников, он нуждается в развитии, в формировании чувства самоидентичности. Однако его заставляют находиться среди них и просто приспосабливаться.
Приспосабливаться к чему? К жестокости, к несправедливости, к слепоте, к глупости, к притворству, к пренебрежению, к насмешкам, к предательству, ко лжи, к непонятным требованиям, к надоедливым проявлениям чувств, к неспровоцированной злости и к подавляющему, всевластному присутствию прихоти как главного правила. (Почему к этому, а не к чему-то лучшему? Потому что это – защитные механизмы беспомощных, напуганных, несформировавшихся детей, которых оставляют без руководства и заставляют вести себя как толпа.)
Трехлетний ребенок попадает во власть толпы других трехлетних детей и оказывается в положении худшем, чем волк на псарне: волк по меньшей мере может убежать; от ребенка ждут, что он будет угождать собакам и искать их любви, когда они будут рвать его на кусочки.
Через некоторое время он приспосабливается. Он постигает смысл игры – бессловесно, путем повторов, имитации и эмоционального впитывания, задолго до того, как у него формируются идеи, необходимые для того, чтобы дать ей определение.
Он учится не подвергать сомнению высшую власть группы. Он обнаруживает, что такие сомнения табуированы неким пугающим, сверхъестественным образом; ответ на них дается в форме повторяющегося проклятия, подразумевающего, что он повинен в каком-то врожденном, не поддающемся исправлению грехе: «Не будь эгоистом». Так в нем зарождаются сомнения в себе, прежде чем он начинает полностью в себе разбираться.
Он учится тому, что неважно, как он поступает – хорошо или плохо, честно или нечестно, обдуманно или бессмысленно – если группа осуждает его поступки, значит, он неправ и его желания остаются неудовлетворенными; если она его одобряет, значит, все в порядке. Так зародыш морали постепенно уничтожается в нем еще до рождения.
Он учится тому, что нет смысла начинать какое-то серьезное собственное дело – например, строить из кубиков крепость, – ее все равно заберут себе или уничтожат другие. Он учится тому, что все, чего ему хочется, нужно получить сегодня, потому что никому не известно, что решит группа завтра. Так его зарождающееся чувство протяженности времени – реальности будущего – чахнет, сжимая границы его осознания и интереса до пределов настоящего момента. Он способен (и получает одобрение) на восприятие настоящего; он неспособен (и не получает одобрения) на запоминание прошлого и прогнозирование будущего.
Но даже настоящее оказывается урезанным. Воображение – это опасная роскошь, которую может себе позволить лишь тот, кто уловил разницу между реальным и воображаемым. Ребенок, вырванный из реальности, которую он еще не научился полностью осознавать, оказывается в мире фантазий и игр. Вначале он может испытывать смутное беспокойство: для него это не воображение, а ложь. Но он постепенно теряет это различие и начинает плыть по течению. Чем безумнее его фантазии, тем сильнее одобрение и интерес воспитателя; его сомнения неопределенны, а поощрение реально. Он начинает верить в собственные фантазии. Как он может быть уверен в том, что правда, а что нет, что действительно существует в мире, а что только в его голове? Таким образом, он никогда так и не достигает точного понимания разницы между существованием и сознанием: его шаткая опора на реальность рушится совсем, и его когнитивные процессы извращаются.
Стремление ребенка к знанию умирает медленно; его не убивают – оно просто растворяется и смывается прочь. Зачем беспокоиться о каких-то проблемах, если все их можно решить с помощью фантазии? Зачем стремиться открывать мир, если можно превратить его во что угодно в своем воображении?
Проблема в том, что желания постепенно тоже тускнеют. У ребенка не остается ничего, что бы направляло его, за исключением собственных чувств, но чувствовать он тоже боится. Воспитатели подталкивают его к самовыражению, но он знает, что это ловушка: это очередное испытание перед группой, чтобы увидеть, подходит он ей или нет. От него ждут каких-то чувств, но он больше не чувствует ничего – только страх, непонимание, беспомощность и скуку. Он чувствует, что с ним что-то не так, раз он ощущает такое, ему кажется, что остальные дети ничего подобного не испытывают. (То, что все они проходят через то же самое, находится за пределами его понимания.) Ему кажется, что все они чувствуют себя как дома и что лишь он один – не такой.
Поэтому ребенок учится скрывать свои чувства, симулировать их, притворяться, уклоняться – одним словом, подавлять. Чем сильнее его страхи, тем более агрессивно поведение; чем менее определенны его утверждения, тем громче голос. От детской игры он легко переходит к игре актерской. Он делает это со смутным намерением защитить себя, ощущая, что если группа не узнает, что он чувствует, то она не сможет причинить ему боль. У него нет ни возможностей, ни смелости осознать, что это не плохие, а хорошие свои чувства он старается защитить от группы: его чувства, касающиеся всего, что для него важно, всего, что он любит, – то есть первые, неоформившиеся рудименты его ценностей.
Ему удается скрывать свои чувства и ценности не только от окружающих, но и от самого себя. Его подсознание автоматизирует этот процесс – потому что ему больше нечего автоматизировать. (Спустя годы, с наступлением «личностного кризиса», обнаружится, что его маска защищает пустоту.) Таким образом, эмоциональный потенциал человека оказывается подорван, и вместо «спонтанности» или эмоциональной свободы он получает арктическую пустыню подавленных чувств.
Человек сам не знает, какие шаги сделали фальшивкой его самого.