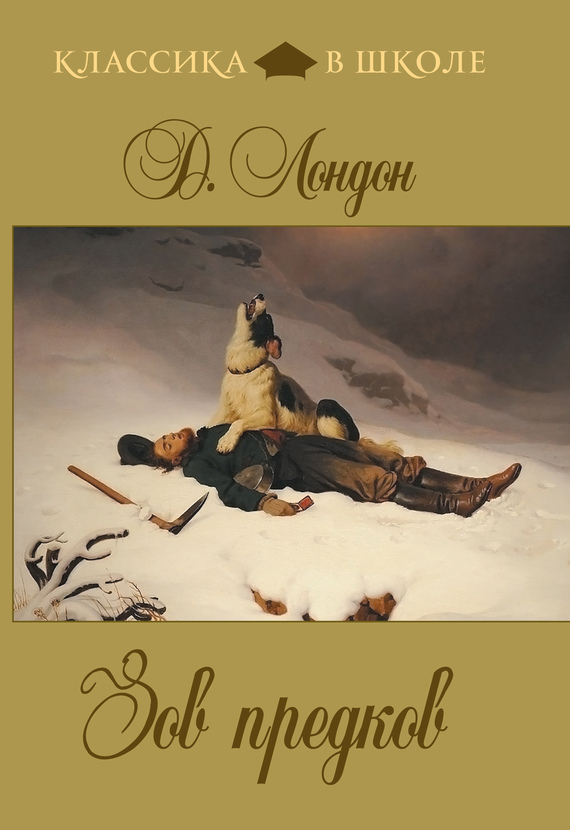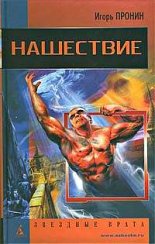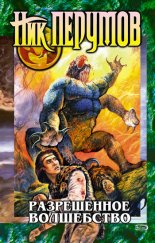Миры под лезвием секиры Чадович Николай

— Да.
— Оно и видно. От йода пожелтела вся. Докторку бы мы без разговоров взяли.
— Хватит горбатого лепить! — не выдержал нетерпеливый Зяблик. — Гони сюда своих дружинников, да только с оружием.
— Прикуси язык, мурло небритое, — спокойно ответила молодуха. — Если бы нас самих шушера городская не донимала, не видать бы вам помощи. Самая страда, все в поле. Но, как видно, судьба нам сегодня другое ворожила.
— А ты баба скипидарная, — с уважением заметил Зяблик. — Как хоть звать-величать?
— Виолетта я, — молодуха потупилась.
— Не-е, на Виолетту ты не похожа. Я тебя буду Домной звать.
— Зови как хочешь, а я все равно не отзовусь… Ожидайте здесь, пока мы не соберемся. С места не двигайтесь, а еще лучше — машину свою назад откатите. Тут прямо перед вами ловчая яма замаскирована. Еще немного — и кувыркнулись бы. Доставай вас потом…
С собой Виолетта привела шесть человек — двух матерых мужиков, трех парней призывного возраста и младшую сестру Изабеллу, хоть и худую, но бедовую. Кроме топоров и самодельных пик, на вооружении дружинников состояли два ружейных обреза и автомат Калашникова.
Изабелла залезла в драндулет на колени к Смыкову, остальные разместились в телеге на резиновом ходу, запряженной парой мышастых степных коньков. Ехать решили дорогой хоть и дальней, но скрытной — через Мезеновский лес, плотину и пригород Шпильки.
В пути Изабелла вдоволь накурилась дармовым самосадом (дома сестра не позволяла) и поведала о житье-бытье общины.
— Картошки, маниоки и ячменя хватит до следующего урожая, а может, еще и на обмен останется. Завели свиней, кур и страусов. У арапов за металлолом выменяли бегемота и насолили аж тринадцать бочек мяса. Сама недавно ездила на толчок в Кастилию. Наторговала там хорошо, очень у них посуда наша идет и швейные иголки. Правда, меня там два раза изнасиловали. Хотя это, может, и к лучшему — авось забеременею. А то в общине за целый год только трое ребят родилось. Хотя мужики баб вроде исправно обслуживают. Почему бы это, докторша?
— Когда-то в больших городах устраивались зоопарки, — сказала Верка. — Держали в них напоказ всяких диких зверей. И если у какой-нибудь львицы или слонихи рождался детеныш, это считалось событием. Не хотели дикие звери в неволе размножаться. Вот и мы сейчас вроде как в клетке, — она ткнула пальцем в нависший над головой низкий, давящий свод, похожий на земное небо примерно так же, как стоячая загнивающая вода лимана на живое бурное море. — Ты, девочка, солнышко хоть раз видела?
— Не помню, — беззаботно ответила Изабелла. — Сойдет, в крайнем случае и без солнышка. Только скучно у нас. Жить можно, но скучно. А сбежишь — ноги с голодухи протянешь или в беду какую угодишь.
— Ничего, — мрачно заверил ее Зяблик. — Скоро повеселимся.
Экспедиция преодолела лес, где среди полузасохших, задушенных лианами сосен и чересчур буйно вымахавших берез уже торчало что-то глянцево-зеленое, пышное, непривычное глазу, и выехала на бетонную плотину, рассекавшую обширное моховое болото, некогда бывшее дном полноводной реки Лучицы (оставшийся от нее ручеек теперь назывался Нетечью). Среди зеленой трясины рыжей горой торчала огромная, как крейсер, землечерпалка и пришвартованная к ней сухогрузная баржа
— обе проржавели до полной утраты сходства с творениями рук человеческих.
Миновав пригород, ранее застроенный деревянными домами и потому сначала превратившийся в пепелище, а потом — в опасные для человека джунгли, драндулет затормозил у развалин бензоколонки. Полчаса спустя подъехала и телега. Чмыхало прокомментировал это событие так:
— Конь едет — тихо. Драндулет едет — в Лимпопо слышно.
— А почему ваш черненький все время молчит? — Изабелла покосилась на Цыпфа. — Язык проглотил?
— Да если бы сам, — печально вздохнул Зяблик. — Тут жуткая история вышла. Его не так давно дикари-киркопы прихватили. А они все сплошь людоеды. Но человека едят хитро. Сразу не убивают, а живого на части крошат, чтобы мясо раньше времени не протухло. Первым делом они у пленника всякую мелочь отрезают: язык, уши, пальцы и так далее. Чтобы он кровью не изошел, раны головешками прижигают, а жилы перевязывают. На следующий день задницу отрубают. Это у них главное лакомство, на шашлыки идет. Ну а потом — руки до локтей, ноги до колен. На студень. Из ляжек похлебку варят. Напоследок очередь до мозгов и потрохов доходит. На неделю человека хватает, а то и больше. Нашему дружку еще повезло. Мы его уже на следующий день обратно выменяли. Только языка да мужского хозяйства лишился.
— Тебе бы самому хозяйство отрезать! — Изабелла легко выпрыгнула из драндулета и побежала к своим землякам.
— Такое на самом деле было или ты придумал? — Цыпф уставился на Зяблика.
— Было. Только меня по ошибке с задницы есть начали, а она — как подметка. Вождь клык сломал и велел вместо меня повара изжарить…
Тактика прочесывания города была незамысловата и не требовала участия крупных сил. Обитаемыми могли считаться лишь дома, расположенные вблизи источников воды (кому охота таскаться с ведрами за несколько километров?), а те были известны наперечет. Это обстоятельство сразу сокращало объем работы раз в десять. Кроме того, существовало немало примет, выдававших присутствие людей в этом мертвом городе. Так, если в подъезде пышно цвела какая-нибудь колючая тропическая дрянь, туда и соваться было нечего. Человеческое жилье обнаруживалось по дымку очага, по запаху жареных манек, по развешанному на балконе белью, по выбитым в траве тропинкам, по неосмотрительно выброшенному поблизости мусору.
Если дом попадал под подозрение, у каждого подъезда выставлялся вооруженный человек, а трое-четверо начинали поквартирный обход, при необходимости сокрушая запертые двери.
— «Влазное» ты, Лева, от души проставил, — сказал Зяблик Цыпфу. — А сейчас мы тебя в деле окрестим, кровушкой. Своей или чужой, это уж от тебя будет зависеть.
— Ладно, — буркнул Лева. — Не вчера родился, кое-что понимаю…
— Учить тебя будем, как в старину плавать учили, — продолжал Зяблик. — Кидали салажонка в омут и ждали, пока он сам не выплывет. Некоторые выплывали. А которые ко дну шли, тех вытаскивали, откачивали и опять кидали. Очень клевый метод.
— А если я нож в живот получу или пулю между глаз, вы меня тоже откачаете? — угрюмо поинтересовался Лева.
— Ты про это не думай. И к шушере мелкой особо не цепляйся. Мы их только для отвода глаз гоняем. Главное, хоть одного аггела живьем взять. Надо, кровь из носа, узнать, чего ради они сюда пригребли.
Начали с панельной девятиэтажки, демаскированной отчаянным криком петуха. Быстро выставили оцепление, пару дружинников послали на крышу и уже спустя десять минут в одной из квартир первого этажа обнаружили старуху, не только умудрившуюся неведомым образом уцелеть во всех передрягах последних лет, но и сохранившую при себе дюжину кур-несушек. Хотя разъяренный петух и успел клюнуть Леву Цыпфа, перед старухой пришлось извиниться. Пусть доживает свой век спокойно.
Три следующих дома на этой улице успели утратить память о роде человеческом, зато из подвала четвертого извлекли двух завшивевших бродяг, уже почти не людей, а вместе с ними — остатки кабана, недавно пропавшего из хозяйства Виолетты. Кабанья голова, лопатка и огузок вернулись к прежним владельцам, бродяги же получили компенсацию — сначала тупой стороной сабли от Чмыхало, потом прикладом обреза от Виолетты.
После шести часов почти непрерывной беготни по этажам, взламывания дверей, разрушения баррикад, мордобоя, предупредительных выстрелов в потолок и коротких, но въедливых допросов телега до краев наполнилась добычей: мешками картошки, банками домашних солений, связками битой птицы, холодным оружием кустарного производства, а сверх того — двумя девочками-беспризорницами, которых тут же удочерила Изабелла. За это время из города в сторону кастильской границы было изгнано больше полусотни подозрительных личностей, по сути дела — крыс в человеческом облике (некоторых для острастки пришлось даже бензинчиком облить), а потери ватаги по-прежнему исчислялись одной-единственной царапиной на ляжке Цыпфа.
Никто из попавшихся на пути людишек, будь то звероватый бродяга или безвредная, как мотылек, бабуся, не смог миновать внешне доброжелательного, но подковыристого внимания Смыкова. Время от времени он сообщал что-то Зяблику на ухо, то повергая его в мрачное раздумье, то заставляя оживленно потирать руки.
Хромого и горбатого, но ловкого, как мартышка, паренька, кормившегося за счет разорения птичьих гнезд и большую часть времени проводившего на крышах домов да в кронах деревьев, допрашивали особенно долго. После этого Зяблик сразу утратил интерес к району, который они сейчас прочесывали.
— Давай еще в одно местечко заглянем, и все на сегодня, — сказал он Виолетте.
Та вначале опрометчиво согласилась, но, узнав, что интересующее Зяблика местечко находится на другом конце Талашевска, стала энергично отнекиваться. Сошлись на компромиссе: груженая телега в сопровождении пары дружинников отправляется восвояси, а всех остальных Чмыхало попозже доставит домой на драндулете.
Район, в который они перебрались, весьма отличался от предыдущего. Дома не торчали здесь особняком, а сливались разноэтажными фасадами в сплошную стену, на которой псевдобарокко соседствовало с конструктивизмом, а пышные барельефы — с унылой силикатной плиткой. Крытые железом, шифером, а кое-где и черепицей крыши образовывали уступчатые террасы, позволявшие без труда перебираться с улицы на улицу. Многочисленные пожарные лестницы, слуховые окна и просто прорехи в кровле очень способствовали игре в казаки-разбойники, которая вот-вот должна была где-то здесь развернуться.
Пугая ворон и кошек, Смыков долго расставлял людей — кого на стыке двух крыш, кого под арку проходного двора, кого за старинный брандмауэр, кого в нишу подъезда. В ударную группу, кроме него самого, вошли Зяблик, Цыпф, Виолетта и Чмыхало.
С тыла подошли к мрачному облупленному зданию, похожему на котельную. Заглянули в закопченное окошко. Покурили. Поежились. Попытались шутить — не вышло.
— Ну, двинем, благословясь, — Зяблик выдохнул последнюю струю дыма и взмахнул рукой так, словно швырял на землю не окурок, а шапку. — Оружие наготове держите. Только своих не постреляйте. К тебе это, Лева, в первую очередь относится.
Он ногой высадил раму и кряхтя перебрался через подоконник. Попали в темный коридор, пахнущий золой, паутиной, ржавчиной. Сначала пошли, потом побежали, спотыкаясь о куски шлака и какую-то ветошь. Смыков чертыхнулся, чего обычно никогда не делал.
Цыпф все никак не мог сдвинуть тугой флажок пистолетного предохранителя и тупо повторял про себя: «Скорее бы началось, скорее бы началось…»
По железному гулкому трапу спустились в просторный подвал, скудно освещенный протянувшимися сверху столбами света, в которых густо плясали пылинки. Под ногами захлюпало.
«А может, пронесет, — подумал Цыпф, сердце которого колотилось, словно на него замкнули электрическую цепь переменного тока. — Может, здесь и нет никого!»
Не пронесло. Сбоку, из темноты, что-то оглушительно грохнуло, харкнув снопом оранжевых искр. В ноздри пахнуло смрадом сгоревшего пороха, под сводами подвала пошло гулять эхо, но особо разгуляться ему не дал новый, уже и вовсе нестерпимый грохот, на пару секунд намертво забивший уши ватными пробками, — это Виолетта, упав на колено, выпалила из своего обреза.
И понеслось, и поехало…
Совсем рядом кто-то звонко взвизгнул — не то Чмыхало, не то его сабля, вылетевшая из ножен. По стенам метались огромные черные тени, а канонада стояла не хуже, чем в Трафальгарском сражении. Вывернувшийся неизвестно откуда человек едва не сбил Цыпфа с ног, и тот уже хотел выстрелить (предохранитель скользнул вниз легко, как по маслу), но вовремя узнал бледного, взъерошенного Зяблика, который тут же канул в промежуток между двумя огромными допотопными машинами, похожими на снятые с колес паровозы. Там дважды коротко полыхнуло оранжевое пламя.
Цыпф побежал было вслед за Зябликом, но все остальные — Смыков, Чмыхало и Виолетта — рванули в обратную сторону, перемешавшись с какими-то другими, словно из-под земли появившимися людьми. Перекрывая стук пистолетов, опять пушечно рявкнул обрез. Чиркнув по потолку, серебряной молнией промелькнула сабля, и тот, кого она достала, вскрикнул, как кошка, прищемившая хвост.
Вновь появился Зяблик, волоча по полу обмякшее человеческое тело. Он на миг задержался, когда луч света упал на запрокинутое кверху и сплошь залитое черной кровью лицо своей жертвы («Лицо мертвеца!» — сразу догадался Цыпф), злобно выругался.
— За мной! — крикнул Смыков. — Быстрее! Драться в подвале было уже не с кем, и все, толкаясь, кинулись в другой темный коридор, по которому торопливо стучали сапоги убегавших. Ни разу не выстреливший пистолет оттягивал руку Цыпфа, как кирпич, и он, чтобы хоть немного уменьшить этот вес, пальнул навскидку через плечо Смыкова. Пуля с визгом пошла рикошетить от стены к стене и все же догнала кого-то, сразу сбившегося с ноги.
Потом впереди стукнула дверь: открылась, закрылась, и снаружи лязгнул запор.
— Назад! — рявкнул Зяблик, оказавшийся сейчас позади всех. — Уйдут, мать их в дышло!
Снова промчались через подвал, где ничего не изменилось, только сизый дым оседал плотными слоями да тяжкий дух обильно пролитой крови перебивал все-другие запахи, потом преодолели гулкий трап, через окно вывалились наружу — словно на белый свет из ада вернулись — и без промедления рванули вслед за Зябликом к арке, ведущей на улицу.
Цыпф ожидал услышать здесь выстрелы, крики, топот, однако вокруг было на удивление тихо, только где-то печально перекликались птицы. Первое потрясение прошло, но ничего не кончилось, и на мостовой было еще страшнее, чем в подвале
— нельзя спрятаться от своих и чужих, нельзя отсидеться в темноте, нельзя увернуться от пули, которая может прилететь с какой угодно стороны.
Зяблик распахнул дверь подъезда, в котором была оставлена засада — там на кафельном полу кучей лежали люди. Сначала даже непонятно сколько, но потом стало ясно, что двое: снизу дружинник с черным моноклем порохового ожога вокруг залитой кровью глазницы, сверху еще продолжавший дергаться в агонии незнакомый бородач, пробитый пикой насквозь, от подреберья до загривка.
— Как медведь на рогатину напоролся, — задыхаясь, сказал Смыков.
— Касатик ты мой родненький, — дурным голосом запричитала Виолетта. — Да как же тебя так угораздило? Какой же разбойник на тебя руку поднял? Какой же лиходей единственного сыночка у матери отнял? А что я твоим деткам скажу? А как я им в глазоньки гляну?
— Заткнись! — прикрикнул на нее Зяблик.
— Сам заткнись! — немедленно ответила Виолетта, кулаком вытирая слезы. — Кто нас сюда привел? Не ты ли? Кто под пули подставил? А теперь — заткнись! У-у, ирод поганый! Быстро свою докторку сюда зови!
— Какая тебе, к черту, докторка? Готов он — разве не видишь! Мозги из затылка текут!
Наверху хлопнул чердачный люк, а немного погодя донесся сухой, далекий треск выстрела, куда более тихий, чем шум потревоженных им птичьих стай.
— Крышами уходят! — крикнул Смыков. — Трое наверх, остальные к пожарным лестницам! — и проворно юркнул обратно под арку.
— Ой, гибель моя пришла! — опять запричитала Виолетта. — Ой, не полезу я на крышу! Ой, мамочка, что эти изверги вытворяют! Мало им невинной кровушки, так они и меня, горемычную, хотят жизни лишить!
— Во двор беги! — заорал ей на ухо Зяблик. — Смотри за лестницами!
— Тьфу на тебя, проклятый! — Виолетта ловко перезарядила обрез и кинулась вслед за Смыковым.
В суматохе все вроде бы забыли о Леве Цыпфе, но он даже и не подумал остаться вместе с мертвецами в подъезде, а вслед за Зябликом и Толгаем помчался вверх по лестнице, мимо распахнутых дверей давно разграбленных квартир, в которых сквозняк шелестел отставшими от стен обоями.
На крыше гулял ветер, торчали целые заборы вентиляционных труб, а множество переломанных и покосившихся телевизионных антенн напоминало засеку, приготовленную против вражеской конницы. Еще тут обильно произрастал всякий зеленый сор, начиная от лепешек мха и кончая пышными кустами дикого гамаринда.
Двое людей в черных высоких колпаках убегали по грохочущему железу, и деваться им вроде было некуда: справа глухая кирпичная стена с кладкой красным по белому «Миру — мир», слева присевший за трубой дружинник с автоматом, впереди — провал улицы.
Чмыхало и Зяблик стояли недалеко от люка и глядели вслед убегающим. Автоматчик приподнялся и пальнул одиночным выстрелом — скорее для острастки, чем на поражение. На многоэтажную брань Зяблика он ответил жестами: у меня, дескать, всего четыре патрона осталось, особо не разгонишься, самому хотя бы уцелеть.
Те двое скрылись за какой-то башенкой и, едва только Зяблик и Чмыхало подались вслед за ними по гребню крыши, открыли пистолетную стрельбу. Впервые в жизни услышав, как пули чиркают слева и справа от него, Цыпф последовал примеру приятелей — присел на корточки.
— По верхотуре к ним не подберемся, — сказал Зяблик. — Перещелкают, как куропаток.
— Жечь давно надо твой город, — буркнул Чмыхало, ощупывая одежду. Он никак не мог привыкнуть пользоваться карманами и постоянно путался в них. — Батыр не ворона, по крышам не скачет. Батыр в чистом поле воюет.
— Конечно, в чистом поле вы воевать мастера. Десять на одного… Забыл, как вы наших князей на реке Калке замочили?
— Зябля, сколько раз тебе Толгай говорил: не знаю я реку Калку. Толгай дальше реки Урунги не ходил. И отец его не ходил. И дед.
— Внук, значит, пойдет…
— Вот у внука за своих князей и спросишь… На! — он протянул Зяблику ручную гранату в гладком зеленом корпусе.
— Это дело! — тот подбросил ее на ладони. — Да только далековато чуток. Не доброшу. Может, миномет сделаем?
Беззаботный Чмыхало, отродясь не имевший понятия о технике безопасности, кивнул, забрал гранату обратно и, крепко зажав ее в горсти, выдернул предохранительную чеку. Люди, знакомые с фокусами Зяблика, тот же Смыков, к примеру, услышав зловещие слова про миномет, давно бы смылись от греха подальше, но наивный Лева даже чуть привстал, чтобы лучше видеть.
Зяблик выпрямился во весь рост и застыл в позе футболиста, бьющего штрафной, — корпус откинут чуть назад, руки растопырены для равновесия, правая нога занесена для удара так, что пяткой почти касается ягодицы, взор устремлен не на мяч, а на цель. Чмыхало, продолжая сидеть на корточках, невысоко подбросил гранату (спусковой рычаг звякнул, освобождая ударник), и Зяблик, рявкнув на выдохе: «Получай!» — врезал по ней подъемом ноги.
Граната понеслась по пологой дуге и, как шрапнель, рванула над кирпичной башенкой. Когда дым рассеялся, стало видно, что люди, ранее сидевшие за ней, теперь бегут к краю крыши — вернее, один бежит, а второй еле-еле ковыляет. Аналитический ум Цыпфа выдал сразу три варианта столь странного поведения этой парочки: или они, оглушенные взрывом, просто потеряли ориентацию, или позорному плену предпочитают смерть на камнях мостовой, или надеются, что за их спинами сейчас вырастут крылья.
А потом случилось такое, чего не ожидал никто, даже не верящий ни в сон, ни в чох, ни в вороний глаз Зяблик. Когда до водосточного желоба осталось не больше шага, один из двоих, бежавший первым, прыгнул и, пролетев по воздуху семь или восемь метров, лягушкой распластался на покатой крыше противоположного здания.
Раненый, похоже, собирался повторить трюк своего напарника, но в последний момент автоматчик успел-таки срезать его короткой очередью.
Перед тем как нырнуть в слуховое окно, человек, перепрыгнувший улицу, сорвал свой колпак и помахал им, как флагом. На его голове, среди гривы нечесаных волос, сверкнули короткие золотые рожки.
— Матерая с-сволочь! — Зяблик вскинул пистолет, но стрелять было уже не в кого.
Снизу раздался пронзительный женский визг — не то Виолетты, не то Изабеллы. Верка визжать не умела: или глотку давно прокурила, или уже отвизжала свое, который год болтаясь с ватагой Смыкова.
Спустя полчаса итоги схватки прояснились окончательно.
Трое аггелов — если только это были действительно они — полегло в подвале, четвертый напоролся на пику в подъезде, пятый, нашпигованный пулями и осколками, разбился, упав с крыши (чуть ли не на голову Изабелле, которая и подняла визг), а шестой сбежал — самым невероятным образом. Зяблик шагами измерил ширину улицы — получалось почти восемь метров, чуть меньше европейского рекорда, установленного в те времена, когда люди бегали и прыгали для собственного удовольствия, а не спасая свои шкуры.
Уходя проходными дворами, шестой аггел наскочил на оставленного в оцеплении дружинника, вооруженного только топором. Сейчас этот неудачник (совсем еще молодой парень с едва пробившейся на лице щетиной) лежал в промежутке между двумя проржавевшими мусорными баками, неестественно вывернув на сторону голову, державшуюся, наверное, только на лоскутьях кожи. Кровь, добытая из его перерезанного горла, понадобилась аггелу, чтобы оставить на стене малопонятный автограф: «Зяблик. Кузнец помнит о тебе!»
Пока Изабелла выла над покойником, приходившимся ей какой-то дальней родней, Виолетта ошарашенно спросила:
— Что это хоть за Кузнец такой?
— Каин, Кровавый кузнец, — неохотно ответил Зяблик. — Они же, гады, на Каина молятся. Ты что, не знала?
— Откуда ей знать? — заметил Смыков, старательно перерисовывая надпись в свой блокнот. — У нее, не в пример некоторым, среди аггелов приятелей нет.
Зяблик уставился на Смыкова долгим взглядом, в котором неизвестно чего было больше — удивления или жалости. Так смотрят на прокукарекавшего поросенка или на хрюкающего петуха. Потом Зяблик сказал:
— Ты, что ли, оцепление расставлял? И как же это тебя угораздило на самое бойкое место шкета безоружного сунуть?
— Не надо, братец вы мой, валить с больной головы на здоровую, — отозвался Смыков. — Сами же упустили преследуемого, а признаться в этом не хотите.
— Я упустил? — удивился Зяблик. — А чего же ты его внизу не перехватил?
— Я пожарную лестницу охранял.
— Задницу свою ты охранял! Мы их от пожарных лестниц сразу отсекли!
— Не знаю, кого вы там от чего отсекли, — Смыков пожал плечами. — Мне снизу не видно.
— Ну ты и фрукт. Смыков…
Тут с улицы донесся тревожный свист Толгая, а из-за угла выскочила запыхавшаяся Верка.
— Идите посмотрите, что там делается! — крикнула она.
Все, кроме оставшихся возле мертвеца сестриц, устремились за ней. Шли не таясь и оружие не доставали — по Веркиному лицу было понятно, что зовут посмотреть на что-то хоть и неприятное, но опасности не представляющее.
Разбившийся аггел лежал там, где и прежде, — ноги на тротуаре, голова на мостовой. Чмыхало кругами ходил возле него и напоминал кота, напоровшегося на заводную мышь. Выглядел аггел как любой человек, упавший с крыши пятого этажа,
— то есть как мешок костей.
И вот этот мешок костей шевелился, стараясь подняться.
Ноги с вывернутыми на сторону коленными суставами скребли по камню, отыскивая опору. Голова, на которой вместе с кровью засыхало что-то похожее на яичный белок, тряслась. Руки с торчащими выше запястий обломками лучевых костей, пробивших не только кожу, но и ткань рубахи, упирались в мостовую. Ангел отхаркивал зубы и черные тягучие сгустки, хрипел, дергался и снова валился на брусчатку.
— Он же мертвым был, — прошептала Верка. — Я пульс щупала.
— Вот погоди, сейчас он на ноги встанет и тебя пощупает, — зловеще пообещал Зяблик. — Аггел он и есть аггел, если только настоящий. Из человечьей шкуры вылез, а чертом стать — слабо! Вот он и пугает нас… Толгай, сделай ты с ним что-нибудь.
Пока Чмыхало вытаскивал саблю, все повернулись и, не оборачиваясь, двинулись туда, где остался драндулет. Зяблик, правда, возвратился с полдороги и, разув аггела, осмотрел его босые ступни, а потом — голову, лежавшую уже на приличном удалении от хозяина.
— Щенки они все, — сказал он, догнав ватагу. — И этот попрыгунчик, и те в подвале… А старшой ушел.
— Тебя-то они все же откуда знают? — спросил Цыпф, вспомнив о кровавой надписи на стене.
— Своим меня считают. Как раньше в военкомате говорили, неограниченно годным… Есть на мне Каинов грех. Да не один…
Как и уговаривались, всех дружинников — и живых и мертвых — погрузили в драндулет. Виолетта злорадно пообещала оставить Чмыхало в своей общине — в счет возмещения ущерба, так сказать.
— Ох, потом пожалеете, — мрачно покачал головой Зяблик. — Если этот нехристь с какой-нибудь вашей бабой ночь перекантуется, она к себе никакого другого мужика больше ни в жизнь не подпустит. Ему же без разницы, что баба, что кобылица. Дикий человек. Потерпят такое ваши благоверные?
— А мы их спрашивать не собираемся, — отрезала Виолетта, почесывая себе за ухом стволом обреза. — Пусть хоть один стоящий мужичонка на развод будет.
— Не-е, — осклабился Чмыхало. — Ялган… Неправда… Толгай землю ковырять не будет. Толгай волю любит…
Когда драндулет укатил, снова спустились в подвал и обшарили все закоулки. Кроме кое-какой еды, пары пистолетов и сотни патронов (на ближайшем толчке один патрон шел за мешок картошки), обнаружили огромную чугунную сковороду, на которой, наверное, можно было целиком зажарить теленка.
— Надолго, гады, устраивались, — Зяблик злобно плюнул на сковородку. — Даже капище свое оборудовали.
Цыпф несколько раз возвращался туда, где в рядок лежали мертвые аггелы, уже разутые, с вывернутыми карманами. Потом, воровато оглянувшись, он за ноги оттащил одного из них поближе к свету.
— Что ты его дергаешь? — неодобрительно заметил из темноты Зяблик. — Живых надо было дергать.
— Послушай… я его, кажется, раньше видел, — неуверенно сказал Цыпф, склонившись над трупом.
— Где ты его мог видеть? — Зяблик неохотно приблизился.
— Он вместе с Сарычевым в Эдем идти собирался. Я им муку и сахар отвешивал.
— Точно?
— Очень похож… Правда, я его только раз видел, мельком. Надо бы у ребят из Трехградья уточнить.
— Как же, уточнишь… Ищи-свищи их теперь…
Они отошли к стене и сели на трубу, обмотанную раздерганной теплоизоляцией.
— Видишь, какая хреновина получается, — помолчав, сказал Зяблик. — Аггелы-то какие стали! С крыши на крышу, как блохи, сигают. После смерти на карачках ползают. Что относительно этого наука может сказать?
— Читал я где-то, что у каждого человека сил в организме запасено гораздо больше, чем ему в повседневной жизни требуется. Любой из нас может в принципе на восемь метров прыгнуть или доброе дерево с корнем вывернуть. Но есть опасность, что связки и мышцы такой нагрузки не выдержат. Поэтому в нервной системе какой-то предохранитель имеется, не позволяющий Силе освобождаться сверх необходимого. Ну а в минуты смертельной опасности или сильного душевного потрясения этот предохранитель иногда срывается. Тогда человек способен и на отвесную скалу залезть, и грузовик за передок поднять, и без головы, как петух, бегать. Были такие случаи.
— Значит, ты считаешь, у аггелов на крыше такой предохранитель сорвался?
— Вот не знаю… — Цыпф развел руками.
— А тот сиволапый, что с автоматом за трубой сидел, говорит: глотали они что-то.
— Что они могли глотать?
— Про это у них самих надо было бы спросить, да уж поздно… Тебе чифирить не приходилось?
— Я и чаю-то настоящего никогда не пробовал.
— Да, теперь чая не достанешь, — вздохнул Зяблик. — А раньше, помню, заваришь в алюминиевой кружке полпачки цейлонского и цедишь себе под селедочку. Потом резвость такая наступает, что за час все дела переделаешь.
— И на восемь метров прыгнешь?
— Нет, прыгать я не пробовал. Но чувствуешь себя совсем по-другому. Орлом, а не курицей. Я про чифирь вспомнил, когда ты об Эдеме речь завел. О нем разные слухи ходят… Эдем есть Эдем. Не зря его так назвали. Там яблоко это проклятое росло. На древе познания… И, наверное, не одно только яблоко. Та флора в наш мир за Адамом и Евой не пошла, ну если только очень выхолощенная… Понимаешь, о чем я говорю? Если аггелы до какой-нибудь эдемской травки добрались, из которой чифирь можно делать, плохи наши дела.
— Слухов сейчас столько ходит, что и не знаешь, чему верить.
— Самому себе нужно верить, да и то не всегда… Вот смотри, — Зяблик достал из кармана камень величиной с куриное яйцо. — Уж и не помню, для чего я его с год назад подобрал. Я вообще красивые камушки с детства люблю. Он тогда величиной с картечину был. А теперь видишь какой. Разве камни могут расти?
— Кристаллы растут.
— Кристаллы в растворе растут. А этот камень у меня в кармане старых штанов вырос. Можешь ты это объяснить?
— Спроси чего-нибудь полегче. Куда солнце делось? Почему электричество пропало? Почему через Талашевский район кастильские гранды ходят татарских ханов бить?
— Ладно, пошли отсюда, — Зяблик встал. — Жрать охота. Зря мы сиволапым свинину отдали. Такой шашлычок можно было бы сейчас организовать! Не отказался бы, наверно?
Цыпф покосился на оскалившихся, расхристанных мертвецов, не обретших в смерти ни благодати, ни покоя (особенно страшен был тот, которого разделал саблей Чмыхало), и покачал головой.
— Пожалуй, что и отказался бы…
Впрочем, как скоро выяснилось, Верка и Смыков отсутствием аппетита не страдали. На общую беду, брезентовый сидор, в котором хранился сухой паек, остался в драндулете, возвращение которого (даже при условии, что Чмыхало нигде попусту задерживаться не станет) ожидалось не ранее чем через пару часов.
Как всегда. Зяблик во всем обвинил Смыкова. Но тот, вопреки своему обыкновению, антимоний разводить не стал, а сказал, загадочно улыбнувшись:
— Есть тут, братцы вы мои, недалеко одно местечко, где можно перекусить… Послушайте-ка!
Все умолкли, глядя на его поднятый кверху палец.
— Ничего не слышу, — недоуменно сказала Верка. — Вороны каркают, да у Зяблика в животе урчит.
Палец стал плавно покачиваться, и Смыков, отчаянно фальшивя, загундосил:
— Ляля-ля-ля… Слышите?
— Точно, — процедил сквозь зубы Зяблик. — Аккордеон пилит. Как я это сразу не сообразил… Квартирка-то нашей Шансонетки совсем рядом. Разыгралась… Видно, в настроении.
— Нам туда все равно заглянуть надо, — сказал Смыков.
— А вы забыли, зайчики, о чем вас строгий дядя предупреждал? — напомнила Верка.
— Мы же ей ничего плохого не сделаем, — ответил Зяблик. — В гости зайдем проведать.
— А может… у нее гости уже имеются? — Смыков понизил голос.
— Вот мы на них и посмотрим. А заодно и с бабушкой познакомимся. — Зяблик машинально ляпнул себя по животу, проверяя, на месте ли пистолет.
В путь, хоть и недалекий, но неизвестно что суливший, двинулись в боевом порядке: впереди, по разным сторонам улицы, Зяблик и Смыков, сзади, на приличном удалении, — Верка и Цыпф, главной задачей которого было как можно чаще озираться назад.
Шли на звук аккордеона, доносившегося уже вполне явственно, сначала мимо разрушенного кинотеатра, облюбованного стаей мартышек (сильно размножаться им не давали бродяги, добывавшие хвостатых пращуров при помощи самоловов и удавок), потом по крутому спуску, застроенному, наверное, еще дореволюционными лабазами, сплошь уцелевшими, только лишившимися дверных и оконных рам, а затем через пустырь, к Красноармейской улице, целиком состоявшей из серых панельных параллелепипедов, как горизонтальных (пять этажей), так и вертикальных (двенадцать). Дом, в подъезде которого Зяблик накануне просидел едва ли не целые сутки, был уже почти рядом.
Тут и там — на уличных газонах, в сквериках, на всех свободных от асфальта клочках земли — виднелись заброшенные осевшие могилы с покосившимися крестами или каменными пирамидками в изголовье. Так хоронили людей в самое первое время, когда число живых еще превышало число мертвых, а после очередного отхлынувшего нашествия на улицах оставалось множество трупов, которых жара быстро превращала во что-то такое, чего уже никто не решался стронуть с места. Гуще всего могилы располагались вблизи столовых, булочных и молочных, куда горожан гнал голод.
— Знатно наяривает, — сказал Зяблик, когда до заветного подъезда осталось уже не больше десяти шагов. — Вот только, что за мелодия, не могу понять.
— Классика какая-то, — сказала Верка.
— А что аггелы петь любят? — спросил Смыков, искоса глянув на Зяблика.
— По-разному. От настроения зависит. Когда веселые — псалмы задом наперед. А когда злые — «Вставай, проклятьем заклейменный…». Ну что, зайдем?
— Зайдем. Вроде все спокойно.
Музыка смолкла, едва только сапоги Зяблика забухали по лестнице. У дверей квартиры вперед протиснулся Смыков и деликатно постучал.
— Прошу прощения. Это опять мы вас беспокоим. Есть один небольшой вопросик…
Девушка открыла почти сразу, и на ее лице не было ни прежнего недоверия, ни страха. Казалось, она даже обрадовалась гостям.
— А я только что вас вспоминала, — сказала она, улыбаясь скорее наивно, чем дружелюбно. — Это вы, наверное, недавно стреляли?
— Мы, — признался Смыков. Его завидущие глаза уже успели заметить приткнувшийся в коридоре мешок, набитый похожими на поленья корнями маниоки, и развешанные на кухне длинные низки копченой саранчи. — Богато жить стали. Никак бабушка вернулась?
— Нет, не вернулась, — вздохнула девушка. — Осталась я одна… Да вы проходите, пожалуйста. У меня еще чай не остыл. Вы морковный пьете?
— Пьем, если с салом, — буркнул Зяблик.
— Сала нет. А маньками жареными угощу. И медом диким.
— Откуда такое богатство? — прежде чем пройти на кухню, Смыков успел мимоходом заглянуть и в зальчик, и в санузел, и в кладовку.
— За бабушку приданое. Она в Лимпопо замуж вышла.
— Приданое жениху дают. Вместе с невестой, — важно сказал Цыпф. — А жениху за невесту — калым.
— Ну, значит, калым… Вот почитайте, — она протянула свернутую в трубку шкуру какого-то некрупного зверька.
— Ого! — удивился Смыков, разворачивая свиток. — Кровью писано. Вроде как с дьяволом договор.
— Это бычьей, а не человеческой, — объяснила девушка, раздув в очаге угли и бросив на них горсть щепок. — Больше-то в Лимпопо писать нечем. Вы вслух читайте.
— «Здравствуй, дорогая внучка Лилечка, — начал Смыков, с напряжением разбирая нечеткие, расплывшиеся на мездре буквы. — Извини, что долго о себе весточки не подавала. Оказии не было. А нынче один хороший человек в ваши края собирается. Он тебе мою записочку передаст, а к ней кое-что в придачу. Так уж, родненькая, повернулась жизнь, что на старости лет я замуж вышла. Супруг мой хоть и арап некрещеный, но человек незлобивый, хозяйственный. Коров имеет столько, что и не сосчитать. Меня жалеет. Обещал старшей женой назначить. Их у него уже три есть, да все арапки тощие. А здесь ценятся женщины солидные, вроде меня. Если тебе совсем туго придется, перебирайся ко мне. Мы и тебе мужика сосватаем. Может, даже шамана. Будешь тогда каждый день молоко кислое пить да на львиных шкурах полеживать. На том заканчиваю. На коже писать несподручно. Замучилась совсем. Если кого знакомого встретишь, привет передавай. А как меня отыскать, тебе тот человек подробно растолкует. До свидания. Целую крепко. Если вздумаешь к нам податься, аккордеон не забудь. Тут из музыки одни только барабаны. У меня от них голова болит».
— Шустрая бабушка, — сказал Зяблик, хрустя взятой без спроса саранчой. — А сколько же ей годков?
— Пятьдесят шесть, — ответила внучка Лилечка не без гордости. — Но на вид ей меньше дают. Она знаете у меня какая: и плясунья, и певунья, и на все руки мастерица. Как я без нее жить стану, даже и не знаю… А в кого вы стреляли?
— Да есть тут всякие, — неопределенно ответил Смыков.
— Послушай-ка… — человек, хорошо знавший Зяблика, мог определить, что он немного смущен. — Ты тут не замечала таких… с рогами?
— А как же! — Лилечка переставила шипящую сковородку с очага на стол. — Приходил один. Стоял под окном. Страшный такой. Его дядя Тема потом прогнал.
Смыков и Зяблик переглянулись, а Верка толкнула коленом сидевшего с краю Цыпфа.
— Вкусно… — сказал Смыков, тыкая в сковороду щербатой вилкой. — А дядя Тема — он кто? Родня вам?
— Да что вы! — Лилечка села, сложив руки на коленях, круглых, как дыни сорта «колхозница». — Я его почти и не знаю. Он вроде как охраняет меня. Да только я его больше, чем рогатых, боюсь.
— Чего же в нем такого страшного? — Смыков подул на кусок горячей маньки.
— Человек как человек, вроде не кусается…
— Ага, а вы в глаза его гляньте! — с жаром возразила Лилечка. — А потом человек никогда такое не сделает, что он может.
— Что же он такое, интересно, может?
Простодушная девчонка не понимала, что с ней не разговоры разговаривают, а снимают допрос по всем правилам.
— Уголь в печке голой рукой ворошить, — ответила она. — Сколопендр ядовитых пальцами давить. Видеть, что у самого горизонта делается.