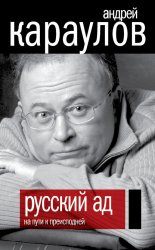Сошедшие с небес (сборник) Коллектив авторов
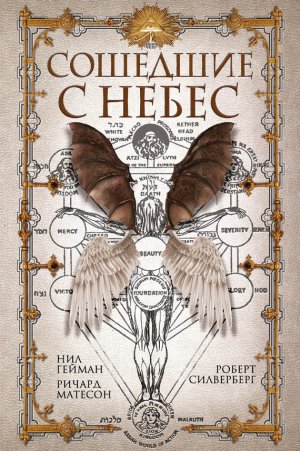
Метель с неожиданной силой ударила мое тело, снег ужалил глаза. Я вздрогнул. Крылья, бившие меня, были покрыты палками, а не перьями, и когда я поднял руку, чтобы прикрыть лицо, ветер отбросил ее вниз. Я почти совсем зажмурил глаза, но через белую летящую пелену я видел жестокую насмешку во взорах ангелов и ощущал, как их холодное дыхание обжигает мою кожу — гнилая вода, добытая из стоячего мерзлого колодца. Слезы текли из уголков моих измученных глаз, и чудовищные создания слизывали их.
Мои ноги пытались унести меня прочь, но я замер на речном откосе, удерживаемый снегом, ветром и кружащимися созданиями, которые жадными пальцами раздирали мою кожу. Они говорили шепотом, который я едва мог уловить, их слова были подобны застывшей воде в моих ушах.
Они высасывали воздух из моих легких, оставляя внутри меня только ледяную пустоту, и сквозь безумие мне казалось, что я вижу нечто темное и ужасное, ждущее прямо позади них — существо еще более голодное и злое, не ведающее пощады и живущее в черноте, скрытой за пределами света.
Не знаю, как долго я стоял там. Когда ветер наконец утих, предоставив безжизненному снегу просто опускаться наземь, каждый дюйм моего тела болел. Пыльцы и лицо у меня онемели, все внутри обратилось в лед.
Амели повернулась и почти упала на меня, но на ее тонком бледном лице по-прежнему играла улыбка. Только на полпути обратно к Дому через заснеженное поле — ноги едва несли меня, а Амели устало опиралась на мое плечо, — я осознал, что спина у меня больше не болит. Она ныла, да, но не горела. Что-то изменилось.
Кажется, я знал, что должно случиться. Снег шел еще два дня, и все это время жар у Амели усиливался. Все втайне перешептывались насчет изолятора, а она лежала в своей промокшей от пота постели, безразличная ко всему. Что касается меня, то горло у меня распухло, голос пропал, но, несмотря на то, что сиделки не выпускали меня из палаты и поили горячим чаем, я понимал, что кризис миновал. Мальчишки вновь перебрались на мою половину спальни, даже бедняга Сэм, который едва дождался оттепели, — а потом его увезли наверх, из носа у него текла кровь и глаза глядели в разные стороны.
Тревога поднялась на второе утро. Как и все в Доме, она была тихой. Не было ни криков, ни паники, просто что-то изменилось в атмосфере. Поспешность в движениях сиделок. Было семь утра. Постель Амели была пуста, только отпечаток ее тощего тельца остался на влажной простыне.
Я знал, где она. Я позволил им обыскать Дом, а потом с трудом выдавил из распухшего горла одно слово: «река».
Снегопад прекратился, и когда я вышел наррку, на голубом небе ярко сияло солнце, обещая возвращение к обычной погоде. Мы шли через поле по скрипучему снегу, мои ботинки ступали по чуть заметным отпечаткам ног Амели — их контур был почти не виден, если не знать, куда смотреть.
Она сидела, застыв, на береговом склоне, обхватив колени руками, одетая только в ночную рубашку. Ноги ее были босыми. Сиделки и я остановились в нескольких шагах, и я уверен, что слышал, как одна из них тихо ахнула. Это было не потому, что Амели умерла. Мы все привыкли к смерти, и, видя, как она сидит здесь в рубашке из тонкого хлопка, я знал, что переход из одного состояния в другое был быстрым, — и это радовало мое разбитое сердце. Смерть Амели не была неожиданностью для всех нас с того момента, как мы вышли на февральский холод.
Не это остановило сиделок и заставило мой рот приоткрыться.
Волосы Амели. Они струились по ее спине, подобно золотым нитям, сияющие и здоровые — должно быть, такого цвета они были до того, как она начала умирать всерьез и Дом принял ее. Это было прекрасно. Волшебно. И по всем законам этого не могло быть. Голова ее запрокинулась, словно, умирая, Амели смотрела в небо, и на губах ее играла улыбка. Губы были розовыми, а щеки потеряли бледность и стали круглее и румянее. Она выглядела ослепительно, но, подойдя ближе, я словно бы увидел кристаллы синего и пурпурного страха в ее глазах, а позади них таилась тень чего-то мрачного, словно с последним вздохом Амели узрела нечто неприятное и неожиданное.
Все дети в Доме умерли, кроме меня. Я видел, как все они по очереди уходят, и понимал, как они ненавидят меня за то, что мое тело становится сильнее, в то время как они слабеют. Через год доктора провели новые анализы и обнаружили, что опухоли в моих почках полностью рассосались. Им не оставалось ничего другого, как отпустить меня. Мое детство, так уж вышло, продолжилось в семье опекунов.
Мои родители не захотели забрать меня. Один раз я уже сломался, и это могло повториться. Они не были готовы пойти на риск.
Как оказалось, они были правы. Шесть месяцев назад, сразу после того, как мне исполнилось тридцать пять, боль вернулась. Правительство сменилось, и лечение рака вновь вернулось в список услуг. Но не для меня. Слишком быстро прогрессирует, сказали врачи. В их глазах я увидел призраки сиделок и лифтов, ведущих в изолятор.
По большей части я слишком слаб, чтобы вставать с постели. В лучшем случае, я сижу в кресле у окна и смотрю на поля и перелески. Я думал, что готов. Думал, что нашел успокоение. Но минувшей ночью на холодную землю обрушилась первая метель за двадцать три года. К нынешнему утру весь мир выцвел до серого.
Снег продолжает падать. Я чувствую его замысел, и мне кажется, что если прикрыть глаза, я различу таящиеся в нем цвета. Он бьется в дверь, точно крылья — иногда крылья бабочек, иногда нечто более тяжелое и злое, и этот звук в равной степени наполняет меня страхом и желанием быть рядом с Амели.
Наверное, я выйду наружу. Может быть, присяду где-нибудь. И, возможно, увижу отблеск золотых прядей, прежде чем тьма накроет меня.
Марк Сэмюэлс
НЕФИЛИМЫ
МАРК СЭМЮЭЛС — автор четырех сборников рассказов: The White Hands and Other Weird Tales (Tartarus Press, 2003 г.), Шаек Altars (Rainfall Books, 2003 г.), «Глипотех» (PS Publishing, 2008 г.) и The Man Who Collected Machen & Other Stories (Ex Occidente, 2010 г.), а также короткой повести The Face of Twilight (PS Publishing, 2006). Его рассказы публиковались в сборниках The Mammoth Book of Best New Horror и Year’s Best Fantasy and Horror. «Нефилимы — раса падших ангелов, это название происходит из древнееврейского языка и упоминается в Библии, — объясняет автор. — Некоторые источники переводят его как просто „гиганты“. Существует множество странных предположений относительно их сущности. Некоторые считают, что от них происходят демоны, обитающие в аду, другие полагают, что нефилимы — это древние астронавты. Кем бы они ни были и существовали ли они вообще, кроме как в воображении, мысль о них очаровала меня, в результате чего и появился следующий рассказ».
Будильник прозвонил в 7.30 утра, и он проснулся. В последовавшие за этим часы он понятия не имел, кто он, где он и что вообще значит бодрствовать. Пот покрывал его тело, он лежал и глядел в потолок, исследуя трещины и облупившуюся краску, точно составляя карту неизвестной земли.
Он не помнил, как двигаться, и для него было потрясением, когда его нога невольно дернулась. Затем он начал оглядывать комнату, с благоговением созерцая незнакомые предметы. Но проходили часы, и он все больше отдалялся от сна, парализовавшего его мыслительные процессы, и начал обретать некую ясность сознания.
Он попытался заговорить и выдавил слова:
— Я Грегори Майерс. Я Грегори Майерс.
Затем он перекатился на край постели и сел, глубоко дыша. Посмотрел на часы. Было два часа дня. Привычное ощущение жизни быстро возвращалось к нему.
Наконец он встал, накинул халат и пошел в ванную комнату. Заглянув в зеркало, он ощутил немое изумление и ужас. Его волосы стали белыми. Его кожа сделалась мертвенно-бледной. Он был похож на альбиноса.
— Извините, но прием у врача на сегодня полностью расписан, — сказала регистраторша, не поднимая взгляда.
— Это срочный случай… я должен попасть к нему, и без этого я не уйду, — возразил Майерс дрожащим от волнения голосом.
— В чем срочность? — настаивала она, одновременно перебирая учетные карточки пациентов.
— Посмотрите же на меня! — воскликнул он.
Она записала его в самое начало очереди.
— Что ж, — сказал врач, осмотрев Майерса, — я и вправду не знаю, что сказать. Очевидно, вам нужно показаться специалисту.
— Это как-то связано со сном, о котором я рассказал вам? — спросил Майерс.
— Возможно, хотя идея о том, что от предельного страха человек может поседеть, оказалась ложной, вы же понимаете. Это бабкины сказки.
— Значит, вы не думаете, что это навсегда?
— Не знаю. Честно говоря, надеюсь, что нет. Но ваш случай — беспрецедентный в моей практике. Я думаю, вам определенно следует…
Но Майерс уже не слушал его. Он должен был немедленно посетить другое место.
Любимый католический храм Майерса был огромным готическим зданием на северной стороне Стэмфорд-Хилл. Он находился всего в одной автобусной остановке от квартиры Майерса в Сток Ньюингтоне и был достаточно велик, чтобы любой прихожанин мог сохранять анонимность. Майерс посещал мессу всего четыре-пять раз в год. Он не был совсем уж неверующим, поскольку привлекательные черты веры крепко владели его воображением, но не был и набожным. На исповеди он неизменно каялся в том, что не ходит на мессу регулярно. Но временами, когда жизнь подавляла его чем-либо, он инстинктивно бросался в церковь и часами мог молиться в одном из приделов храма.
Несколько кающихся терпеливо сидели, ожидая своей очереди на исповедь. По большей части это были пожилые женщины, возможно, ирландки, как предположил Майерс. Они, словно в унисон, перебирали между большими и указательными пальцами бусины четок.
Майерс дождался своей очереди и исповедался — быстро, но с искренним покаянием, как это было в первый раз, много лет назад. У него было такое чувство, словно эта исповедь — последняя для него. Получив отпущение и епитимью, он спросил у священника совета относительно своего сна и его ужасных последствий. Его пугала эта великая черная пустота. Где же Бог? — гадал он.
Священник сочувственно выслушал и сказал, что Майерс, возможно, заблудился в собственном разуме, потерялся во снах, и Бог ждал, пока он освободится от уз греха.
Вернувшись домой, Майерс нашел на автоответчике телефона сообщение от своего работодателя, перезвонил ему — перед самым закрытием офиса — и попытался объяснить ситуацию, пообещав выйти на работу через несколько дней.
В эту ночь Майерс решил не спать — так велик был его ужас перед сновидением Крепкий кофе подбодрил его, и в четыре часа утра оказалось, что хочется есть. Усталость была меньшим неудобством. Мысль о падении обратно в черную пустоту мучила его куда больше, чем чувство изнеможения. Но Майерс обнаружил, что, если ослабить бдительность, глаза начинают закрываться, а сознание пытается ускользнуть прочь. Перед ним распахнулась бездна, и он резко очнулся с криком ужаса.
На рассвете, дрожа от холода, он невидяще смотрел вдаль.
К четвертой бессонной ночи он ощущал постоянную усталость и почти не мог ни на чем сосредоточиться. Но по мере того как тело его слабело, страх перед сном только возрастал. Он чувствовал себя как человек, которого волокут все ближе и ближе к краю пропасти, движение неостановимо, а расселина впереди зияет все отчетливее.
Он смотрел на свое отражение в зеркале, только чтобы убедиться, что дальнейших изменений не происходит. Стоял в ванной, наклонившись над раковиной и уставив пристальный взор в стекло. До преображения его лицо было почти незапоминающимся: поредевшие волосы, водянистые глаза, невыразительно глядящие на мир из-за очков без оправы. Слабый подбородок, который постоянно казался небритым примерно сутки. Майерс провел пальцами по побелевшей щетине и подумал, что теперь она менее заметна из-за отсутствия пигментации.
До изменения его лицо было обычным, непримечательным. Но теперь его кожа приняла цвет молока Люди оглядывались на него.
Пока он изучал свои черты, его лицо на миг словно бы сделалось нематериальным — как будто оно было не настоящим, а просто полузабытым изображением.
Отвернув манжет рубашки, Майерс взглянул на часы. Самое время побриться перед тем, как идти на дневную воскресную мессу.
Он сидел и смотрел, как первые из причащающихся встают со своих мест и безмолвно идут к алтарю. Взгляд, его обежал церковь и остановился на гипсовой статуе Богоматери в окружении десятков свечей. Тени метались по обращенному вверх лицу статуи и по сложенным в молитвенном жесте ладоням. Затем взгляд Майерса обратился на старый молитвенник, который он держал в руках. Открыв страницу, заложенную шелковой лентой, он прочел молитву святого Амвросия перед причастием:
«О милосердный Господь Иисус Христос, я, грешник, не уповая на заслуги свои, но веруя в милость и благость Твою, со страхом и дрожью приближаюсь к столу, где накрыл Ты пиршество из всех яств. Ибо осквернил я душу и тело мое многими грехами…»
Неожиданно его захлестнула волна изнеможения. Глаза болели от света, и Майерс подумал: а может, заснув хотя бы в этом месте, он может спастись от омерзительного видения, преследующего его?
К тому времени, как он закончил молитву, борясь с желанием соскользнуть в сон, он решил, что пора занять свое место в конце очереди. Встал и протиснулся мимо коленопреклоненных прихожан, уже принявших причастие, старясь не потревожить их.
Оказалось, что он весь дрожит и спотыкается на каждом шагу.
Один за другим его единоверцы-католики принимали на язык облатку, и Майерс слышал повторяющиеся знакомые слова, словно напев: «Тело Христово», — и ответ: «Аминь». Наконец сам Майерс стал перед священником, облаченным в белое и осторожно державшим двумя пальцами облатку Святого Причастия.
Но священник словно не видел Майерса и неподвижно стоял, глядя сквозь него, как через стекло. Майерс медлил, ладони его были сложены, а рот открыт, язык слегка выдвинут, чтобы принять евхаристию.
Священник по-прежнему не сделал в его сторону ни одного движения, лицо его выражало замешательство, словно он пытался понять, почему не подходит человек, стоящий за Майерсом. Майерсу казалось, что эта заминка длилась многие часы — и, наконец, он отошел прочь, слишком испуганный, чтобы хотя бы попытаться принять причастное вино, которое раздавал стоящий рядом дьякон: вдруг и здесь повторится то же самое?
Он вернулся к своей скамье в состоянии полного смятения, гадая, не смотрят ли окружающие на него с любопытством. Получить отказ в Святом Причастии! Но никто не обращал на него внимания.
Никто не смотрел исподтишка, никто втайне не хмурился озадаченно, никто не проявлял ни интереса, ни неловкости. Как будто никакого инцидента не произошло.
— Господь с вами, — нараспев произнес священник.
— И с духом твоим, — был ответ.
— Да благословит вас всемогущий Бог-Отец, и Сын, и Дух святой… Месса окончена, идите с миром.
Глаза у Майерса закатывались, веки пытались сомкнуться сами по себе. Для поддержки он ухватился за спинку передней скамьи. Он чувствовал, что если бы принял причастие, то рискнул бы уснуть, — но не теперь. Только не без благодати. Он не мог противостоять этому кошмару без благодати.
Затем, когда священник и остальные торжественно удалились, прихожане зашевелились и начали покидать храм.
Майерс просто сидел, сжимая в руках черный молитвенник и глядя на статую Богоматери с безнадежностью в глазах. Все было так, словно он искал утешения у кого-то, кому глубоко доверял. Он искал поддержки, а к нему отнеслись как к чужаку. Наконец он поднялся на ноги и вышел из церкви, забыв перекреститься.
Он зашагал прочь от храма так быстро, как мог. Снаружи было очень темно, и белая полная луна поднялась над готическим храмом. Его симметричные башни отбрасывали длинные тени поперек улицы. Кожа Майерса была столь бледной, что он воображал себя порождением луны, а не одним из рода человеческого. Казалось, он просто бродит среди людей.
Ему пришла в голову мысль посетить торговца наркотиками, и только сделав этот крюк, он вернулся к себе на квартиру. Путь занял дольше, чем Майерс ожидал. Два автобуса проехали мимо него, стоявшего на остановке по требованию, хотя он отчетливо махал их водителям рукой, требуя остановиться.
Чтобы отвлечься от событий, ошеломивших его, он сел просматривать свои бумаги. Это было полное собрание его попыток писательства за последние пятнадцать лет. В первые годы Майерс питал смутную мечту зарабатывать этими трудами и даже радовался публикациям в журналах, которые никто не читал. Лишь позже он обнаружил, что предпочитает писать для себя, а не для сомнительного удовольствия видеть свои странные опусы напечатанными. Ему нравилось мечтать над ними, писать только когда приходило вдохновение — что бывало нечасто. Полуоформленные отрывки и зачины либо уничтожались, либо входили в более длинные сочинения, которых, впрочем, было немного. Майерс любил избавляться от работ, которыми был недоволен.
Иногда он даже гадал: может быть, он пишет лишь для того, чтобы можно было уничтожить результаты.
Как ни пытался Майерс сосредоточиться на разложенных перед ним листах бумаги, вскоре веки его начали тяжелеть все сильнее и сильнее. Мириады слов ничего не значили для него, словно это был чужой язык, который он не мог расшифровать. У него было странное ощущение, что записи защищают себя от него (и дело вовсе не в том, что крайняя усталость заставляла слова расплываться перед глазами), чтобы их не постигла та же участь, что многие из его неудачных работ. Эта мысль потрясла Майерса. Он начал наугад откладывать листы в сторону, а потом сжигать их в кухонной раковине. Почерневшие, скорченные останки бумаги он растирал между пальцами, прежде чем смыть.
Затем он решил испытать новое средство для бодрствования. Во время крюка, предпринятого после мессы, Майерс купил таблетки у тощего прыщеватого юнца, которого неизменно можно было найти на углу пивнушки вблизи от Стэмфорд-Хилл. Майерс знал его лишь в лицо, но был знаком с другими, кто уже имел дело с этим торговцем. Упоминание их имен и вид приготовленных банкнот рассеяли сомнение юнца.
Похоже, завоевать доверие наркоторговца помогли и изменения во внешности Майерса тот напоминал сейчас статиста из дешевого фильма о зомби, обреченного и беспутного, отмеченного невыраженным сродством с теми, кто признавал его теперь одним из них.
Он принял две из купленных таблеток. Спустя краткое время его мысли начали беспорядочно метаться, и он почувствовал, как ускорилось сердцебиение. Кожа его была холодной и липкой, он слышал жужжание в ушах. Необходимость во сне постепенно ушла на задворки разума, словно морская вода в отлив.
Он лежал навзничь на кровати и смотрел на потолок, проходили часы, казавшиеся днями, а его мысли мчались в безумной пляске. Даже такая форма измененного сознания была облегчением, она отгоняла прочь ужас сновидений.
После рассвета Майерс наблюдал, как стрелки будильника неотвратимо движутся к восьми утра. Он поднялся, вымылся, оделся, принял еще две таблетки и запил двумя чашками крепкого кофе, прежде чем отправиться на работу. Воздух снаружи был леденяще-холодным, и туманная дымка, бледная, как лицо Майерса, окутала город за ночь.
Он сел в поезд из Сток Ньюингтона до Ливерпуль-стрит, и на следующей станции в вагон вошел контролер и медленно пошел вдоль прохода, тщательно изучая билет каждого пассажира Майерс заранее инстинктивно взглянул на свой проездной. Тот был просрочен: он забыл его продлить. Мысленно Майерс начал продумывать объяснения.
Когда наконец настал его черед на проверку билетов, контролер полностью проигнорировал его. Он взглянул на место, где сидел Майерс, так, словно оно было свободно. Взгляд контролера даже не отметил существование Майерса. Не замедлив шага, чиновник прошел мимо, продолжая тщательную проверку билетов у других пассажиров. Майерс подумал: возможно, контролера настолько испугала бледная, потусторонняя внешность, что он решил избегать любого контакта с таким странным явлением? Нет, дело было вовсе не в этом. Даже прочие пассажиры, осознал Майерс, никак не отреагировали, когда контролер прошел мимо него. Они наверняка должны были проявить хотя бы интерес. И тогда Майерс сделал то, что точно должно было вызывать отклик: он вскочил и закричал во весь голос. И вправду, несколько пассажиров зашевелились на своих местах. Один даже встал и закрыл форточку, как будто по вагону сквозило. Но никакой другой реакции.
Майерс пробежался по вагону, заглядывая в лица пассажиров. И вновь ничего. Он даже попытался стащить одного из них с сиденья, но у него не было сил, а пальцы казались мягкими и податливыми, словно сырая оконная замазка.
Поезд прибыл на Ливерпуль-стрит, и толпа, хлынув на платформу, вынесла Майерса с собой. Никто не видел его, люди постоянно натыкались на него и оборачивались, глядя в замешательстве на несуществующее препятствие. Но теперь Майерс заметил нечто новое — выражение страха на их лицах. Соприкосновение с ним мгновенно вызывало отвращение и желание отпрянуть.
Теперь уже не было сомнений. Должно быть, он лишился рассудка. Слишком много одиночества. Слишком много пустых раздумий. Эта мысль вызвала болезненное воспоминание, пришедшееся как раз к месту: несколько лет назад, через пару недель после смерти бабушки, его дед, ныне тоже покойный, написал ему письмо. Старик ответил на одно из редких посланий внука всего пятью словами, протянувшимися через лист бумаги:
НЕ ГОДИТСЯ ЧЕЛОВЕКУ БЫТЬ ОДНОМУ.
Больше ничего. К тому времени, как Майерс получил это письмо, старик был уже мертв. Его тело нашли выброшенным на галечный пляж, серое лицо наполовину объели крабы. Труп пролежал там несколько часов в свете раннего утра, и прибой перекатывал его туда-сюда, пока хоть кто-то не озаботился взглянуть поближе.
Что-то еще изменилось. Внутри Майерса все словно онемело. Не было ощущения потрясения, как раньше. Единственное чувство, которое у него осталось, — чувство полной опустошенности и безнадежной тщетности. Что самое невероятное, его больше не ужасала мысль уснуть и вернуться в черную пустоту. Часть его даже радовалась такой перспективе. К этому времени он понял, что пробуждения не будет и что его разум навеки вернется в то состояние, из которого на миг был вырван.
Он бесцельно блуждал по подземке, наугад садясь на поезда, пользуясь последней возможностью изучить своих собратьев-людей, прежде чем покинуть их. Он наблюдал за их деятельностью, их спешкой и самоуверенностью, но это все словно удалялось от него, он проходил, подобно призраку, через толпы людей, оставляя за собой след испуга и непонимания на лицах тех, с кем соприкасался.
И, наконец, он ощутил, как сон вторгается в его сознание, и состояния бодрствования и дремы переплетаются меж собой. Огромная черная пустота надвигалась, и он обнаружил, что наслаждается уничтожением своих бессмысленных мыслей. Одна за другой они исчезали, точно гаснущие свечи.
Вселенная стала гробницей. Во всей ее неизмеримой бесконечности все было мертвым и черным Звезды погасли, их жар давно выгорел. Ни одна планета не вращалась в беспредельной тьме — все они обратились во прах. Вечная ночь захватила все. Не было ни звука — всякая энергия исчерпала себя. Воцарилось полное безмолвие. Само время перестало иметь какое-либо значение. Вселенная была мертва бесконечно большую часть своего существования, период активности был лишь кратким мигом в ее начале. Космос был холодным, безотрадным и черным. Но он не был пустым Его населяли призраки, мертвенно-белые сущности, безмолвно кричащие в черной пустоте. В конце всего, среди праха и тьмы, в бесконечном и вечном одиночестве, эти погибшие души бродили у ее края, затерянные навеки.
Все как один, они потянулись к нему. Их волосы были белыми, а кожа застыла в состоянии вечного разложения. Мягкие пальцы ощупывали его в бессмысленных попытках ухватить. Он присоединился к ним в вечности ужаса, в маниакальном танце, в мучительном стремлении уцепиться друг за друга Их были миллиарды, разбросанных по всему космосу, — и, наконец, он стал единым со всеми остальными призраками мертвых ангелов.
Челси Куинн Ярбро
В СТАНОК ПРЯДИЛЬНЫЙ ОБРАТИ МЕНЯ
ЧЕЛСИ КУИНН ЯРБРО живет в Ричмонде, штат Калифорния, вместе с тремя властолюбивыми котами. Вот уже более сорока лет она — профессиональный писатель, награжденный многими премиями. За это время она издала более восьмидесяти книг, включая двадцать три тома исторически-вампирских хроник о Сен-Жермене. Опубликовано множество ее рассказов, эссе и обзоров, кроме того, Челси пишет серьезную музыку.
Она получила Всемирную премию для мастеров жанра в 2003 году, премию Fine Foundation за литературные достижения в 1993 году и (вместе с Фредом Саберхагеном) была в 1997 году представлена к рыцарскому ордену крепости Брашова «Трансильванским обществом Дракулы».
«В сороковые и пятидесятые годы, во время своих редких визитов к бабушке, жившей в долине Сакраменто, я часто замечала в нескольких милях от ее дома большую ферму, — вспоминает Ярбро. — Ею управляла религиозная община, ферма славилась отменными продуктами. Все женщины носили белые чепцы и длинные юбки и редко покидали ферму. Мужчины ходили в широких штанах, длинных рубахах и носили короткие, подстриженные скобкой бороды. Они были очень строгими, а их глава был настоящим фанатиком. Я часто гадала, на что похожа их жизнь. Одна из таких возможностей воплотилась в этом рассказе».
«Прядение»[1]
- В станок прядильный обрати меня,
- Твои Слова чтоб сделались опорой…
Черити Блейн стояла у окна, глядя на восток, на длинный грузовой поезд, проезжавший в полумиле отсюда и державший путь на север. Она считала вагоны — сто четыре, сто пять, сто шесть — и гадала, когда они кончатся. Отсюда до Канады было несколько мест, где поезда могли свернуть в другом направлении, так что проезжавшие вагоны могли завершить свой путь в Сиэтле, в Бойсе или, может быть, в Саскатуне. Даже на таком расстоянии она видела крупные надписи «ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА» на цистернах, но не могла прочесть, что именно они везут. Что-то ядовитое, несомненно.
Она вздрогнула и затянула завязки передника, неожиданно вспомнив, что ей следует быть на заднем крыльце, где в ведрах с кипятком ждут ощипывания две курицы. Тормозной вагон в конце вереницы из ста девяноста цистерн как раз показался в поле зрения, когда Черити отвернулась от окна; ей доставляло тайную — и грешную — радость, что отсюда, с края скита, видно шоссе и железную дорогу совсем не то, что из других двадцати трех домов, большинство из которых стояли так, чтобы скрыть полный скверны и тщеты современный мир от девяноста шести обитателей общины Братьев Слова.
Проходя через кухню, она увидела, что ее младшая сестра работает за маслобойкой, а бабушка лущит горох. «У бедняжки Грейс не все в порядке с головой», — подумала Черити, глядя, как семилетняя девочка с отсутствующим видом вертит ручку — бабушка всегда говорила, что если мышцы могут справиться не хуже электричества, то пусть работают мышцы, — и вновь подивилась, зачем Господь послал Грейс лихорадку два года назад и отнял у нее всю живость и очарование, оставив от девочки лишь бледную оболочку. «Нет-нет, никаких сомнений в Господней Воле», — мысленно добавила Черити, быстро оглянувшись через плечо, словно пытаясь убедиться, что ее проступок остался незамеченным. Такие вольности со стороны одной из тех, кого избрали ангелами, были бы непростительны.
— Что ты делала у окна? — резко спросила бабушка.
— Смотрела на поезд, — ответила Черити, зная, что врать нехорошо, да и бесполезно.
— Ты слишком большая для такого безделья, — сказала бабушка. — Не забудь попросить у Бога прощения за свое отлынивание от обязанностей. Будешь такой непослушной, и Брат Уайтлоу не позволит тебе остаться ангелом из Дщерей Эсфири.
— Да, мэм, — кивнула Черити и вышла на заднее крыльцо, тщательно закрыв кухонную дверь, чтобы ни одна муха не влетела в дом; уже наступала осень, но мухи по-прежнему летали тучами, а бабушка рассердится, если они влетят в кухню: Вельзевул был известен как Повелитель Мух, и потому вдвойне важно не впускать насекомых.
Пара безголовых кур лежала кверху лапами в двух больших ведрах, их рыжеватые перья промокли от окрашенной кровью воды, все еще слегка курившейся паром в теплом воздухе. Бабушка уже вынула потроха и другие внутренности, так что хотя бы от этой грязной работы Черити была избавлена, и когда она закончит, бабушка проследит за опаливанием кур. Черити уселась на трехногую табуретку и принялась за свой неприятный труд. Она забирала перья в горсть и дергала их против роста, обнажая полоски бледной кожи, которая почему-то напоминала сморщенные руки бабушки. Девушка складывала перья в сетку с мелкими ячейками, на просушку, и вскоре в воздухе уже летал пух, такой же навязчивый, как насекомые — во всем, кроме жужжания. За работой Черити пыталась молиться, как велел всем своим ангелам Брат Уайтлоу, но ее мысли разбредались, молитвы не шли на ум.
Зная, что бабушка слушает, Черити принялась читать вместо молитвы отрывок из пуританской поэмы, которую она выучила до того, как стала ходить в скитскую школу:
- …Общенье дай, чтоб оси закружить —
- Станок прядет, наматывая нить.
- Машиной ткацкой сделай, нить достань,
- Дух Святый сделай стержнем и основой…
Чтение перешло в напев, и бабушка резко и неодобрительно окрикнула ее из-за кухонной двери. Черити прикусила нижнюю губу и продолжила ощипывать кур молча.
Когда обе курицы остались без перьев, она взяла щипчики, чтобы вытащить пеньки перьев, все еще торчащие в куриной коже. Это была кропотливая работа, а дневная жара еще больше затрудняла ее. Каждые несколько минут Черити приходилось смахивать с глаз пряди волос, выбившихся из ее длинных русых кос. «Используй цвет Небесной красоты, пусть краской станут райские цветы». Старинные слова звучали в ушах, их непривычная форма дарила успокоение, помогая девушке осознать, что нынешнее ее дело — часть долгого, долгого труда, порученного женщинам Господом. Продолжая цитировать поэму, она орудовала щипчиками в такт размеру стихов.
Для тех словосочетаний, которые она не до конца понимала, Черити сама придумывала значение. «Основой, стержнем сделай Дух Твой Святый» — при слове «стержень» ей представлялся Посох, а Посох означает власть. Но если речь шла об основании чего-либо, то при чем здесь святая власть? Бессмысленное словосочетание. Святой крест имел смысл, а святая власть — нет. Руфь Брэдли еще предположила, что стержень вставляют в эту самую основу, но им сказали, что это еретические мысли, хотя и было непонятно, почему. А слова «Завет — движеньем, мельницей крылатой» вообще ставили ее в тупик. Она решила, что слово «крылатый» вообще попало сюда по ошибке, ведь речь идет о нитках и ткани, должно быть, имелось в виду «кроильный». При чем тут «мельница», Черити вообще не могла понять, но это можно было объяснить как-нибудь потом. Но финал стихотворения ей нравился:
- Чтоб ткань познанье, волю облекла,
- Одень в нее и страсть, и ум лукавый,
- Пускай мои путь и слово, и дела
- Наполнят светом и Твоею славой.
Эта картина словно служила переходом между первыми строфами и последними двумя строчками стиха:
- И встану я перед Тобой, одет
- В Святое одеянье — для побед!
Все ангелы из Дщерей Эсфири знали это стихотворение, и все они были научены придерживаться его основной мысли: выполнять работу ангелов — значит быть одной из ангелов. Уже прошло больше часа после полудня, когда Черити закончила с курами. Она вынула их из ведер, отнесла на кухню и положила в меньшую из двух раковин, затем пошла вылить кровавую воду и подвесить сетки с перьями на ветерке. По пути она остановилась рядом с Грейс, которая выдавливала в формы только что сбитое масло.
— Ты хорошо работаешь, Грейс, — похвалила она, поскольку бабушка говорила, что Грейс нужно поощрять чаще, чем большинство других детей.
— Хорошо работаю, — повторила Грейс, и было неясно, осознала ли она, что ей сказали.
— Следи, чтобы не плеснуть кровавой водой на арбузы. Только на зеленые овощи, — напомнила Черити бабушка. — И после этого как следует полей, чтобы она впиталась в самые корни.
— Да, мэм, — сказала Черити и пошла за ведрами, чтобы вынести их. Ступеньки заднего крыльца были узкими и скрипучими, но сколочены прочно. Черити пересекла маленькую парковочную площадку, где в хорошую погоду стоял трактор, а на ночь оставляли пикап, и вышла на огород через ворота в высокой изгороди из рабицы. Грядки с зелеными овощами были слева, и девушка свернула туда, стараясь не расплескать кровавую воду. Ее руки болели от всего, что приходилось делать, и на миг Черити испытала раздражение, осознав, что вечером, на собрании Дщерей Эсфири, получит еще больше указаний о надлежащих ей Женских Трудах.
Дойдя до грядок с капустой и шпинатом, она вылила содержимое одного ведра в поливочную канаву, идущую между рядами растений. Когда жидкость начала впитываться в землю, Черити пошла за шлангом — чтобы вся грядка была полита. Девушка знала, что вода с кровью полезна этим овощам. Закончив, она перешла к сельдерею и кольраби и повторила все действия там Она смотрела на кольраби с нелепыми перистыми листьями, торчащими из округлого кочана, — они всегда казались ей странными. Прежде чем вернуться в дом, Черити удостоверилась, что и они получили достаточно кровавой воды, равно как и обычной. Поднимаясь на заднее крыльцо, девушка взглянула вверх и увидела, как большой реактивный самолет «Норд-Веста» взлетает в небо из расположенного неподалеку международного аэропорта Три-Каунти.
— Интересно, куда они летят? — шепотом спросила она, глядя вслед самолетику, пока он не исчез, оставив лишь серебристый след в синеве.
— Что мы можем сказать о добродетелях Эсфири? — спросил Брат Уайтлоу у группы из десяти девочек в возрасте от девяти до пятнадцати лет. Он сложил ладони домиком, словно ожидая удара молнии свыше, и ждал ответа. Девочки сидели вокруг него на массивных деревянных стульях у стены гимнастического зала в центральном здании общины, где размещались рабочие кабинеты Братьев и школа.
Фирца Флемминг, как всегда, подняла руку первой, и Брат Уайтлоу машинально вызвал ее: Фирце уже исполнилось четырнадцать, она была старшей дочерью основателя, Джошуа Бридона, и его второй жены, Наоми Флемминг. Все возлагали большие надежды на Фирцу, которая была укреплена в вере больше, чем любая другая девушка в общине, и стала четвертым ангелом из Дщерей Эсфири. Черити была девятым.
— Она была послушна Господней Воле и верна земле Израиля. Она рисковала своей жизнью и душой ради Бога.
— Отрекшись от собственных помыслов, — добавил Брат Уайтлоу, высказав этот укор с сожалением во взоре.
Покраснев до корней рыжеватых волос, Фирца покорно повторила:
— Отрекшись от собственных помыслов.
— И чему это учит вас? — спросил Брат Уайтлоу у остальных девочек. — Чему вы можете научиться у Эсфири?
Черити подняла руку:
— Что женщины должны проявлять больше преданности и рвения перед Богом, чем мужчины, из-за грехопадения Евы, и должны быть готовы ставить Его Волю превыше своей во всем Таково вероисповедание ангелов и тех, кто исполняет работу ангелов.
Брат Уайтлоу улыбнулся:
— Отлично, Черити.
— Так сказала мне моя мать, прежде чем отправиться на свою миссию, — отозвалась Черити, стараясь, чтобы в голосе не прозвучала гордость за мать, хотя она испытывала эту гордость. Ее мать была вторым ангелом. — Я помню это ради того, чтобы чтить ее и хранить ее веру.
— Твоя мать есть пример для всех женщин, — согласился Брат Уайтлоу.
— Пусть бы побольше было столь набожных, как она.
Фирца улыбнулась с фальшивой теплотой.
— Сколько она еще пробудет в тюрьме — твоя мать?
— Еще немного, — ответила Черити, зная, что мать выйдет на свободу не раньше чем через двадцать восемь лет — если, конечно, проиграет апелляцию.
Брат Уайтлоу остановил перепалку несколькими резкими вопросами:
— Многие ли из вас могут вспомнить тот день, когда Саломея Блейн покинула нашу общину, чтобы свершить свою миссию? Знаете ли вы, чего она достигла, прежде чем была схвачена и осуждена?
Марфа Хилл, старшая из девяти, заговорила:
— Она ушла отсюда в августе, четыре года назад. Ей было двадцать пять лет, когда Брату Бридону было открыто, что миссия должна начаться…
— Как гласит Писание, — вставил Брат Уайтлоу.
Руфь Брэдли кашлянула, но не сказала ничего.
— Да, — твердо продолжила Марфа. — Она была схвачена десять месяцев спустя федеральными агентами Сатаны, убив перед этим тридцать восемь человек и ранив еще девяносто двух — все неверующие и идолопоклонники. По ее приговору была подана апелляция. Она — наш второй ангел, и пока что преуспела больше всех, кто был отправлен с миссией.
— Саломея была одной из самых наших преданных деятельниц и заслуживает благодарности и подражания. Она выбирала цели с величайшей тщательностью: театры, показывающие небогоугодные фильмы, торговые центры, прославляющие Мамону, игровые залы, манящие фальшивыми достижениями и нечестивой лестью, школы, где наука превознеслась над религией. Все вы, девы, должны просить Бога, чтобы он сделал вас столь же стойкими, как Саломея Блейн, особенно те из вас, кто еще не выполняет работу ангелов. Она никогда не уклонялась от своей задачи, хотя рисковала свободой и жизнью, исполняя ее, и приняла мученичество без единой жалобы. — Он кивнул Черити. — Перед тобой в жизни поставлена великая задача, Черити.
— Знаю, — ответила та. — Я каждую ночь молюсь за свою мать и надеюсь, что, когда придет мое время, я справлюсь не хуже.
— Она была снайпером, верно? — спросила Руфь Брэдли.
— И очень хорошим, — произнесла Черити с гордостью, которая, как она понимала, была неправедной. — Надеюсь, когда мне поручат миссию, я буду не хуже.
— Если она была такой хорошей, как же ее схватили? — возразила Фирца.
— Бог хотел, чтобы она стала не только ангелом, но и мученицей, — объяснила Руфь.
— Всему свое время, — призвал их к порядку Брат Уайтлоу, прежде чем девочки успели заспорить. — Неважно, какой путь возмездия вы изберете, вы должны подарить нам, Братьям, не менее одного ребенка, прежде чем отправитесь на миссию. Нет ребенка — нет миссии, так учил наш основатель.
— Я собираюсь родить, по крайней мере, двух детей, прежде чем пойду убивать, — объявила Фирца, самодовольно улыбаясь собственному честолюбию.
— Если ты сделаешь это для себя, чтобы прославить себя, Бог будет недоволен, — сказала Далила Марш, которой было двенадцать и которая только начала подавать настоящие надежды. — Ты не должна просить Бога радоваться тому, что ты делаешь, если ты не делаешь это целиком и полностью для Него, без ожиданий похвалы или отличий. «В станок прядильный обрати меня…»
— Я рожу их для Бога и ради нашей веры, — поправилась Фирца с ханжеской гримасой.
— Как и вы все, — добавил Брат Уайтлоу, вновь прекращая спор. — Ваша жизнь должна быть выражением вашей веры. Вы подарите незапятнанную жизнь Братьям, как залог спасения, и будете устранять из мира грешников во имя славы Господней. В этом ваша честь — отстаивать честь Господа Вы все принесете эти жизни в жертву во искупление грехов Евы и будете смиренно благодарить Бога за то, что он дал вам эту возможность. Это то, чему вы должны научиться здесь — освобождать мир от…
—..мирских грехов ради возвращения в Эдем, — продолжила Руфь. — Мы вновь обретем благодать, которой лишены из-за деяний праматери Евы.
— И у нас будет выбор в том, как проявлять свое благочестие, — сказала Марфа, ее серьезное юное лицо сияло. — Мы можем быть снайперами, отравителями или взрывниками, поджигателями или душителями — пока мы низвергаем тех, кто отвернулся от Бога, мы вершим Его службу.
— Отлично, Марфа! — похвалил Брат Уайтлоу.
— Я жажду служить Господу всей своей жизнью, — добавила Марфа, искоса взглянув на Фирцу.
— Мы все жаждем, — с некоторой обидой сказала Фирца.
— Со смирением и благодарностью в сердце: «Машиной ткацкой сделай, нить достань, основой, стержнем сделай дух Твой Святый, и Сам сотки из прочной нити ткань», — напомнил им Брат Уайтлоу строгим тоном. — У вас есть шанс искупить грех Евы, если вы будете делать свою работу без гордыни и без ожидания божественной милости.
Все девочки обменялись беспокойными взглядами, и, наконец, Села Уилкинс, самая набожная из них, промолвила.
— Мы оплакиваем наши грехи и молим лишь, чтобы Бог позволил нам угодить Ему тем способом, который лучше всего послужит Его целям.
— Аминь, — заключила Черити вместе с остальными, думая о матери, сидящей в тюремной камере, и о том, как Бог вознаградил ее за преданность Ему.
Бабушка хворала; она полулежала в постели, опираясь на полдюжины подушек. Дышала она тяжело, лицо стало творожного цвета. Волосы были убраны под чепец, но несколько прядей серо-стального цвета выбились и висели вдоль щек. Она была здорова до тех пор, пока три дня назад не пришло известие, что апелляция ее дочери была отклонена, и что Саломея проведет в тюрьме еще двадцать три года, и что все дальнейшие юридические шаги будут пресекаться. Бабушка была не в себе с тех пор, как это услышала: она ушла в болезнь и молитву, пытаясь препоручить свою волю Богу и принять мученичество, которое Он назначил ее дочери. Даже сейчас она шептала покаянную мольбу Господу, чтобы Он сделал ее покорной Его воле.
— Ты чего-нибудь хочешь? — спросила Черити, поправляя одеяло, которым была укрыта бабушка.
Она тоже чувствовала потрясение и неверие в то, что с ее матерью обошлись как с опасным серийным убийцей. Заботясь о бабушке, Черити пыталась облегчить боль, мучившую ее саму.
— На плите куриная похлебка, и обе госпожи Уилкинс принесли для тебя еды. Леванна Уилкинс забрала Грейс к себе на время, чтобы я могла ходить за тобой, не отвлекаясь.
— По стопам святых и мучеников я иду, — бормотала бабушка слова одного из любимых гимнов Братьев.
— Именно так, бабушка, — сказала Черити, делая все, чтобы успокоить старуху. — Ты всегда следовала по стопам святых и мучеников.
— Пусть ничто не удержит меня от исполнения Слова Твоего, — продолжала та, устремив взгляд куда-то вдаль.
— Бабушка, — произнесла Черити чуть более настойчиво, — ты ничего не хочешь съесть? Я могу что-нибудь сделать для тебя?
— Ты можешь принять свое служение ангела и приготовить Господу пути, дабы он принес Рай на землю, — ответила старая женщина с неожиданной страстностью.
— Что-нибудь еще? Ты хочешь что-нибудь еще, прямо сейчас?
Бабушка моргнула и сказала:
— В туалет.
Из всей помощи, которую приходилось оказывать бабушке, это нравилось Черити меньше всего, но она лишь кивнула.
— Я помогу тебе.
Вздохнув, она откинула одеяло и пригнулась, закидывая руку бабушки себе на плечо, чтобы поддерживать ее на пути через гостиную и маленький коридор до туалета, где она усадила бабушку на унитаз, подождала, пока та сделает свои дела, и отвела ее обратно в постель.
— Твой отец… твой отец… — промолвила бабушка, пока Черити вновь укладывала ее на подушки.
— Что там про моего отца? — спросила Черити без особого интереса, поскольку годами слышала про него одни и те же истории.
— Он говорил против твоей матери, против Братьев, так сказал мне брат Бридон. — Теперь ее голос звучал тверже, но с выражением глубокого стыда. — Он свидетельствовал в суде против нее.
— Свидетельствовал против? — Черити была в замешательстве. — Как он мог? Когда?
— Перед судом, который пересматривал дело твоей матери, — ответила бабушка и молитвенно склонила голову. — Брат Бридон сказал, что это из-за его показаний приговор был таким жестоким Он сказал неверующим, что Саломея ложно именовалась ангелом, той, что посвятила себя искуплению Грехов Евы.
— Но как это возможно? Мой отец мертв уже пять лет, — изумилась Черити. — В прошлое воскресенье я возложила цветы на его могилу.
— О да, мертв. Мертв.
Бабушка закашлялась и начала молиться.
— Если он мертв, то как он мог…? — она умолкла, встретив строгий взгляд бабушки.
— Молись за его душу, девочка — он мертв, как если бы лежал в могиле. И принеси мне миску похлебки и рис.
Обрадовавшись, что бабушка вроде бы пришла в разум, Черити поправила одеяло и поспешила на кухню, бормоча под нос: «В станок прядильный обрати меня…»
— Господи, прими и благослови ее. Вечный покой даруй ей, Господи, и да сияет ей свет вечный. Будь милостив к ней, Господи. Аминь, — молился Джошуа Бридон, пока гроб бабушки опускали в могилу. Октябрьский день был холодным и непогожим, клубящиеся тучи сулили дождь. — После десяти месяцев немощи Бог освободил ее от страданий.
Брат Бридон бросил ритуальную горсть земли на некрашеный сосновый гроб.
— Аминь, — откликнулись Братья.
Вся община пришла на похороны бабушки — редкий знак уважения среди Братьев.
— Она ушла раньше своей дочери, чтобы подготовить все к приходу Саломеи во славе ангела из Дщерей Эсфири, — продолжал Бридон, его волнующий, мелодичный голос был столь же вдохновляющим, как и глубокие ноты органа. — Когда она предстанет перед Богом, ангелы небесные признают ее как одну из них. Небесные воинства будут приветствовать ее звуками труб и кимвалов, и будут даны ей крылья и белые одеяния. Евангелина Милка Блейн посвятила свою жизнь деяниям веры. Она подготовила свою дочь к тяготам миссии, она приютила своих внучек и подавала пример своей внучке Черити. Она избрала путь смирения и служения, ее набожность — образец для всех нас. Хотя сама она никогда не выходила на миссию, она была готова сделать все, что она, как женщина, могла сделать, дабы открыть путь к спасению. Как старейшина женской ветви Братьев, она была живым образом святости. Мы почтим ее память, назвав следующую миссию в ее честь, и возмездие, которое мы понесем, будет сиять еще ярче благодаря ее благословению.
И вновь общее «аминь» сопроводило эту речь, и несколько мужчин взяли лопаты, чтобы засыпать гроб бабушки Черити землей.
Фирца Флемминг, стоящая рядом с отцом, оглянулась на Черити; несмотря на подобающую моменту напряженность, вид у Фирцы был довольный.
— Вечером Братья примут решение насчет дома твоей бабушки, — сообщила она полушепотом.
— Знаю, — прошептала Черити в ответ, крепко держа Грейс за руку, чтобы сестра не попыталась поиграть в груде земли, насыпанной над могилой бабушки.
— Вероятно, они назначат того, кто будет жить с тобой, — продолжила Фирца чуть громче, ее улыбка выдавала злорадство. — Было бы неправильно позволить тебе жить одной.
— Я достаточно взрослая, чтобы справиться, — возразила Черити, повышая голос, чтобы ее услышали за шумом двух грузовиков, ползущих по главной дороге — они увозили общинный мед на продуктовый рынок в ближайшие города Через несколько дней приедут еще грузовики, они заберут соленья и консервированные фрукты на продажу.
Джошуа Бридон поднял руку, призывая к молчанию.
— Многое нужно сделать. Приступайте к своим обязанностям с зорким сердцем, чтобы избежать ловушек, расставленных Сатаной.
— Да, отец, — ответила Фирца.
Руфь Брэдли взглянула на Черити, лицо ее было таким замкнутым, что почти не выдавало ни единой мысли. Она коротко кивнула и пошла за отчимом прочь от могилы, ни разу не оглянувшись.
— Как думаешь, что будет теперь? — Этот вопрос задал Исайя Бридон — ему исполнилось четырнадцать, и в нем начало просыпаться подростковое своенравие.
— Я возвращаюсь в дом бабушки, — сказала Черити и повернулась, чтобы уйти.