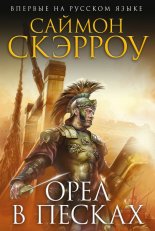Правда и другая ложь Аранго Саша

– Возможно, да.
– Она больше или меньше кошки?
– Меньше. Не переживай, я ее поймаю.
– Но ты ее не убьешь?
Генри натянул ботинки.
– Конечно, нет, но сейчас я пойду и куплю рыбу.
IV
Деревушка находилась на берегу бухты, у самого моря. Низенькие домишки, естественная гавань, несколько маленьких магазинчиков и пышные клумбы. Памятника не было, но имелся книжный магазин, в витрине которого висел портрет Генри – для туристов, совершавших паломничество, чтобы лично увидеть знаменитого писателя.
Обрадин Басарич, пожилой серб, местный рыботорговец, отложил в сторону нож и вымыл руки, заслышав шум мотора «Мазерати». Окно было заклеено фотографиями разнообразных рыб, и о том, что происходит на улице, Обрадин мог судить только по звукам. Для Обрадина после смерти Иво Андрича Генри стал величайшим из всех живущих писателей. То, что Генри выбрал это место, чтобы здесь поселиться, было не случайно, ибо в случайности верят только атеисты. Один раз в неделю Генри приезжал к Обрадину – купить боснийскую щуку, покоптить ее и пофилософствовать о жизни. Этот милейший и гениальнейший из всех людей был большим любителем рыбных блюд, а он – Обрадин Басарич – являлся рыботорговцем. Где же здесь место случайностям и совпадениям?
Генри просил Обрадина никому не выдавать место, где он поселился, и торговец поклялся хранить тайну. Однако это тайное знание доставляло сербу немало хлопот. Туристам – в основном дамам – он застенчиво или бессовестно врал в ответ на их расспросы, что в этой местности нет ни одного человека с таким именем, но при этом его просто распирало от желания рассказать туристам о своей дружбе со знаменитостью. По ночам жена Обрадина, Хельга, слышала, как он кричал: «Я его знаю, он мой друг!»
– Ты не представляешь себе, как это ужасно – хранить тайну, – сказал он однажды Генри. – Тайна – это настоящий паразит. Она пожирает тебя и все время растет. Она стремится вылезти наружу, прогрызает душу и сердце, лезет изо рта и выпрыгивает из глаз.
Генри молча слушал.
– Ты делай, как я, – предложил он Обрадину. – Вырой яму и высри туда тайну. Тогда ты освободишься, и никакое дерьмо тебе будет больше не страшно.
Обрадин нашел такой совет недостойным великого писателя. Но Генри лишь посмеялся и целый день пребывал в хорошем настроении от своей шутки.
Сегодня, правда, Генри был мрачнее обычного, когда вошел в лавку Обрадина.
– Друг мой, – приветливо обратился он к рыботорговцу, – у нас появилась проблема. На крыше завелась куница.
Обрадин в знак приветствия расцеловал Генри в обе щеки.
– Я приду и убью ее.
– Нет, это ты оставь. Марте не понравится. Как можно поймать эту скотину?
– Ну, так я ее просто выгоню.
– Она вернется, как только поймет, что ты ее не убьешь.
– Ладно, я ее поймаю и принесу тебе, чтобы ты сам ее убил.
Генри не стал спрашивать торговца о делах, так как знал, что идут они далеко не блестяще. «Дрине», небесно-голубому рыболовному катеру Обрадина, стукнуло уже сорок лет, и судно потихоньку испускало дух. Обрадин все чаще был вынужден покупать мороженую рыбу у крупных оптовиков, так как дизель его посудины отказывался работать. Генри уже много раз предлагал Обрадину беспроцентную ссуду на приобретение нового судна, но Обрадин твердо отказывался. Он не желал кредитных гарантий от Генри. Дружба, говорил он, не дается в долг. Тогда Генри начал тайком давать деньги жене Обрадина Хельге, чтобы она могла справляться с текущими расходами. Без этой помощи Обрадин бы уже давно пошел по миру. Не было никаких сомнений, что дружбе наступит конец, если Обрадин узнает, что творится у него за спиной.
Мужчины насаживали двух боснийских щук на штыри и заводили разговоры о погоде, море и литературе. Иногда Обрадин рассказывал о войне, массовых расстрелах в Братунаце и о том, как сидел в концентрационном лагере в Трнополе. Когда он рассказывал об этих вещах, глаза его темнели, и серб начинал употреблять только настоящее время, будто все, о чем он рассказывал, происходило именно сейчас. Слушая друга, Генри не мог подчас понять, кем был сам Обрадин – жертвой или палачом. После того как четники изнасиловали его сестру, а потом посадили ее на кол, Обрадин каждую неделю ездил в родные горы близ Сараево, чтобы застрелить одного-двух из этих мерзавцев. В душе Генри был уверен, что Обрадин до сих пор туда ездит.
– Как продвигается роман?
– Осталось совсем немного, думаю, страниц двадцать.
– Это надо отметить. У меня есть для тебя морской черт.
– Отлично, но я за него заплачу.
– Как хочешь, – без особого энтузиазма ответил Обрадин. – Я читал, что «Фрэнка Эллиса» собираются экранизировать.
– Да, и это просто ужасно, – сказал Генри, – я против.
– Зачем же ты соглашаешься? Моя Хельга говорит, что литературу невозможно экранизировать, а я считаю, что этого просто нельзя делать. Фильмы… знаешь, что такое фильмы? – Обрадин окунул палец в лужицу рыбьей крови на разделочной доске, провел по ней полупрозрачную черту и сунул ее под нос Генри. – Вот – это и есть фильм, шелуха, слизь и гадость.
– Да, ты прав, – согласился Генри, – то же самое всегда говорит и Марта. Но так тяжело сказать «нет». Ты меня понимаешь?
Обрадин укоризненно покачал перед глазами Генри волосатым указательным пальцем:
– Мне сегодня не нравятся твои речи. Что-то случилось?
– Ничего, ничего не случилось.
– Мне очень жаль тебя, Генри. Что значит для тебя слава? Ты не получаешь от нее никакой радости! Ты прячешься от нее, потому что ты – хороший человек. Ты всегда плохо о себе отзываешься. Зачем ты это делаешь?
– Потому что это правда, Обрадин. Я – плохой, совершенно никчемный человек, поверь мне.
Обрадин прищурил глаза:
– Знаешь, евреи говорят, что из мыслей возникают слова, а из слов – поступки. Я знаю плохих людей, плохие люди есть и среди моих родственников, я спал и ел с ними. Ты не похож ни на одного из них, ты хороший человек, и именно поэтому мы все тебя любим.
– Вы меня любите, потому что я жертвую в общинную кассу.
Генри затянулся смолистым душистым дымом самокрутки и закашлялся, по-птичьи поджав ногу.
– Крепкий табачок. Знаешь, что говорят по этому поводу японцы, Обрадин?
– Какая разница, что говорят японцы?
– Они говорят, что быть любимым – тяжкая судьба.
– Возможно, и так, Генри. Но откуда об этом знают японцы? – Обрадин сплюнул на каменный пол. – Писатели – непростые люди, Генри. Я знаю, это судьба. Я не могу писать, моя Хельга не может, и мы благодарны за это Богу. Должно быть, писательство – это наказание.
– О, к тебе кто-то пожаловал, – сказал Генри и указал на заклеенное окно, за которым вырисовывались два человеческих силуэта. – Я вижу покупателей.
Обрадин мельком посмотрел на окно.
– Туристы, – с отвращением процедил он.
– Ты уверен?
– Кто еще будет так внимательно разглядывать эти картинки, как ты думаешь?
– Только туристы.
– Вот именно. Между прочим, они приезжают сюда из-за тебя, так что берегись.
Обрадин нетерпеливо встал к прилавку, положив сигарету на окровавленную разделочную доску. Звякнул дверной колокольчик. В лавку вошли две краснощекие, конусообразные дамы. Остановившись у прилавка, они принялись без всякого интереса разглядывать рыбу. Нет, они пришли сюда не за рыбой. Было видно, что сигаретный дым действует им на нервы. Женщина постарше подняла глаза на Обрадина и прикрыла веки, слегка дрожа ресницами, как делают по непонятной причине одни только англосаксонские дамы.
– Do you speak English?
Обрадин отрицательно покачал головой. Обе женщины были обуты в одинаковые белые кроссовки, а за их спинами висели одинаковые рюкзаки из гортэкса. Они вообще были похожи – коротко остриженные волосы, тонкие губы, розоватая кожа. Женщины зашушукались, при этом у старшей под подбородком покачивалась отвислая дряблая кожа. Генри откашлялся:
– Can I help?
Младшая дама застенчиво улыбнулась Генри, обнажив безупречно белые и ровные зубы.
– Perhaps you know Henry Hayden?
Обрадин вмешался в разговор, прежде чем Генри успел открыть рот.
– No.
Серб вызывающе облокотился обеими руками на прилавок.
– No here. Here only fish.
Женщины беспомощно переглянулись. Младшая повернулась спиной к старшей и слегка наклонилась. Пожилая дама раскрыла рюкзак и извлекла оттуда потрепанную книжку. Это было английское издание «Фрэнка Эллиса». Женщина протянула книжку Обрадину и ткнула безукоризненно чистым пальцем в фотографию Генри на последней странице суперобложки.
– Henry Hayden. Does he live here?
– No.
Генри вынул изо рта сигарету, встал и пружинистой походкой подошел к женщинам.
– Allow me. – Он протянул вперед руку, и ошеломленная дама отдала ему книжку.
– У тебя не найдется карандаша, Обрадин?
Серб молча протянул ему вымазанный рыбьими кишками огрызок карандаша.
– What’s your name, Ma’am?
Пожилая женщина в ужасе прижала тонкие пальцы к губам. Она узнала писателя.
– Oh my god…
– Just Henry, Ma’am.
Генри обожал такие моменты. Он совершал благодеяние, да еще и прекрасно себя при этом чувствовал. Бывают ли в жизни более осмысленные и одновременно приятные поступки? В конце концов, эти женщины приехали бог весть откуда лишь для того, чтобы увидеть Генри. Такие труды ради пустяковой милостыни.
Генри надписал две книги, а Обрадин сфотографировал с ним обеих женщин. Женщины вышли из лавки, не чуя под собой ног. Серб проводил их недобрым взглядом и проворчал:
– Я каждый раз выдергиваю себе из задницы по волоску, лишь бы тебя не выдать, и тут появляешься ты и говоришь: «Вот я».
– Не переживай, зато дамы вернутся и купят у тебя рыбу, потому что теперь они точно знают, что ты их не убьешь.
На ужин Генри пожарил медальоны из подаренного ему Обрадином морского черта. Они с Мартой сидели на веранде, наслаждаясь прохладой вечернего, насыщенного ароматом свежескошенной травы воздуха, и пили Пуйи-Фюме.
– Мне стоит о чем-то беспокоиться? – спросила Марта со свойственной ей неподражаемой краткостью, которая исключала всякие дополнительные вопросы. Генри знал свою жену достаточно хорошо, чтобы сразу понять подтекст: избавь меня от подробностей, мне не нужны объяснения и, самое главное, не выставляй себя глупцом.
Генри подцепил вилкой кусок рыбы и провел по нему ножом, смоченным в рислинге.
– Ни в малейшей степени, – искренне ответил он. – Не волнуйся, я сам с этим разберусь.
Так все самое главное было сказано. Телепатический контакт, выработанный за годы супружества, многим сторонним наблюдателям может показаться молчанием. До свадьбы Генри тоже думал, что безмолвно сидящим за столиками в ресторанах супружеским парам просто нечего сказать друг другу; но теперь он знал, что за этим молчанием скрываются оживленные беседы. Некоторые супруги умудряются даже молча острить.
Марта поднялась к себе раньше обычного, чтобы закончить заключительную, пятьдесят четвертую главу. В двери террасы она остановилась и обернулась к Генри.
– Стоит ли начинать все с чистого листа, Генри? Разве у нас все плохо?
Она вышла, не дождавшись ответа.
Генри помыл посуду, накормил собаку и вернулся в свою мастерскую – посмотреть «Спортивное обозрение» и приклеить еще несколько спичек к модели буровой платформы.
Высокие полки с непрочитанными книгами стояли рядом с канцелярскими шкафами, набитыми газетными вырезками. Все отзывы о Генри были тщательно рассортированы по датам, авторам и языкам. Особо хвалебные пассажи были подчеркнуты идеально прямыми линиями. За эту привычку к аккуратности Генри хвалили еще в школе. Самые дорогие призы и грамоты висели на стенах или стояли на застекленных полках. Уже в раннем детстве Генри отличался склонностью к переписыванию и классификациям. Коллекция на полках росла с каждым новым романом. Он не показывал ее Марте. При одной мысли об этом Генри заливался краской стыда.
Письменный стол Генри стоял у окна. За этим столом он отвечал на письма, составлял справки для налоговых консультантов и клеил модели буровых платформ из спичек. Каждую законченную модель Генри относил в подвал и сжигал. На праздник солнцестояния очередная модель шла на растопку огня под грилем, на котором жарились колбаски. На модель норвежской буровой платформы «Морской тролль» Генри уже израсходовал более сорока тысяч спичек. Но что делать, это была крупнейшая в мире буровая платформа. Перед сном Генри посмотрел две серии «Бонанзы» и лег спать в превосходном расположении духа. Он спал крепко и без сновидений, как Хосс Картрайт из «Пондерозы», ибо теперь знал, что надо делать.
Он проснулся от скрежета автоматических жалюзи. Солнечный свет ворвался в комнату. Генри сбросил одеяло. Тень от напрягшегося в утренней эрекции члена показывала четверть восьмого. Пончо спал рядом с кроватью на полу. Генри выпил кофе, тщательно принял душ и достал из шкафа походные сапоги. Увидев сапоги, Пончо бросился к двери и принялся плясать перед ней, неистово виляя хвостом. Опередив Генри, он подбежал к машине и вспрыгнул на пассажирское переднее сиденье. Настало время утренней прогулки.
Для того чтобы окрестные жители не пронюхали о его утренних прогулках с собакой, Генри выбирал для них отдаленные места, в сотне километров от дома. Автор нашумевших романов, в конце концов, не обычный скиталец. Пользуясь точной армейской картой, на которой были отмечены самые крохотные лесные тропинки, он за последние два года открыл для себя множество нетронутых лугов и лесов, успел побродить по живописным болотам и дальним полоскам побережья, увидел множество редких птиц и зверей и при этом еще и похудел. Заблудиться не было ни малейшей опасности, так как двести двадцать миллионов обонятельных клеток Пончо помогали ему безошибочно находить дорогу к машине.
На этот раз Генри выбрал участок леса, расположенный в сорока километрах от дома. Они с Пончо уже бывали здесь несколько раз. Генри остановил машину на небольшой тенистой полянке. Где-то поблизости между папоротниками шумел водопад. Пахло свежей смолой, солнечный свет, проникая сквозь ветви, отражался от листьев миллионами ярких бликов.
Из кармана куртки Генри извлек телефон и вставил в него аккумулятор. Он никогда не звонил Бетти дважды из одного и того же места. Это была мера предосторожности, усвоенная за годы прогулок по безлюдной глуши. Он набрал код и стал ждать. Собственно, для всех этих ухищрений не существовало никаких причин – телефон был предоплачен. Карточку можно было купить на любой заправке – практично, дешево, анонимно. Генри любил быть инкогнито.
Бетти ответила сразу, после первого же гудка. Голос ее звучал приглушенно – она курила.
– Ты все ей сказал?
– Я расскажу тебе об этом сегодня вечером. Ты в издательстве?
– Нет, я сегодня дома. Как она отреагировала?
Генри выдержал многозначительную театральную паузу. Такие паузы отлично срабатывают при телефонных разговорах, тогда как при личном контакте безотказно действует загадочная улыбка. Способ весьма действующий.
– Марта повела себя на удивление мужественно.
Он услышал металлический щелчок зажигалки и представил себе, как Бетти затягивается ментоловым дымом.
– Мореани меня уволит, если узнает.
– От Марты он ничего не узнает.
– Ты уверен?
– На сто процентов.
– Но она, должно быть, сильно на меня злится, да?
– Конечно, злится. Боишься за работу, Бетти?
– Я? Ни капельки, но мне просто будет очень неприятно. Если честно, мне немного стыдно.
– Почему тебе стало стыдно только теперь?
Бетти сделала глубокую затяжку. Генри явственно представил себе раскаленный кончик сигареты.
– Что это значит, Генри? Ты думаешь, мне все равно?
– До сих пор тебе было все равно.
– Мне никогда не было все равно. Ты снова становишься бесчувственным, как лед. Не стоит все взваливать на меня. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело, но прошу, не надо винить во всем только меня.
– Все очень просто – это правда.
– Конечно, конечно, все очень просто. Я не могу себе вообразить, что думаешь ты.
«Пусть лучше будет так», – подумал Генри. Пес уловил какой-то запах и, петляя, бросился прочь по росистому лугу.
– Уж не думаешь ли ты, что я преднамеренно забеременела от тебя, Генри? Говори честно.
– Я всегда честен с тобой, дорогая. Всегда.
Эта мысль до сих пор не приходила ему в голову. Но теперь, когда Бетти высказала ее вслух, он подумал, что это вполне возможно. Бетти было почти тридцать пять, она долго ждала, но Генри ничего ей не предлагал, а теперь он стоит перед свершившимся фактом.
– Давай заканчивать, Бетти.
– Что ты имеешь в виду?
– У меня заканчивается время. Осталось тридцать секунд. Мы поговорим сегодня вечером.
– Ты меня пугаешь, Генри. Ты действительно так думаешь?
– Отчасти да, но терпение, я приеду в восемь часов. Кстати, прекрати курить, это вредно для нашего ребенка.
– Хорошо, милый. Ты…
– Что?
– Я тебя люблю.
– Ты заблуждаешься.
– Ты всегда так говоришь. Прими это и смирись. Я тебя люблю, люблю, люблю. Я тебя целую.
Генри извлек аккумулятор из телефона, снова став невидимкой. Бетти боится, что Марта пожалуется на нее Мореани, и боится не зря, так как своим положением главного редактора она обязана именно Марте, хотя и не подозревает об этом. Мореани ее уволит, так как она не сможет объективно относиться к работе. Но ничего, это пойдет ей на пользу. Бетти думает только о себе, и он, Генри, стал лишь частью ее амбициозных планов. Так что ее неудачи его не расстроят. Бетти слишком эксцентрична, она хочет успеха и одновременно уюта – хочет жить в глуши, но с центральным отоплением. В глубине души она развращена и бессовестна, как, впрочем, и он сам. Все это сильно упрощает дело.
Генри свистнул, подзывая собаку, бегавшую в сотне метров от полянки. Кажется, Пончо во что-то вцепился зубами – и выглядел при этом просто великолепно. Генри пересек полянку, утопая сапогами в песке. Для охоты на зайцев ховаварт слишком тяжел и медлителен, но то, что лежало перед псом, было больше зайца. Чем ближе подходил Генри, тем ожесточеннее рвал Пончо зубами свою добычу. С расстояния в двадцать шагов Генри понял, что это косуля. Пес вырвал огромный кусок мяса из ее бедра, и задняя нога болталась на лоскутке кожи.
Косуля еще дышала. Может быть, она была уже подранена или больна. Животное посмотрело на Генри немыслимо умоляющим взглядом, когда Пончо снова вонзил зубы в его плоть. Дрожа, косуля подняла голову, вывалив синеватый язык и прерывисто дыша.
– Пончо, к ноге!
Пес оторвал еще кусок мяса, ворча, улегся в нескольких метрах от Генри и принялся поедать добычу. Генри опустился на колени рядом с умирающим животным. Покрытое белым мехом брюхо было вспорото, словно ножом, из раны выглядывали кишки. Все ее существо хотело жить. Генри торопливо ощупал карманы, не обнаружив ничего, кроме телефона. Он погладил косулю по теплой, бешено пульсирующей шее, огляделся, но рядом не оказалось и камня, которым можно было бы одним ударом прикончить животное.
Тогда Генри обеими руками сдавил косуле горло. Она забилась, стараясь вырваться, но Генри не отпускал, пока не наступила милостивая смерть. Разжав руки, Генри погладил теплый труп. Жизнь покинула зверя. Сидя рядом с телом, Генри задумался о прощальном подарке для Бетти. Конечно, она придет в ярость. Она будет разочарована. Но разве разочарование – это не конец всякого очарования? Метеорологи обещали на вторую половину дня дождь. Через десять часов он скажет об этом Бетти.
V
В длинном коридоре уголовного суда было безлюдно. Гисберт Фаш, забыв о головной боли, сидел на деревянной скамье у окна, обхватив обеими руками коричневую папку. Мимо него проходили люди – одни торопливо, другие не спеша – и исчезали за серыми дверями кабинетов. В подвале уголовного архива Фаш обнаружил два серых регистратора в ящике с прикрепленной к нему табличкой с вопросительным знаком. На этом знаке какой-то бюрократ неимоверными каракулями начертал слово «уничтожить», после чего о ящике благополучно забыли. Это была бесценная находка – да здравствует бюрократическая неряшливость!
Постановления суда по поводу дела Хайдена были короткими и на первый взгляд не содержали ничего интересного. Сухим юридическим языком они констатировали, что 2 декабря 1979 года без вести пропала мать Генри, Шарлотта Хайден, урожденная Бунткнопф. Так как никто не заявлял об ее исчезновении, то никто и не стал ее искать. В следующем абзаце речь шла о смерти налогового инспектора Мартина Э. Хайдена, который поздним вечером того же дня, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, упал с лестницы и получил смертельную травму. Связь между этими двумя событиями установлена не была, об убийстве речи не шло. Определенно эта трагедия, сама по себе достаточно загадочная и ужасная, могла сломать психику девятилетнего мальчика – сделать его гением, преступником или на всю жизнь лишить дара речи.
О местонахождении ребенка, Генри Хайдена, было сказано лишь вскользь. Определение его в то или иное учреждение было выделено в отдельное производство. Так как никто, по-видимому, не рассчитывал, что мать найдется, мальчика официально объявили сиротой и постановили отправить в сиротский приют.
Генри лгал и тогда. Не было никакого катастрофического кораблекрушения, в котором утонули все, кроме него. Его отец был не охотником на крупного зверя, а всего лишь налоговым инспектором, занимавшимся взиманием налогов на собак. Маленький Генри не был единственным спасенным пассажиром судна, утонувшего в ледяных водах Северного моря. Он просто остался один. К тому же он страдал недержанием мочи, был патологическим лжецом и непредсказуемым психопатом.
Фаш вспомнил, как впервые встретился с Генри – это случилось тридцать лет назад в католическом сиротском приюте Святой Ренаты. Генри тогда исполнилось почти одиннадцать лет, и его нельзя было назвать милым ребенком. Вполне возможно, конечно, что жизненная карьера психопата начинается с какого-то трагического события, но нередко таким событием становится само его появление на свет. Зло является в мир в невинном обличье. Оно растет, обретает образ и играючи принимается за свою работу. За плечами Генри было уже много испытаний – он успел сбежать из нескольких приютов, но никогда об этом не рассказывал. Каждый предыдущий день он оставлял позади без раскаяния и сожаления.
Когда Генри появился в приюте Святой Ренаты, он был рано созревшим сильным парнем с пушком на верхней губе. Он был спортивен, постоянно весел и имел в повадке что-то кошачье. Он любил совершать мелкие проказы, чаще за чужой счет, но при этом всегда проказничал не без лоска и шарма. Генри больше, чем его ровесники, пользовался успехом у девочек, лучше всех умел ладить с авторитетами и отличался в борьбе за лучшие порции. Собственно, он всегда их и получал. Он, как взрослый циник, буквально излучал равнодушие, что делало его страшным и сильным в бесчувственности. Как в классе, так и в отношениях с воспитателями он всегда добивался льгот и преимуществ. При этом действовал настолько искусно, что мало кто чувствовал себя ограбленным.
Особым его талантом было умение перенимать у других самое лучшее и этим добиваться похвал и привилегий. Предпосылка уважения к людям – совесть, но Генри не обладал ни тем, ни другим. Он хорошо чувствовал боль, но не испытывал страха перед наказаниями, считая это слабостью. Генри был окружен панцирем, незаметным для посторонних глаз, но непробиваемым.
В учебе у Генри не было соперников в умении списывать. Но, списывая, он проявлял небрежность и делал ошибки. Это своеобразное высокомерие говорило о том, что для него главным был сам процесс воровства, и добыча теряла ценность, попадая к нему в руки. Если его хватали за руку, он всегда находил тех, на кого можно было свалить вину. Никто не отваживался доносить на него учителям и воспитателям, ибо Генри был мстителен, и никому никогда не удавалось избегнуть расплаты за донос. Негласный девиз мщения Генри был прост: Ты не знаешь, когда. Сама недосказанность уже была угрозой, ранившей жертву, как отравленная стрела. Как раз в то время Гисберт читал поэму о Беовульфе, где говорилось о Гренделе, этом ненасытном чудовище, которое приходило по ночам к своим жертвам, утаскивало их в пещеру под болотом и там пожирало. Генри был вылитой копией этого чудовища. Никто не знал, когда оно придет, ясно было только одно – этот приход будет ужасным.
Пребывание Генри в приюте Святой Ренаты продолжалось один год и три месяца. Потом в один из зимних дней Генри исчез, прихватив с собой кассу директора приюта. Никто не знал, куда он сбежал и почему. Собственно, никто этим и не интересовался. Для приюта бегство Генри стало настоящим праздником. У Гисберта в ушах до сих пор стояло ликование в длинных коридорах приюта. Сестры, кажется, тоже не испытывали ничего, кроме облегчения. Со слов привратника стало известно, что Генри выбил стекло в маленьком окошке в котельной и выполз через него на улицу. Кровь на осколках стекла говорила о нешуточных порезах. Гисберт подозревал, что Генри должен был утащить кого-нибудь с собой, но все были на месте. Все ждали его возвращения, но никто не стал его искать. Насколько помнил Гисберт, руководство приюта не известило об исчезновении воспитанника ни полицию, ни магистрат. Все хотели выждать: вдруг он не вернется? Ночью мальчики в спальне не смыкали глаз, прислушиваясь и ожидая появления Генри. Он не возвратился. Грендель вернулся к своей гнусной матери, провалившись в ее бездонный колодец.
Точности ради надо признать, что имя Трейвис Форстер было псевдонимом. Любой человек может присвоить себе имя более звучное, нежели Гисберт Фаш, но никто не имеет права красть чужую жизнь и называть себя писателем, на деле таковым не являясь. Гисберт Фаш составил свой псевдоним из имен двух своих идолов и внес в свой паспорт. Имя он взял у вымышленного героя Трейвиса Бикля, борьбой которого за уважение и признание он был поражен, когда смотрел фильм Скорсезе «Таксист»; фамилию он позаимствовал у Георга Форстера, естествоиспытателя, путешественника и искателя приключений, незаслуженно забытого всемирной историей.
Гисберт Фаш, как мы будем для простоты его называть, сидел на деревянной скамье уголовного суда, но мысленно снова был в душной спальне приюта, напоминавшей брюхо галеры с крошечными люками под потолком. Приют Святой Ренаты был настоящим ГУЛАГом, где бал правили самые жестокие, притеснявшие слабых. Самым худшим, а значит, самым сильным был Генри. Поселившись в приюте, он первым делом выбил Гисберту два передних зуба, потому что хотел спать на верхней койке двухъярусной кровати. Верхняя койка как новичку ему не досталась, сначала он должен был довольствоваться нижним местом. Два десятка мальчиков слышали в темноте, как все это происходило. Как только выключили свет, Генри, словно страшный Грендель, забрался на верхнюю койку и ударил Гисберта в лицо, стащил его вниз и бросил на нижнюю койку. Никто не помог Гисберту, все лишь тряслись от страха. Ту ночь Гисберт будет помнить всю жизнь. Он лежал без сна, глотая текущую изо рта кровь, а забравшийся на его место психопат что-то орал во сне и делал под себя.
Когда несколько десятилетий спустя Гисберт Фаш в каком-то литературном приложении натолкнулся на имя Генри Хайдена, то решил, что это просто случайное совпадение. Критики писали о великом прорыве, расточая похвалы стилю и силе выражения – Генри не мог быть таким гением, это совершенно невозможно. Однако в статье была фотография автора. Сомнений не оставалось – это он. Те же серо-зеленые глаза, та же наглая ухмылка победителя. Грендель вернулся. Вместо выбитых зубов у Гисберта уже давным-давно стояли два штифта, но воспоминание заставило их мучительно заныть. Он купил роман в книжном магазине на углу, торопливо сорвал пластиковую упаковку и принялся читать прямо на ходу.
«Фрэнк Эллис» оказался рассудочным, сухим и довольно пресным триллером, хорошо и сжато написанным, с неплохо разработанными деталями, но ни в коем случае эту книгу нельзя было назвать романом века. Но даже не в этом дело. «Каждая фраза – это крепость». Эта надпись красовалась на клапане суперобложки «Фрэнка Эллиса». Миллионы людей купили и прочли книгу. С того момента у Фаша зубы стали ныть постоянно. Он не мог понять, как это бесчувственное чудовище могло самостоятельно сочинить бестселлер. Однако если роман написал не он, то кто? Что делал этот человек с момента бегства из приютского ГУЛАГа до выхода в свет его первого романа? Гисберт не смог нащупать след. Нигде не было никаких сведений об окончании учебного заведения, не нашлось ни одной строчки ни в одном литературном альманахе. Можно было предположить, что имя этого психопата обнаружится в картотеке судимостей, но и эта надежда не оправдалась. В картотеке не значилось имя Генри Хайдена. Он нигде не учился, не оставил никаких следов творческой деятельности, у него не было друзей или близких коллег по писательскому цеху. Может быть, раньше он печатался под псевдонимом? Если да, то под каким? Разве нет примеров скрытных писателей, которые прячут от публики свой жизненный путь? Но не таков был Генри Хайден. После своего бегства из приюта он нырнул в неведомые глубины, чтобы потом, спустя несколько десятков лет, вдруг подобно комете взлететь на литературный небосклон.
Гисберт начал розыск, стараясь не привлекать к себе внимания. Впрочем, он все делал так, особенно то, что касалось искусства. Мечта о писательской карьере давно канула в Лету. Он давно перестал рассылать рукописи по издательствам. Толкотня в переплетных мастерских осталась в прошлом, как и читки произведений литературным мастодонтам с пожелтевшими от никотина пальцами и крошками табака между зубами. Одиннадцать лет Фаш работал над романом о скитальцах каменного века. Получая из раза в раз стандартные отказы от издательств, Фаш наконец отказался от своего имени и взял псевдоним Трейвиса Форстера, учредив собственное издательство. Издательство, естественно, тотчас же обанкротилось. Шесть лет он существовал под дамокловым мечом ликвидаторов. Изданные, но никем не прочитанные экземпляры горами громоздились в его маленькой квартирке. В конечном счете он сдал их в макулатуру. После этого сожжения собственных книг Фаш покончил с писательством. Романы и пьесы так и остались в ящиках письменного стола. Он снова стал Гисбертом Фашем, вычеркнув из паспорта псевдоним Трейвиса Форстера. Все, баста.
Теперь Фаш снова работал преподавателем языка для иностранцев, по большей части африканцев. Он помогал им обустроиться на новом месте. Люди пересекали океаны на весельных шлюпках, чтобы убежать от засух, войн и бедности, но в сказочной стране с молочными реками в кисельных берегах они не могли остаться без диплома о знании языка. Работа Гисберта была важна и нужна, и он выполнял ее охотно и добросовестно. Это была действительно хорошая работа. Отдавая дань прежнему увлечению, он писал критические статьи на Амазоне. Они всегда были положительными, он не терпел отрицательные отзывы, считая их такими же неприличными, как чернота под ногтями. Критические статьи он писал под старым псевдонимом Трейвиса Форстера. Да, он скучал по прежним временам. Но все же, все же Фаш был недоволен собой.
Фаш ездил за Генри по всем европейским столицам, слушал его выступления на разнообразных симпозиумах, изучал немногочисленные интервью и анализировал все его цитаты. Много раз они стояли лицом к лицу друг к другу, но Генри его не узнавал. Удивительно, что у такого знатока человеческой природы была столь плохая память на лица.
Генри мог бы заполнять публикой огромные залы, но предпочитал встречаться с читателями в книжных магазинах. Фаш присутствовал на всех его выступлениях. В первых рядах сидели почти одни женщины. В большинстве своем это были дамы бальзаковского возраста – от тридцати до пятидесяти. Фаш видел, как они буквально приникали к губам Генри, ощущая щекочущую влагу между ног, позволяя словам великого писателя проникать в себя и делая вид, что пришли сюда из чисто культурных побуждений. Эти чтения были по сути большими оргиастическими празднествами, апофеозом интимной смазки.
Надо признать, это было сильнодействующее средство. Можно очень скупо и точно описать то, в чем Генри был силен. Когда он, в поношенных туфлях и твидовом пиджаке, читал отрывки из своих произведений, в его тоне сквозила усталость и безразличие, как у римского императора, равнодушно надевающего лавровый венок. Он читал без выражения, сухо, словно из излишней скромности, комкал фразу, будто боялся пропустить поезд, на котором сможет наконец уехать в свое писательское уединение. Бедный старый Генри, думалось в такие моменты Фашу, ты даже не выучился как следует читать.
Генри много времени уделял автографам на книгах. Он мило болтал с исходящими половой истомой читательницами и охотно с ними фотографировался. Он мог околдовать и очаровать их всех, однако ни одну из них ни разу не увез домой. Однажды Фаш решил испытать судьбу и, отстояв очередь, протянул Генри экземпляр книги «Особо тяжкая вина».
– Подпишите для Гисберта Фаша, пожалуйста.
Генри поднял голову, посмотрел Гисберту в глаза. Это был взгляд пресытившегося льва, мимо которого проходят покорные газели. Генри дружелюбно кивнул и написал: «Гисберту Фашу от Генри Хайдена». И все. У Генри не дрогнула ни одна ресница. Он действительно забыл Фаша, забыл о выбитых зубах и списанных у него домашних заданиях. Ну что ж, это даже к лучшему.
В дальнейшем Фаш стал избегать личных встреч, чтобы не насторожить врага. Вместо этого он начал старательно склеивать разрозненные фрагменты скрытой биографии Генри. Фаш нашел для себя всепоглощающую цель, задачу, придавшую смысл его жизни. Гисберт легко бросил курить, снова стал отлично спать по ночам и перестал принимать антидепрессанты, из-за которых едва не распух, как бочка. У него перестали выпадать волосы. Поистине тому, кто находит себе заклятого врага, не нужен врач.
К обеду Генри поехал в город, поставил машину на подземную стоянку у вокзала и выбросил красный телефон в мусорную урну рядом с парковочным терминалом. Поднимаясь на лифте со стоянки, Генри думал, не подарить ли Бетти на прощание квартиру, но потом отбросил эту мысль и зашел в привокзальную закусочную съесть на обед котлету. В этой уютной закусочной зимой спасались от холода местные бродяги. Генри нравились привокзальные площади, любил он и котлеты с острой горчицей. Здесь никто его не узнавал, тут царила легкая безнадежность. Что здесь падало, оставалось лежать надолго.
То, что он предложит Бетти сделать аборт, не подлежит никакому сомнению. Возможно, она уже и сама пришла к этому решению, и в этом случае он, естественно, возьмет на себя все расходы. Формула расставания «останемся друзьями» в данном случае не годилась, ибо друзьями они никогда не были. Напротив, Генри всегда ее хотел, но сама она никогда ему не нравилась. Наверное, Бетти это чувствовала, потому что всякий раз при сближении сопротивлялась его домогательствам. Это еще больше его возбуждало, и каждая их близость больше походила на изнасилование, чем на проявление любви. Откуда в такой ситуации мог взяться ребенок, оставалось для Генри загадкой. Их сексуальная связь была для Бетти чем-то случайным. «Если мы не можем слиться, Генри, то давай, по крайней мере, сохраним голову».
Но теперь всему этому должен прийти конец. Расставание станет быстрым и окончательным, не стоит возбуждать и лелеять несбыточные надежды. Надо наконец успокоить совесть и открыть простор для чего-то нового. Да, он будет по ней скучать. Даже очень сильно скучать. Но только в первое время после разрыва.
Напротив закусочной располагался пункт выдачи ссуд под залог. «Выдача наличными на месте» – было выгравировано на пуленепробиваемом стекле. Генри доел котлету, облизал пальцы и пружинисто перешел на противоположную сторону улицы.
Зажужжав, дверь открылась, и Генри вошел внутрь. За бронированными стеклами у прилавка сидели двое мужчин в очках и перебирали драгоценности. Они сразу почуяли, что у этого посетителя есть деньги. Генри попросил показать бриллиантовое колье, но оно показалось ему слишком помпезным. Такие вещи не стоит дарить на прощание; в конце концов расставание – это не праздник. Брошь он нашел старомодной, а как насчет серег? Нет, серьги тоже не годятся! Он уже хотел уйти, когда взгляд его упал на часы «Патек-Филипп». Часы были красивы, приличны и практичны, а Бетти любила практичные вещи. К тому же эти часы, как и все вещи здесь, были так или иначе связаны с какой-то человеческой трагедией. Кто по доброй воле продаст такие часы? Мотивом могло быть что угодно: нужда, ненависть или темная тайна. Какая бы причина ни привела сюда эти часы, она оставила на них незримый отпечаток. Генри купил их. Если Бетти швырнет часы ему в лицо, то он подарит их Марте на годовщину свадьбы.
Четыре часа дня. Лучшее время суток, когда уже поздно исправлять утренние упущения, когда свет становится мягче, а кубики льда в стакане начинают таинственно мерцать. Можно посидеть за выпивкой вместо дневного сна, простить себе все пороки, писать воображаемые письма и доживать этот очередной бессмысленно прошедший день.
Генри решил пройтись по пешеходной зоне, где каждый дом манил к себе магазином или кафе. Он надвинул на лоб бейсболку и надел темные очки, чтобы выглядеть знаменитостью, которая не желает быть узнанной. Но его никто не узнавал. Как и во все прочие дни, Генри почувствовал бесцельность своего существования и подумал, не вознаградить ли себя посещением книжного магазина. Из близлежащих зданий вытекали потоки людей; в большинстве своем это были трудяги, закончившие свой восьмичасовой рабочий день. Все они надрывались за смехотворно низкую зарплату, были обложены самыми разнообразными долгами и вносили основной вклад в жизнь своих семей, народа, да еще и делали взносы на будущую пенсию. Иногда Генри страстно хотелось стать одним из них, начать вести нормальную жизнь, почувствовать наконец, что значит закончить работу и жить в ладу с собой.
Он зашел в книжный магазин. Прямо у входа, на столе, он увидел два своих романа, лежавшие на возвышении. Он незаметно подписал один экземпляр и вышел на улицу. До встречи с Бетти оставалось еще три часа. На безлюдном строительном рынке он нашел капкан для куниц и попросил объяснить, как он работает. Капкан оказался на удивление дешев. Это был продолговатый деревянный ящик с клапанами на обоих торцах. Продавец с трудом достал громоздкий агрегат с огромной полки.
– Это наш отель для куниц, – не без гордости заявил парень. Он оттянул клапаны, которые с треском захлопывались, когда их отпускали.
– Зверь легко заходит внутрь, но выйти уже не может.
Генри чувствовал затхлый запах миллионов микробов, заселивших желтоватый язык продавца, недоумевая, как может этот бедняга переносить монотонность своей жизни среди всего этого хлама. Тяжело вздохнув, Генри поспешил к кассе. Осталось еще два часа.
В торговом пассаже шел какой-то корейский фильм о мужчине, который сам не зная за что просидел в запертой комнате пятнадцать лет. Генри подумалось, что ему самому лишь чудом удалось избежать такой участи. Он купил два билета – один для себя, второй для капкана. Тот лежал рядом, напоминая детский гробик. Когда фильм закончился и в зале вспыхнул свет, Генри взял капкан и вышел из кинотеатра. Пора ехать к Бетти.
В девятнадцать часов Генри выехал на шоссе и поехал в направлении моря. Капли сильного дождя сливались в длинные прозрачные полосы. Не было ни одного встречного автомобиля. За пустой автобусной остановкой Генри свернул на лесную дорогу и, приглушив свет фар, поехал по бетонным плитам к скалам.
Было жарко, падавшая на теплую землю дождевая вода тотчас испарялась, и над дорогой клубился легкий туман. У края скал находился заросший травой участок, обрамленный со всех сторон соснами, защищавшими это место от ветров. В траве виднелись какие-то старые ржавые металлические конструкции. Вероятно, здесь был либо бункер, либо метеостанция. Ладони Генри увлажнились, сердце забилось чаще. Как только он увидит подходящую Бетти, он тотчас сядет к ней в машину и все ей скажет. Он посмотрел на часы, восьми еще не было. Все должно произойти быстро. Его слова должны быть остры, как нож мясника, безболезненно убивающий жертву точно рассчитанным ударом. Может быть, она начнет кричать, ударит его; в любом случае, она, скорее всего, расплачется.
Зеленый «субару» Бетти уже стоял на месте, как всегда, на краю скалы. Генри выключил фары и подъехал к машине Бетти сзади. Он увидел силуэт Бетти, сидящей за рулем и освещенной лампочкой на зеркале заднего вида. В правой руке она держала сигарету. Наверняка Бетти слушает музыку и не замечает, что он уже подъехал. Когда она откажется от этой мерзкой привычки? «Может быть, она бросит курить, если я подарю ей часы», – подумал Генри.
Когда бамперы автомобилей соприкоснулись, Генри ощутил легкий толчок. Он немного прибавил газ, и мощный «Мазерати» без труда сдвинул с места «Субару». Генри успел заметить, что на машине Бетти вспыхнул стоп-сигнал, а затем она перекувырнулась через край скалы и исчезла из вида.
Некоторое время Генри, не выключив двигатель, сидел неподвижно. «Надо надеяться, что подушка безопасности не сработала», – подумал он и откинул голову на кожаный подголовник. Сейчас она бьется об окна машины, пытается открыть дверь и выбраться наружу. Но темная, холодная, соленая вода лишь ускорит ее смерть. Может быть, она умерла уже при ударе об воду. Ребенок в ее чреве ничего не заметил, он даже не узнает, бедняжка, что жил на этом свете.
Прошло еще минут десять. Генри открыл глаза и выключил мотор. Потом он вышел из машины, чтобы посмотреть, чем же все кончилось. Рубашка тотчас насквозь промокла от дождя. Он остановился на краю скалы и посмотрел вниз. Скала была отвесной, и машина упала в воду, не задев камни. Никаких следов. Море поглотило машину – черное равнодушное море. Сейчас самый подходящий момент броситься со скалы вслед за ней. Однако Генри не чувствовал ничего, кроме холода дождевых капель и ощущения чего-то непоправимого. Он осмотрел передний бампер своего автомобиля. Ни одной вмятины на номере. Он провел по нему пальцем, дождь заливал глаза. Теперь он – преступник, убийца. Впрочем, он давно это предвидел.
По дороге домой он заехал на заправку и купил жевательную резинку, чтобы избавиться от неприятного привкуса во рту. Он заплатил наличными толстой кассирше, похожей на кролика-альбиноса, сумевшего сбежать из лаборатории. Заодно он осмотрел себя в висевшем за кассой зеркале. «Надо же, – подумал он, – выгляжу я вполне обычно». Самое позднее завтра днем кто-нибудь позвонит в полицию. Кто может это сделать? Наверное, Мореани. Добрая весть лежит, злая – бежит. Начнется ожидание, надежда будет сменяться отчаянием – короче говоря, все будет плохо или еще хуже. Самое худшее, впрочем, – это само ожидание.
Родители и встревоженные друзья прежде всего отыщут ключ, чтобы войти в квартиру Бетти. Там все увидят картинку ультразвукового исследования, висящую на панели возле холодильника. Впрочем, нет, снимки УЗИ не висят на холодильнике, наверняка эта карточка лежит в сумочке. Могла ли Бетти рассказать своему гинекологу, кто отец ребенка? Едва ли, зачем бы она стала это делать? Это не имело ровным счетом никакого значения для врача. Потом ему пришло в голову, что зря он не спросил Бетти, ведет ли она дневник. Разве не все женщины в определенном периоде жизни записывают, что с ними происходит? Наверное, то же самое делала и Бетти. Да, надо было спросить.
Генри находился у двери, когда его окликнули:
– Хелло… эй!
Генри остановился и обернулся. Гигантская кассирша махала в воздухе пачкой жвачки. Он забыл взять ее.
Генри вернулся к кассе, взял жвачку, а потом пошел к машине. Эта женщина наверняка его запомнит. Рано или поздно полиция нападет на его след. К этому он был готов, как был готов представить любые доказательства, ибо ему не в чем себя упрекнуть. Он сделал то, что надо было сделать. Генри поехал домой, готовить Марте ромашковый чай.
В комнате Марты горел свет. Она уже пошла наверх, принимать своего писательского демона. Генри неслышно поставил капкан на ступеньку лестницы и выскользнул на кухню, чтобы вскипятить воду и накормить собаку. Огромная кухня, как обычно, была безупречно убрана. Пахло жиром и металлом. Пончо, как всегда, весело вилял хвостом. Было тихо. Короче, все по-прежнему. Потом Генри подумал о телефоне и понял, что он не помнит, извлек ли из него сим-карту. Генри пришел в замешательство.
Что, если телефон все еще работает, а Бетти в минуту смертельной опасности решила ему позвонить? Кому еще она могла позвонить, как не ему? Возможно, она не поняла, кто столкнул ее машину в пропасть. Кто может знать об этом наверняка? Тогда телефон мог зазвонить в мусорном баке, и кто-то мог взять трубку. Телефон Генри не выключил. Нет, нет, это просто невероятно. Из-под воды никто не станет никуда звонить. Кто будет это делать, когда соленая вода заливает нос и горло? Люди хотят жить и в таких ситуациях стараются любой ценой вырваться из западни, они борются, разбивая в кровь руки и головы. Ни один разумный человек в подобных обстоятельствах никуда звонить не будет. Или все же…
Генри оперся рукой об стол, нащупал бутылку виски и отхлебнул прямо из горлышка. Сигареты. Бетти всегда стряхивала горящий пепел на траву и среди деревьев. Как это его раздражало, сколько лесных пожаров он предотвратил! Судебные эксперты первым делом соберут все лежащие на месте происшествия окурки – это знает каждый ребенок, видевший детективы по телевизору. Слюна Бетти осталась на них со стопроцентной гарантией. Кроме того, сохранились следы лазаньи, которой его вырвало, а там тонны его ДНК, ДНК убийцы. Это улика, такая же улика, как если бы он просто прибил к деревьям у скал табличку со своим именем и фотографией. Надо лишь выяснить происхождение рвотных масс. Не лучше ли сразу позвонить адвокату? Но что сказать? Что он без всякого плана убил свою возлюбленную? Что сделал это непреднамеренно, так как просто забыл надавить педаль тормоза?
Кто же ему поверит? Нет, если уж рассказывать об этом, то первым делом надо поговорить с Мартой. В конце концов, он сделал это ради нее. Марта, без сомнения, поймет его и простит. Она же никогда на него не злилась. Но, вероятно, на этот раз она может и рассердиться. Понятно, однако, что доносить она на него не будет. Бедняжка, кто будет о ней заботиться, если не он?
Повинуясь неясному импульсу, Генри подошел к окну. Дождь продолжал идти. «Один только я знаю, что натворил», – подумал он. Кто вообще его заподозрит? И кто будет искать тело у скал? Следы шин найти уже невозможно. Это хорошо. Дождь и море стали его союзниками и подельниками, так что ему нет нужды на них жаловаться.
Генри успокоился. Это и в самом деле мог быть просто несчастный случай, да, собственно, это и был несчастный случай. Он вообще здесь ни при чем. Все произошло из-за ошибки Бетти. Из-за ее фатальной небрежности. Она остановила автомобиль слишком близко от края скалы, не поставила машину ни на передачу, ни на ручной тормоз. Обычная для женщин невнимательность. Она слишком далеко заехала. Кто подумает что-то другое, кто станет доказывать противоположное? Да и кто ее найдет?
Генри надел домашние туфли, взял со стола бутылку виски и пошел в винный погреб, чтобы с удовольствием выкурить сигару. Не то чтобы ему было что праздновать, но хороший табак отгоняет тяжелые мысли. Он уселся на табуретку под голой лампочкой и выкурил в подвале целую сигару. Как тогда, когда он выкурил плохонькую сигару из оставшегося после отца наследства. В ту роковую ночь, которая стала концом детства Генри, отец взобрался по лестнице, чтобы наказать сына. Генри в промокшей от мочи пижаме спрятался под кровать. Отец вломился в комнату, пыхтя, как бык, и отравляя воздух пивными парами. Он не стал включать свет, а просто сунул руку под кровать и выволок оттуда Генри. Схватившая его рука причиняла мальчику боль. Старик ухватил сына за пижамную курточку и пощупал штаны.
– Опять обоссался, паршивец?
Эта отвратительная сцена повторялась каждую ночь. Отец, как обычно, выволок его из комнаты на лестницу. Генри уцепился за перила и стал звать маму. От этого старик еще больше рассвирепел и начал тянуть еще сильнее. Генри тоже не отпускал перила. Ткань порвалась, и грузный мужчина с грохотом скатился вниз по лестнице. Он так и остался лежать на полу. Потом его, на глазах у сбежавшихся соседей, вынесли из дома в пластиковом мешке. То, что случилось потом, было еще хуже.
Сегодня в дым пьяный Генри вылез из винного погреба, споткнулся о спящую собаку и рухнул лицом на пол. В глазах заплясали искры.
В дверь позвонили. Пончо вскочил и залаял. Генри взглянул на часы. Было около одиннадцати. Первая мысль была: «Полиция!» Неужели они смогли так быстро все разнюхать? Правда, современная криминалистика может творить чудеса, но все же это невероятно. С другой стороны, если Бетти все же позвонила из тонущей машины, то она могла позвонить не ему, а в полицию. Это была ее последняя месть. Дом уже окружен, в поле прячутся снайперы. Лучше всего остаться лежать на полу и ждать, когда они войдут в дом сами.
Генри пролежал на полу еще некоторое время, видя, как окурок сигары прожигает дырку в полу, но это было уже совершенно неважно. Ему вдруг вспомнилось грандиозное описание Достоевским переживаний приговоренного к расстрелу в последнюю минуту перед залпом. Ни одна минута в жизни не может сравниться с такой минутой по интенсивности переживаний. Правда, Генри не очень любил Достоевского за многословие и невероятную обстоятельность.
В дверь позвонили еще раз.
На этот раз позвонили трижды: два длинных звонка, один короткий – как азбука Морзе. Генри снова явственно увидел свое ближайшее будущее. Сейчас по лестнице спустится Марта. Страшное будет зрелище: она увидит, как на него надевают наручники, зачитывают права. Потом она упакует ему в путь зубную щетку и смену белья и при этом, конечно, будет плакать. «Зачем ты это сделал?» – спросит она. Надо приготовить достойный ответ, подумал Генри и встал, чтобы открыть дверь неизбежности.
На пороге под дождем стояла Бетти.
Она была одна, бледная и серьезная. Под плащом на ней был надет костюм от «пепиты», в котором она сногсшибательно выглядела. Светлые волосы были высоко подобраны – она знала, что такая прическа ему очень нравилась. Бетти прекрасно выглядела и, кажется, нисколько на него не злилась.
– Генри, твоя жена все знает, – сказала она вместо приветствия.
Глядя на Бетти, Генри испытывал весьма сложные чувства. Во-первых, радость. Да, он радовался тому, что Марта знала о принятом решении, а Бетти осталась жива. На безупречной коже не было ни единой царапины, Бетти, кажется, не простудилась в ледяной воде, но простуда, конечно, наступает не сразу. Во-вторых, он был немало удивлен. Как смогла Бетти выбраться из тонущего автомобиля, не повредив прическу? Значит, она успела заехать домой, привести голову в порядок и переодеться. Но почему она, пребывая, как ему показалось, в прекрасном расположении духа, поехала к нему, а не помчалась в полицию? Загадочно и непонятно. Конечно, всему этому существует простое и естественное объяснение.
– Ты пьян, Генри?
– Я? Да.