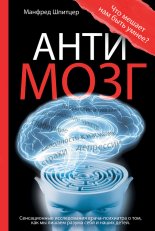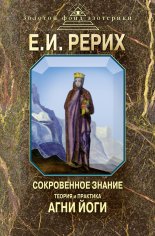Кажется, со мной пойдут в разведку Васильев Борис
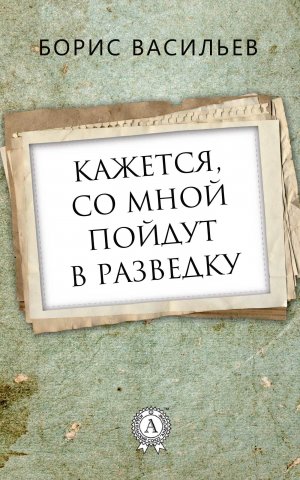
1
– Проклятущая у нас работа, – позевывая, говорит Федор. – Ни тебе отгулов, ни тебе двух выходных. Каторга!..
Он лениво переворачивается, подставляя солнцу могучую грудь, густо заросшую упругим ржавым волосом. Под левым соском видна чуть расплывшаяся наколка: орел, терзающий голую женщину. И надпись: «Не забудь Севастополь. 1960 год».
Мы лежим на берегу тихой, задумчивой речки. Купаемся, жаримся на солнце, дремлем и снова купаемся до синевы. Жарились вчера, жаримся сегодня, и неизвестно, сколько суток нам предстоит еще жариться на этой сонной речушке.
Вездеход, который мы испытываем, третьего дня ушел на завод: потекло масло из вентилятора. На базе остались вещи, горючее, запчасти. Никто на них не покушается, но для порядка решили держать караульщиков, и выбор пал на второй экипаж. Второй экипаж – это мы: Федор и я. Федор – водитель, я у него на побегушках, хоть и числюсь по ведомости слесарем. Правда, оставался с нами еще Славка – третий член экипажа, помощник Федора. Но не успела осесть пыль, поднятая вездеходом, как Славка, подмигнув Федору, торопливо зашагал к речке: на том берегу, прямо от воды, начинались огороды деревни.
– Куда это он? – удивился я.
– К бабе, – лениво пояснил Федор. – Баба у него в деревне.
Когда при мне говорят «баба», я оглядываюсь, нет ли вблизи женщин. Оглянулся я и тогда, но вокруг не было ни души, только приблудный пес Фишка задумчиво искал блох. Вот с того дня мы и валяемся на берегу втроем: я, Федор и Фишка. Славка как ушел, так и сгинул: там, конечно, интереснее, чем у нас…
– Труд есть необходимость, – вдруг изрекает Федор. – Так, что ли, Москвич?
Москвич – это я. Обычно Федор зовет меня по имени: Генкой, но когда хочет позлить, прибегает к ироническому: «Москвич». Сначала я очень сердился, когда меня так называли, а потом сообразил, что надо терпеть. В моем присутствии все только и делали, что под разными предлогами поносили эту машину.
– Ну, объясни: труд – необходимость или обходимость?
– Ну, необходимость…
– Значит, блох кормить ты по необходимости прибыл? – лениво продолжает он.
Он все делает с этакой артистической ленцой: лениво говорит, лениво переворачивается на другой бок, лениво ест, спит, пьет, работает. Точнее, это не лень: это расчетливое отсутствие торопливости.
А блох действительно уйма. То ли их поставляет Фишка, то ли они размножаются в геометрической прогрессии. Первое время я не мог спать, но потом меня научили класть под себя полынь: блохи, оказывается, ее терпеть не могут…
Я молчу. Молчу изо всех сил.
– И какая у тебя была необходимость рвать когти от папы с мамой, не понимаю. Пользы от тебя, как от Фишки, а разговоров!.. «Мы – строители коммунизма! Мы – добровольцы. Мы – молодые энтузиасты. Мы, мы, мы!..» Вот и мыкайся теперь, товарищ идейный слесарь. Мыкайся и воображай, что без тебя всем нам будет сквозная дыра.
Ну, что я могу ему сказать? Что весь десятый класс мы до хрипоты спорили, как жить дальше? Что тираж «Комсомолки» раскупается в две минуты? Что хочется уважать себя не только за пятерки в аттестате? У Федора на все один ответ:
– Мало отцы ремней излохматили о ваши задницы, энтузиасты. Мало!..
А меня отец вообще никогда не бил. Только страдал, когда я что-нибудь выкидывал. Страдал, страдал, а потом сгинул. И остались мы с мамой и с Наташкой: ей тогда только-только год исполнился…
– Если бы тебя на БАМ занесло или, скажем, на Нурекскую ГЭС, я бы понял, – продолжает Федор, не обращая внимания на мое упорное молчание. – Там – передний край, газеткой пахнет, слава опять же. А у нас, друг милый, работенка незаметная: мотай километраж, пока не посинеешь, да дефекты строчи в ведомость. Однако ты почему-то к нам завернул. Соображения у тебя какие были или так, от легкости ума?
Интересно, сколько дней он будет потешаться, если я расскажу, каким образом оказался здесь?…
Я ехал совсем в другую сторону. Ехал, выдержав мамины слезы после того, как срезался на приемных экзаменах в МЭИ.
Но маме-то я не сказал, что сознательно срезался: с той поры, как отец ушел, она отказалась от алиментов и волокла нас с Наташкой на одну зарплату. А Наташка – почти артистка, ей учиться надо, все говорят. А у меня нет никакого таланта, я и поработать могу, чтоб маме полегче было и чтоб Наташка во ВГИК могла поступить. Вот я и наврал, что срезался. Тогда списались с дядькой, купили мне билет, нагрузили до отказа советами и сунули наконец в купе до Новосибирска.
Попутчиков было двое: молодой парень и невероятно интеллигентный старичок в золотых очках. От парня попахивало пивом, и мама начала обстоятельно разъяснять старичку, как нужно приглядывать за мной.
Как только поезд тронулся, старичок надел домашнюю куртку и ушел в соседний вагон играть в преферанс. С той минуты мы видели его только по ночам: он являлся ровно в половине двенадцатого, а утром, наскоро проглотив чай, удалялся «доигрывать пульку». В этом постоянстве было что-то мистическое, и все относились к старичку с огромным уважением.
А мы с парнем до Ярославля проторчали в коридоре у открытого окна. Парень оказался офицером. Он возвращался из отпуска и говорил только о подводной охоте. Перед Ярославлем он похлопал по карманам, извлек рубль и послал меня на вокзал за сигаретами.
Когда я вернулся, я увидел ее. Увидел в самый невыгодный для женщины момент: в момент какой-то удивительно сосредоточенной раздраженности. Лейтенант только что водрузил ее чемодан наверх и повернулся к ней с улыбкой, с которой принято заговаривать с молодыми женщинами. Она равнодушно посмотрела на него и обратилась ко мне:
– Это ваше место? – Глаза у нее были шоколадные. Я никогда не встречал глаз такого цвета и такой бездонной глубины, онемел и едва успел кивнуть, как она заявила: – Вам придется уступить его мне.
Я молча перетащился на этаж выше. Проводница принесла белье, и новая пассажирка принялась стелить постель с таким ожесточением, что мы сразу вышли в коридор. Лейтенант закурил, протянул пачку мне:
– Н-да, очаровательное создание…
Почему-то я закурил тоже. Закурил третий раз в жизни, держа сигарету, как свечку. Пассажирка выглянула в коридор:
– Дайте закурить.
Лейтенант с неестественной торопливостью щелкнул зажигалкой. Женщина прикурила, вернулась в купе и села возле столика.
Мы молча стояли у окна: лейтенант спиной, а я боком к полуоткрытой двери. Я смотрел в окно, но уголком глаза все время видел ее. Она достала книгу, положила на столик и закинула ногу на ногу. Узкая юбка натянулась, соскользнув с круглого колена, но она не заметила. Сидела, глядя в книгу отсутствующими глазами, держала сигарету кончиками пальцев, и я сразу догадался, что курить она не умеет. Вдруг она повернула голову, и я увидел слезы на ее лице. Я невольно вздрогнул, а она, вскочив, с лязгом захлопнула дверь…
Утром я проснулся от незнакомого звонкого голоса:
– Подъем, юноши!.. – Она стояла в дверях, сунув руки в карманы халатика, и… улыбалась. – Пять минут на одевание! – скомандовала и закрыла дверь.
Мы молча смотрели друг на друга.
– Н-да… – Лейтенант поскреб затылок. – Женщины, брат, – существа непостижимые.
В этом вопросе я мог опираться только на семнадцатилетний опыт жизни с мамой и тринадцатилетний – с Наташкой и поэтому промолчал. Мы пошли умываться, а когда вернулись, на столике стояли шесть стаканов с чаем.
– Доставайте провизию, у кого что есть, – сказала она. – У меня нет ничего, но зато я буду за вами ухаживать.
Уничтожая мамины пирожки, мы узнали, что пассажирку зовут Владленой Ивановной…
А потом лейтенант встретил однополчанина и надолго перекочевал в другой вагон. Мы остались одни. Выбегали на станциях пить фруктовую воду, покупали семечки и поразительно невкусный шашлык, нанизанный на рубленные топором лучины. Где-то за Кировом ей пришло в голову раздобыть вареной картошки и огурцов. Мы раздобыли и долго бежали по перрону за последним вагоном.
Я почти не говорил, только смеялся, большей частью невпопад. Зато она болтала за двоих, и скоро я узнал, что она инженер, ездила в Ярославль в командировку, а сейчас возвращается на завод. Узнал, что резина на катках вездехода никуда не годится, что вентилятор еще не отработан, что мотор перегревается на тяжелых грунтах, что… Словом, я узнал все, кроме того, что случилось в Ярославле и почему она плакала вчера вечером.
По-моему, потом я уже ничего не соображал. Я смотрел в ее шоколадные глаза, слушал, как бьется мое сердце, и думал, что такой красивой женщины я никогда еще не встречал. Даже знаменитая Ирка из 9-го «Б», в которую была влюблена вся школа, теперь казалась мне просто смазливой ломакой.
Пришел лейтенант. Он страшно радовался, что едет в гражданском и может плевать на патруль. Спать он не желал, но Владлена все-таки уложила его. Мы с нею вышли в коридор и, вероятно, простояли бы там до утра, если бы проводница не предупредила Владлену:
– Через час ваша остановка.
– Жаль, – сказала Владлена и пошла в купе укладывать вещи, а я остался.
Я ни о чем не думал. Просто слушал, как стучат колеса, и смотрел в темноту, подставив лоб ночному ветру. Было очень грустно и тревожно, и я чувствовал, что сейчас сделаю либо непоправимую глупость, либо шаг навстречу счастью. Я прошел в купе и снял сверху два чемодана: ее и свой…
Поезд ушел. Мы стояли на маленькой, скудно освещенной платформе. Было два часа пятнадцать минут.
– Если бы ты был хоть на пять лет совершеннее, я бы, пожалуй, влюбилась в тебя, – сказала Владлена. – Пойдем в зал: первый автобус на завод только в пять утра…
Прошел месяц, и вот я лежу на горячем песке рядом с опытнейшим водителем завода. Он хороший парень, и я готов терпеть его насмешки. Готов не спать ночей или валяться на песке, когда вездеход отправляют на ремонт. Готов жевать черствый хлеб, запивая водой, когда «мотают километраж» и нет времени даже на то, чтобы перекусить в какой-нибудь придорожной забегаловке. Готов махать кувалдой до оранжевых кругов перед глазами, соединяя тяжелые траки гусеницы. Ко всему этому я подготовился, когда стоял один в коридоре вагона и слушал, как стучат колеса. Но к одному я оказался не готов – к тому, что я и Владлена будем работать на расстоянии двухсот километров друг от друга: она осталась на заводе, а меня сразу же послали на испытания…
Фишка поднимает лохматые уши. Пес он деликатный и никогда не позволит себе залаять, если хозяева молчат. Только поднимает уши и чуть слышно ворчит.
Я тоже прислушиваюсь: из-за кустов доносятся неразборчивые голоса. Федор садится, обняв голые колени.
– Кто-то пожаловал. Поинтересуемся?
Не ожидая ответа, он встает и, пригнувшись, идет к кустам. Он умеет ходить так, что не дрогнет ни одна ветка. Фишка бежит впереди, прижав уши и оглядываясь. Я поднимаюсь, когда оба скрываются в кустах.
Я хожу, как всякий нормальный городской житель: спотыкаюсь на ровном месте и цепляюсь за кусты. Исцарапавшись и вдоволь наломав веток, выдираюсь наконец на простор.
Противоположный берег скрыт песчаным косогором. Мне не видно, что там происходит, но голоса слышны отчетливо: молодые девичьи голоса. Федор лежит на вершине, замаскировавшись кустами лозняка. Фишка расположился рядом. Пыхтя и оступаясь в сыпучем песке, поднимаюсь к ним. Федор грозит кулаком:
– Тихо!..
Сдерживая дыхание, тяжело плюхаюсь на горячий песок. Устроившись, осторожно выглядываю.
До противоположного берега можно спокойно добросить камень. Он рядом: узкая полоска песка, с трех сторон зажатая непролазными зарослями ольшаника. На кустах белеют полотенце, платья и что-то еще, а у самой воды – две девушки. Толстуха сидит лицом к нам, подняв коленки и скручивая на затылке волосы. Сначала мне кажется, что на ней белый купальник, но потом понимаю, что ничего на ней нет, а то, что я принял за купальник, – просто куски незагорелого тела. Улыбаясь, она что-то говорит второй, но слов не разобрать: рядом журчит протока.
Вторая – тоненькая, с покатыми плечами и прической, какую можно соорудить только в городе, – стоит возле. Она уже сняла платье, и то, что пока осталось на ней, невесомо и не предназначено для пляжа.
– Кино… – беззвучно шепчет Федор. – Как это называется?
Я знаю, как это называется: стриптиз. Я никогда не видел его, но наврал ребятам, что однажды попал в Дом кино на закрытый просмотр французского фильма, где под музыку раздевалась героиня. А на самом-то деле я впервые вижу девушку не в купальнике, и сердце стучит так, словно я второй час подряд машу полупудовой кувалдой.
Засмеявшись, она отводит руки за спину и, шевельнув плечами, сбрасывает лифчик. Размахнувшись, бросает лифчик к кустам, но он не долетает и мягко ложится на песок. А она вертится по берегу, приплясывает, и размахивает руками, и смеется, закинув голову. Белая девушка в розовых трусиках на желтом песке. Она танцует и поет, и сквозь безостановочное журчание воды я слышу, что она поет. Сейчас она снимет последнее, что на ней надето. Снимет, поскольку не знает, что мы лежим за кустами. Снимет и станет еще беззащитнее. И тут вдруг я подумал, что кто-то вот так же тайком подглядывает за Владленой, видит, как она раздевается, как поет и танцует для самой себя. Подумал, и мне стало жарко – кажется, я даже покраснел, – и что есть силы заорал то, что пела девушка:
– Пусть всегда будет мама!..
Что тут началось! Фишка залаял, девушки с криком бросились в кусты, а мы с Федором, пригнувшись, ринулись назад и остановились только у нашей заводи.
– Псих, – отдышавшись, говорит Федор.
Я ожидаю бури, но он молча натягивает штаны, закидывает на плечо майку и, не оглядываясь, идет к базе. Я остаюсь один.
Я понимаю, почему Федор злится: за всю жизнь я не слышал столько разговоров о «бабах», сколько наслышался за этот месяц. Все, кто приезжает к нам, словно с цепи срываются. Я слушаю всегда с замиранием сердца, ожидая, что вот-вот кто-то со смаком, с разухабистой циничностью помянет Владлену…
И все-таки подглядывать подло. Пусть меня сколько угодно называют сопляком, мальчишкой, психом – я не играю в такие игры. Пусть я рискую навсегда потерять расположение Федора и других ребят, пусть так, но я не могу поступить иначе. Не могу и не хочу. Влажный нос тычется мне в плечо: вернулся Фишка, провожавший Федора до базы. Он очень привязан ко мне – вероятно, за то, что я первым назвал его Фишкой.
– Ну, что скажешь хорошего, пес?
Пес усиленно машет хвостом и пытается улыбаться. Конечно, было бы здорово обнаружить сейчас за ошейником записочку: «Прости, друг, ты абсолютно прав». Но с ошейником Фишка незнаком, а Федор никогда не напишет записки…
Я ложусь на спину и закрываю глаза. Солнце бьет в лицо, жаркие лучи проникают сквозь веки, и мне кажется, будто я плыву в густом розовом тумане. Он клубится, то рассеиваясь, то сгущаясь, и я сначала смутно, а потом все яснее и яснее вижу розовый песок, и розовые кусты, и розовую девушку, танцующую в розовых трусиках на розовом берегу… Я поспешно открываю глаза и сажусь: такие розовые видения мне совсем ни к чему.
Фишка чуть слышно скулит: время обеда, а за этим он следит с точностью хронометра. Я вспоминаю, что сегодня дежурю, и начинаю натягивать джинсы…
С питанием у нас дело поставлено на прочную ногу. Наш завхоз – тщедушный пожилой человечек, поросший каким-то гагачьим пухом вместо волос, – привез из города бездну свиной тушенки, а колхоз вдоволь снабдил картошкой. Завхоза все зовут Ананьичем, и никто не знает, сколько ему лет. Раздобыв тушенку и картошку, Ананьич решил, что с него хватит хозяйственной деятельности, и ударился в длительный загул.
Ананьич исчез, а тушенка и картошка остались. Правда, среди ребят ходили слухи о каком-то мешке с макаронами, но мы с Федором мешка этого не нашли. Это навело Федора на здравую мысль, что хозяйственный Ананьич обменял макароны на самогонку. Мы прекратили розыски и стали три раза в день готовить картошку с тушенкой. Поскольку готовили мы с Федором по очереди, то, естественно, могли заимствовать опыт только друг у друга. В результате естественного отбора в нашем меню утвердилось два блюда: либо мы бухали тушенку прямо в кипящую воду и таким несложным путем вырабатывали суп, либо отварная картошка перемешивалась с тушенкой, и получалось второе. Как бы там ни было, а Фишка ни разу не отравился.
От речки до базы – три минуты ходьбы. Базу мы арендуем у колхоза: два дома, где живут отцы-командиры, и длинный сарай, в котором ночуем мы. Когда испытания идут полным ходом, народу у нас много: две смены экипажей, инженеры, техники, два контрольных мастера ОТК. Тогда из колхоза, приходит повариха тетя Настя, которая готовит то же самое, что и мы с Федором, но в больших количествах. А сейчас – тишина. Никого нет.
Обычно мы помогаем друг другу: один чистит картошку, другой растапливает печь. А сегодня все наперекосяк: Федор мрачно доедает тушенку, цепляя на хлеб желтые ломти застывшего жира. Он не обращает на меня внимания, нарочно чавкает и с хрустом ломает наш зачерствевший до твердости наждачного камня хлеб.