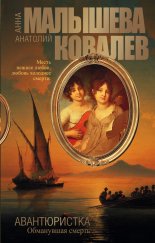Рим. Роман о древнем городе Сейлор Стивен
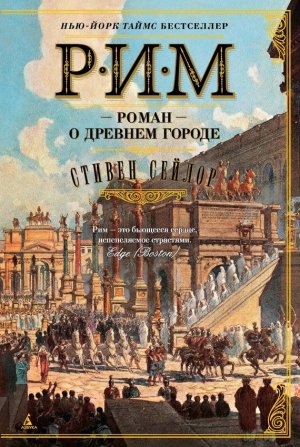
Steven Saylor
ROMA: A NOVEL OF ANCIENT ROME
Copyright © 2007 by Steven Saylor
Published by arrangement with St. Martin’s Press, LLC
All rights reserved
© В. Волковский (наследник), перевод, 2016
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство АЗБУКА®
Родословное древо
Римские месяцы и дни
При Ромуле год состоял из 10 месяцев, два дополнительных (януарий и фебруарий) введены, согласно преданию, царем Нумой Помпилием. После него год по римскому календарю состоял из следующих месяцев:
1. Януарий (Januarius) – в честь бога Януса.
2. Фебруарий (Februarius), «месяц очищения», – в честь обряда очищения.
3. Мартий (Martius) – в честь бога Марса (с него начинался год).
4. Априлий (Aprilis), «открывающий», – по времени раскрытия почек.
5. Май (Maius) – в честь богини земли Майи.
6. Юний (Junius) – в честь богини Юноны.
7. Квинтилий (Quinctilis), «пятый», – пятый месяц от начала года, впоследствии переименован в Юлий (Julius) в честь Юлия Цезаря.
8. Секстилий (Sextilis), «шестой», впоследствии переименован в Август (Augustus) в честь императора Августа.
9. Септембер (September), «седьмой».
10. Октобер (October), «восьмой».
11. Новембер (November), «девятый».
12. Децембер (December), «десятый».
Первое число каждого месяца именовалось «календы» (от лат. calare – «звать»). В древности великий понтифик, наблюдавший за сменой фаз луны, созывал в этот день народ, возвещая о начале нового месяца.
Иды (от лат. iduare – «делить») приходились на 15 мартия, мая, квинтилия и октобера, а также на 13-е число остальных месяцев.
Ноны (nonae) имели место за девять дней до ид.
Глава I
Привал На Соляном Пути
1000 год до Р. Х
Выйдя из-за изгиба тропы, тянувшейся вдоль реки, Лара увидела на вершине ближнего холма знакомый силуэт смоковницы. Погода стояла теплая, дни – длинные, и дерево было покрыто сочным зеленым убором, хотя плодов еще не было. Вскоре она заметила и другие знакомые вехи: известняковый выступ рядом с тропой, напоминавший человеческое лицо; болотистую заводь, по приближении к которой с воды взлетали встрепенувшиеся птицы; высокое дерево, похожее на человека с воздетыми к небу руками. Скоро им предстояло поравняться с речным островком – самым подходящим местом для привала. Именно на нем они и остановятся на ночлег.
За свою короткую жизнь Лара уже много раз ходила вверх и вниз по прибрежной тропе. Ее племя не прокладывало эту тропу. Кажется, она была здесь всегда, просто обутые в оленью кожу ноги и деревянные колеса ручных тачек хорошо уплотнили ее. Соплеменники Лары добывали соль и торговали ею, постоянные походы вверх и вниз по реке были неотъемлемой частью их жизни, обеспечивавшей пропитание.
В устье реки полдюжины родственных кланов добывали соль из больших, залегавших рядом с морем соляных пластов. Ее соскребали, просеивали и загружали в тачки. Когда они наполнялись, человек пятнадцать, самых крепких и деятельных, отправлялись по тропе в сторону верховьев реки. Все прочие оставались у моря, укрываясь среди скал и тощих деревьев.
Со своим драгоценным грузом соплеменники Лары пересекали приморскую низину и приближались к горам, но подниматься на них не было нужды. В предгорьях, среди лесов и зеленых лугов, было немало деревушек, жители которых приобретали их соль в обмен на сушеное мясо, шкуры, шерстяные ткани, глиняные горшки, костяные иголки со скребками и маленькие деревянные игрушки. Совершив обмен, Лара и ее соплеменники возвращались той же тропой к морю, а через некоторое время цикл повторялся.
Так было испокон веку, и другой жизни Лара не знала. Вновь и вновь ходила она вдоль реки вверх и вниз и не могла назвать какое-либо определенное место своим домом. Она любила морское побережье, где всегда можно было полакомиться рыбой и где по ночам ее убаюкивал мягкий шелест прибоя. Предгорья, в которых тропа становилась круче, ночи холоднее, а от просторов порой кружилась голова, нравились ей куда меньше, а в многолюдных деревнях она смущалась и робела. Пожалуй, лучше всего Лара чувствовала себя на самой тропе, где ей все было по нраву – и прохлада, которой тянуло от воды в жаркий день, и кваканье лягушек по ночам, и обильно росшая вдоль реки лоза с сочными, вкусными ягодами. Даже в самый знойный день закат приносил с реки освежающий бриз, посвистывавший среди камышей и высоких трав.
Из всех участков тропы Лара больше всего любила именно тот, к которому они приближались сейчас. Вообще-то, вдоль этого отрезка реки пролегала ровная низина, но вблизи от острова местность на восточной стороне походила на кусок скомканной ткани – холмы, гребни, лощины.
Среди имущества соплеменников Лары имелась деревянная колыбелька, переходившая из поколения в поколение и приспособленная для крепления к тачке. Островок, продолговатый, заостренный в направлении вверх по течению, где вода подмывала обе его стороны, очень напоминал по форме эту колыбельку. Остров был похож на колыбельку, а холмы на восточном берегу реки напоминали облаченных в просторные плащи старых женщин, пришедших взглянуть на лежавшего в колыбельке младенца, – так однажды описал эту местность Ларт, отец Лары.
Он вообще был склонен усматривать в предметах окружающего пейзажа образы чудовищ и великанов и обладал способностью ощущать обитавших на деревьях и в скалах духов – нуменов. Порой ему случалось слышать то, что они ему говорили, и даже разговаривать с ними. Река – его старая, верная подруга – подсказывала ему, где лучше ловить рыбу, ветер нашептывал, какая погода будет завтра. Неудивительно, что при таких способностях Ларт являлся вожаком группы.
– Мы близко от острова, правда, папа? – спросила Лара.
– Откуда ты знаешь?
– Холмы. Сначала мы видели их там, в отдалении. Потом они выросли, и наконец на вершине одного из них стал виден силуэт смоковницы. Значит, мы подходим к острову.
– Ты хорошая девочка! – улыбнулся Ларт.
Память и смекалка дочери порадовали Ларта, видного мужчину с проседью в черной бороде. Жена родила ему нескольких детей, но все они, кроме младшей дочери, умерли в младенчестве. Жена Ларта умерла при родах Лары, унаследовавшей от матери золотистые волосы. Поэтому дочь была дорога Ларту вдвойне – и как единственное дитя, и как память о жене. Лара уже округлилась в груди и бедрах – приближалось время, когда она сама сможет стать матерью, и Ларт больше всего на свете хотел дожить до появления внуков. Он знал, что такая долгая жизнь дается не каждому, но не терял надежды: отчасти потому, что никогда не жаловался на здоровье, отчасти потому, что умел ладить с нуменами.
Это было весьма важное умение, ведь от нуменов можно было ждать чего угодно. Речные нумены могли затянуть человека в водоворот и утопить, древесные – могли запутать ноги в корнях или уронить на голову тяжелый сук. Духи скал могли обрушить камнепад или просто подсунуть камень и злорадствовать, когда человек споткнется. Уж на что были далеки от людей духи неба, но и они, бывало, тыкали вниз огненными пальцами, отчего человек мог изжариться, как кролик на вертеле, или, хуже того, остаться в живых, но превратиться в безумца и калеку. Слышал Ларт и о том, что сама земля может разверзнуться и поглотить того, кто ей не угодил. Самому ему, правда, такого видеть не доводилось, но, как человек предусмотрительный, он не забывал каждое утро проявить к земле должное уважение и обратиться с просьбой разрешить ему по ней пройти.
– В этом месте есть что-то необычное, – сказала Лара, устремив мечтательный взгляд сначала на сверкающую реку, а потом на каменистые, усеянные деревьями холмы. – Как оно возникло? Кто его создал?
Ларт нахмурился. Вопрос был ему непонятен и, казалось, не имел смысла. Это место не было когда-то кем-то создано – оно просто существовало, вот и все. Конечно, со временем в нем что-то могло меняться – буря могла вырвать с корнями дерево и бросить в реку, валун мог с грохотом скатиться по склону и загородить тропу. Обитавшие здесь нумены проявляли себя, день ото дня привнося в детали что-то новое, но существенные признаки места оставались неизменными, они были всегда – холмы, небо, солнце, море, соляные залежи в устье реки.
Ларт пытался придумать, как объяснить эти мысли Ларе, но вдруг его внимание привлек встрепенувшийся при их появлении олень. Он метнулся от воды к зарослям, но, вместо того чтобы скрыться, уставился на них, и Ларт услышал слова, причем так отчетливо, словно они были сказаны вслух: «Съешьте меня». Олень предлагал им себя!
Ларт повернулся, чтобы отдать приказ, но самый искусный охотник, юноша по имени По, уже сорвался с места. Подняв на бегу заостренную палку, с которой никогда не расставался, он с силой метнул ее в оленя. Древко, просвистев между Лартом и Ларой, вонзилось оленю в грудь, и тот, упав на землю, забил длинными стройными ногами. Быстро пробежав между отцом и дочерью, юноша подскочил к упавшему оленю, вырвал из раны копье и нанес второй удар. Олень всхрапнул, дернулся и затих. Удача была встречена радостными возгласами: сегодня вечером вместо речной рыбы они полакомятся олениной.
* * *
Расстояние между речным берегом и островом было невелико, но в это время года – начало лета – вода стояла слишком высоко, чтобы преодолеть реку вброд. Соплеменники Лары издавна изготавливали незамысловатые, плетенные из веток плоты, которые латали или заменяли по мере необходимости. Проходя мимо острова в прошлый раз, они оставили здесь три таких плота, все в хорошем состоянии, но сейчас обнаружили только два – одного не хватало.
– Я вижу его! Он вытащен на берег острова и почти скрыт среди тех листьев, – сказал По, у которого было острое зрение. – Должно быть, кто-то воспользовался им, чтобы добраться до острова.
– Может быть, они все еще на острове, – предположил Ларт.
То, что кто-то воспользовался безнадзорным плотом, претензий не вызывало, и места на острове хватало на всех, однако в любом случае осторожность не мешала. Он сложил ладони рупором у рта и крикнул. На его крик к берегу вышел человек и приветливо помахал рукой.
– Мы его знаем? – спросил Ларт, прищурившись.
– По-моему, нет, – сказал По. – Он молод, я бы сказал – моих лет или моложе, выглядит крепким.
– Очень крепким! – подтвердила Лара, ибо мускулатура незнакомца производила впечатление даже на таком расстоянии.
На нем была короткая туника без рукавов, Лара никогда не видела таких сильных мужских рук. По, низкорослый и жилистый, украдкой покосился на Лару и нахмурился.
– Не нравится мне этот чужак, – проворчал он.
– Почему? – спросила Лара. – Он нам улыбается!
На самом деле юноша улыбался Ларе – и только ей одной.
* * *
Его звали Таркетий. Кроме этого, Ларту удалось выяснить очень немного, поскольку незнакомец говорил на языке, которого Ларт не знал и в котором каждое слово казалось таким же длинным и извилистым, как имя этого человека. Ларту было легче поднять тушу оленя, чем уразуметь, что за странные звуки издают этот юноша и двое его спутников. Однако вид они имели вполне дружелюбный, да и никакой угрозы для более многочисленной группы торговцев солью не представляли.
Таркетий и двое его старших товарищей были искусными кузнецами из местности, находившейся примерно в двухстах милях к северу, где холмы были богаты железом, медью и свинцом. Сейчас они возвращались домой из торгового путешествия. Тропа соплеменников Ларта вела от морского побережья к взгорью, а перпендикулярная реке тропа кузнецов шла через длинную прибрежную равнину. Поскольку там, где находился остров, переправиться через реку было легче всего, то именно здесь эти две тропы и пересекались. В данном случае торговцы солью и торговцы кузнечными изделиями прибыли к острову в один и тот же день – так произошла их встреча.
Две группы разбили на противоположных концах острова два отдельных лагеря, но Ларт, в знак дружелюбия, пригласил в тот вечер Таркетия и его спутников на оленину. Сидя у костра и угощаясь горячим, вкусным мясом, Таркетий пытался рассказывать о кузнечном ремесле, а глаза Лары не могли оторваться от его мускулистых рук, когда он в отблесках пламени костра изображал удары молота. При этом юноша горделиво улыбался – Лара никогда в жизни не видела таких белых и ровных зубов.
По, заметив взгляды, которыми обменивались Лара и чужак, насупился. Ларт, видя все это, улыбнулся.
* * *
Ужин подошел к концу. Кузнецы жестами поблагодарили добытчиков соли за оленину и удалились в свой лагерь. Прежде чем скрыться в сумерках, Таркетий обернулся и одарил Лару прощальной улыбкой.
В то время как другие укладывались спать, Ларт, по обыкновению, задержался у костра. Как и во всем остальном, в огне обитал нумен, который порой общался с ним, посылая ему видения. Когда последние угольки наконец догорели и сгустилась тьма, Ларт задремал.
Его разбудила внезапная яркая вспышка почти затухшего, но вдруг взметнувшегося вверх пламени. В кругу ослепительного, как солнце, света над костром парило нечто. Это нечто было похоже на мощный фаллос. Он, видимо, был бестелесным, поскольку огонь его не опалял, но выглядел вполне плотским – напряженным и устремленным вверх. В воздухе его поддерживали крылья, похожие на птичьи. Ларту и прежде доводилось видеть образ крылатого фаллоса – всякий раз при одних и тех же обстоятельствах, – когда он засыпал, глядя на огонь. Он даже дал этому образу имя – Фасцин. Точнее, дух сам внедрил это имя в его сознание.
Фасцин не был похож на духов деревьев, камней или воды. Они не имели имен, были привязаны к местам обитания и мало чем отличались один от другого. Иметь с ними дело следовало с осторожностью, ибо им не всегда можно было доверять. Иногда они проявляли дружелюбие, но чаще были настроены проказливо или даже враждебно.
Фасцин был иным, ни на что не похожим. Он существовал сам по себе, без привязки к месту обитания, без начала и без конца. Судя по образу, он имел какое-то отношение к жизни, точнее – к ее зарождению, но, видимо, приходил откуда-то из-за пределов мира, проникая в него на несколько мгновений через брешь, открывавшуюся жаром танцующих язычков пламени. Появление Фасцина всегда было знаменательно. Крылатый фаллос никогда не появлялся без того, чтобы не дать Ларту ответ на беспокоивший его вопрос или не внедрить в его сознание новую идею. И всегда, во всяком случае до сих пор, путь, указанный Фасцином, оказывался верным.
В дальних землях – в Греции, Израиле, Египте – мужчины и женщины почитали своих богов и богинь. Они создавали их изображения, рассказывали истории о них и поклонялись им в храмах. Ларт никогда не встречал таких людей. Более того, он и о землях-то, где они жили, никогда не слышал и уж тем более не слышал их рассказов о богах и не видел изображений этих богов. Само понятие о богах, таких, которым поклонялись эти другие люди, Ларту было неведомо. Из того, что было доступно его воображению и опыту ближе всего к тому, что другие назвали бы богом, находился Фасцин.
Вздрогнув, Ларт прищурился, и видение тут же исчезло. Слепящее сияние сменилось густой тьмой летней ночи, которую лишь слегка разжижало серебро лунного света. Вместо недавнего опаляющего жара лицо ощущало приятное дуновение свежего ветерка.
Фасцин исчез, успев, как всегда, внедрить в его сознание некую мысль. Ларт поспешил к навесу из листьев возле реки, под которым любила спать Лара, думая про себя: «Это следует сделать, потому что так считает Фасцин». Он опустился на колени рядом с ней, но будить девушку не было нужды – она уже не спала.
– Иди к нему! – прошептал Ларт.
Пояснять, куда и к кому она должна идти, не требовалось: Лара сама мечтала об этом, ворочаясь в темноте.
– Ты уверен, папа?
– Фасцин…
Он не закончил мысль, но Лара все поняла. Она никогда не видела Фасцина, но отец рассказывал ей о нем. В прошлом Фасцин уже не раз наставлял ее отца и вот снова явил ему свою волю.
Темнота ничуть не смущала Лару, знавшую на этом острове каждый куст и каждый поворот тропки. Подойдя к стоянке кузнецов, она обнаружила Таркетия лежавшим в кустах, в сторонке от остальных: могучая стать не позволяла спутать его ни с кем даже в темноте. Он не спал и ждал, точно так же, как и она лежала без сна, пока к ней не подошел отец.
При ее приближении Таркетий поднялся на локтях и шепотом произнес ее имя. Трепет в его голосе вызвал у нее улыбку. Лара вздохнула, опустилась рядом с ним и при слабом свете луны рассмотрела какой-то амулет со шнурком, висевший на его шее. Запутавшийся в волосах на его груди кусочек бесформенного металла, казалось, захватывал и концентрировал слабый лунный свет, отбрасывая блеск более яркий, чем сама луна.
Его руки, которыми она так восхищалась, потянулись к ней и заключили ее в нежные объятия. Его обнаженное тело, теплое, как и ее собственное, стало еще больше и сильнее. В какой-то миг Лара подумала, не делит ли с ними эту ночь Фасцин, ибо, когда она принимала в себя то, чем мужчина участвует в зарождении новой жизни, ей почудилось биение крыл между ног.
* * *
На следующее утро, когда торговцы солью начали просыпаться, Ларт обнаружил Лару на том месте, где она обычно спала, и даже подумал, уж не ослушалась ли она его, но ее глаза и улыбка сказали ему, что это не так. Когда группа собралась уходить, Ларт подозвал к себе По. Юноша откликнулся не сразу, а во время разговора прятал глаза, что было для него нехарактерно.
– По, прежде чем мы отправимся дальше, вернись на то место, где ты вчера убил оленя, разрыхли землю и замаскируй следы крови. Если кровь разбрызгалась по листьям, траве или камням, обломай ветки, вырви траву, выверни камни и сбрось все в реку. Это следовало бы сделать вчера, но уже темнело, и у нас было полно забот с разделыванием туши. Придется заняться этим сейчас. Нельзя оставлять кровь на тропе.
– Почему? – спросил По.
Ларт был захвачен врасплох и ошеломлен: никогда раньше По не позволял себе подобной дерзости.
– Потому что кровь привлечет падальщиков и хищников. Кровь на тропе может оскорбить нуменов, обитающих у реки, пусть даже олень сам предложил себя. Но чего ради я тебе это растолковываю? Делай что сказано!
По уставился в землю. Ларт собрался повторить приказ снова, более резко, но его отвлекли пришедшие проститься кузнецы.
Таркетий выступил вперед и торжественно преподнес Ларту подарок – небольшой (его можно было держать в одной руке), заостренный с одного конца и имеющий отверстие с другого предмет. Это был железный наконечник для копья – вещь дорогая и очень полезная, скажем, для охоты на того же оленя, если таковой снова появится на прибрежной тропе. Таркетий жестами дал понять, что взамен ничего не просит.
У соплеменников Ларта имелось несколько примитивных ножей и скребков, изготовленных из железа, но ничего подобного этому искусно изготовленному наконечнику у них не было. Подарок произвел сильное впечатление.
– Что ты об этом думаешь? – спросил Ларт, показывая острие По, и, прежде чем тот успел ответить, забрал его копье. – Ты самый лучший охотник среди нас, и тебе такая вещь нужнее, чем кому-то другому. Мы попросим Таркетия показать нам, как укрепить этот наконечник на древке.
Пока По стоял столбом, Ларт вручил копье и наконечник Таркетию. Тот улыбнулся им обоим. Вид его красивых зубов заставил пальцы По дернуться, а кузнец с помощью небольшого молотка и гвоздей принялся прилаживать наконечник к копью. Ларт завороженно наблюдал за его работой, не обращая внимания на побагровевшее лицо По.
Когда работа была закончена, Ларт взял у Таркетия копье и вернул его По. Новый наконечник был тяжелее, чем думал молодой охотник: копье в его руке наклонилось, со стуком ударившись острием о землю.
– Баланс другой, – сказал Ларт, рассмеявшись при виде растерянности По. – Тебе придется заново учиться целиться и бросать. Зато новый наконечник будет разить наповал, это уж точно, и тебе не потребуется вкладывать в бросок столько сил.
По торопливо перехватил древко и сжал его так крепко, что побелели костяшки пальцев.
* * *
Чуть позднее, когда торговцы солью уже грузились на плоты, чтобы покинуть остров, Таркетий подошел к Ларе и отвел ее в сторону. Выразить свои чувства в словах они не могли и поэтому просто обменялись ласковыми прикосновениями. И он и она почувствовали, что хотят оставить на память о себе подарок.
Они поняли друг друга без слов и потому рассмеялись. Лара предложила Таркетию свою самую драгоценную вещь – маленький глиняный сосуд с пробкой, наполненный чистой белой солью.
Приняв подарок, Таркетий отложил его в сторону и снял с шеи кожаный шнурок с висевшим на нем кусочком необработанного и незнакомого Ларе, желтого, как солнце, металла. В нем было лишь отверстие для шнурка.
Таркетий надел амулет ей на шею и что-то сказал – не иначе как назвал свой подарок, хотя для нее это слово было лишь странным звуком.
У Лары не было ни малейшего представления о том, насколько ценен этот амулет: это был всего лишь кусочек металла, который никогда не тускнел. Однако по выражению глаз Таркетия она поняла, что он дорожил им и этим подарком оказал ей честь.
Она еще не знала, что кузнец оставил ей и другой подарок – в ее чреве уже зародилась новая жизнь.
* * *
К тому времени, когда отряд торговцев солью продолжил путь, солнце уже стояло высоко в небе. После острова, выше по течению, справа, холмы отступали, а река делала широкий изгиб, обтекая низкий и плоский мыс. Здесь начиналась маленькая тропка, которая вела к теплым источникам. В холодную погоду Ларт и его соплеменники не упускали возможности сделать у этих источников привал, но сейчас стоял другой сезон.
Приноровившись к ритму ходьбы, Ларт вдруг вспомнил о поручении, которое он дал По перед выступлением в дорогу, и, обернувшись, спросил:
– Ты очистил тропу от крови?
Ответа не требовалось – по выражению лица молодого охотника было ясно, что он не выполнил требование вожака.
– Тогда возвращайся и сделай это сейчас! – рявкнул раздосадованный Ларт. – И имей в виду, дожидаться тебя никто не будет. Чтобы догнать нас, тебе придется бежать бегом.
Не говоря ни слова, По застыл на месте, и остальные прошли мимо него. Он провожал соплеменников взглядом, пока последний из них не скрылся из виду. Копье в его руке дрожало. Посмотрев вниз, он увидел, что дрожат и руки. Одно дело, следуя порыву, метнуть копье в оленя, а потом добить животное, и совсем другое – совершить то, что он задумал.
Некоторое время По стоял на тропе, потом повернулся и побежал назад, в направлении острова, примериваясь на бегу к весу копья.
* * *
По мере дальнейшего продвижения группы тропа начинала уходить вверх. Несколько раз Ларт останавливал Лару и просил взглянуть – глаза у нее были помоложе – на оставшуюся позади дорогу, не догоняет ли их По. Однако юноши не было и в помине, и ближе к закату Ларт начал беспокоиться. Пожалуй, зря он поддался гневу и отослал охотника назад одного.
Появился По, лишь когда отряд уже сделал очередной привал. Он нагнал соплеменников спокойным, уверенным шагом, даже не запыхался, и выглядел абсолютно невозмутимым.
– А ты не спешил! – заметил Ларт.
– А куда спешить? Рано или поздно вы должны были остановиться. Заблудиться на тропе, что идет вдоль реки, мудрено.
– Ты сделал то, что я тебе велел?
– Конечно.
Зрение Ларта ослабло, но нюх оставался острым, и он сразу обратил внимание на непривычно чистые волосы и руки юноши.
– От тебя исходит дух горячих источников.
– Да, – ответил По, замешкавшись. – Я остановился и искупался.
– Смотрю, даже одежду прополоскал… – Ларт прикоснулся к еще влажной тунике юноши.
– Я перепачкался в оленьей крови. Ты сам велел убрать все следы, ради нуменов. Вот я и решил… – он опустил глаза, – решил, что нужно смыть кровь и с себя…
Ларт кивнул и больше ни о чем не стал спрашивать.
* * *
Поблизости от того места, где они остановились на ночлег, был высокий холм. По опыту прошлых походов, когда глаза его были зорче, Ларт помнил, что с его вершины открывается обзор на большое расстояние. Найдя Лару, он велел ей пойти с ним.
– Куда мы пойдем, папа?
– На вершину холма. Быстрее, пока еще светло.
Озадаченная такой поспешностью, девушка последовала за ним. Когда они поднялись на вершину, Ларт перевел дух, а потом указал вниз по реке. Заходящее солнце залило всю местность багрянцем, обратив петлявшую реку в подобие огненной змеи. Даже при совсем неважном зрении Ларт мог разглядеть складки холмов близ острова, но не сам остров.
– Погляди туда, дочка, – попросил он. – Где находится остров. Ты видишь что-нибудь?
– Холмы, воду, деревья. – Она пожала плечами.
– Что-нибудь движется?
Она прищурилась и, приглядевшись из-под ладони, увидела многочисленные черные точки, выделявшиеся на фоне красного закатного зарева. Медленно, словно частицы золы над костром, они кружились над островом.
– Стервятники, – сказала она. – Я вижу много стервятников.
* * *
Позднее, когда другие уже спали, Ларт, по обыкновению, бодрствовал. Некоторое время он смотрел на костер, потом встал и, крадучись, направился к тому месту, где лежал По. Юноша спал на отшибе, словно намеренно держась поодаль от остальных. Копье лежало у него под боком. Ларту пришлось действовать с большой осторожностью, чтобы взять оружие, не разбудив владельца.
При свете костра он очень внимательно рассмотрел железный наконечник. Поверхность кованого металла никогда не бывает идеально гладкой, и отмыть наконечник дочиста невозможно, даже в горячих источниках. Мельчайшие частицы крови все равно останутся. Они и остались.
Ларт вернулся к спящему По, приставил острие копья к его горлу и пнул юношу ногой. Тот дернулся и мгновенно проснулся. Из-под прижатого к шее острия выступила капелька крови. Охнув, молодой охотник схватился обеими руками за древко, но у Ларта хватило сил, чтобы не дать ему отвести оружие в сторону.
– Говори шепотом! – приказал вожак, не желая будить остальных. – И убери руки от копья! Опусти их вдоль тела… так-то лучше. А теперь скажи правду. Ты убил всех троих или только Таркетия?
Долгое время По не отвечал. Ларт видел, как блеснули в темноте его глаза, и слышал его прерывистое дыхание. Хотя По лежал совершенно неподвижно, Ларт чувствовал дрожь напряженного тела юноши, передававшуюся через древко копья.
– Всех, – прозвучал наконец ответ.
Ларт похолодел – он догадывался, но до сих пор не был уверен.
– Куда ты дел их тела?
– Сбросил в реку.
«Моя старая подруга – река – осквернена кровью, – подумал Ларт. – Какое мнение составят теперь обо мне и о моем племени нумены реки?»
– Они уплывут в море, – заверил По. – Я не оставил следов.
– Нет! По крайней мере одно тело зарыто на берегу.
– Откуда ты знаешь?
– Стервятники!
Ларт представил себе эту картину – кровь в воде, труп среди камышей, стервятники, описывающие круги в воздухе, – и покачал головой. Каким же охотником должен быть этот юноша, чтобы выследить и убить троих мужчин?! И каким глупцом! Может ли племя позволить себе лишиться его? Во власти Ларта было казнить убийцу немедленно, здесь и сейчас, но тогда ему пришлось бы объяснять свой поступок остальным, не говоря уж о том, что пришлось бы еще оправдываться перед самим собой.
Наконец Ларт вздохнул:
– Я знаю все, что ты делаешь, По. Запомни это!
Он убрал острие с горла юноши, бросил копье на землю, повернулся и побрел назад, к своему месту у костра.
Могло быть и хуже. Окажись этот юноша еще бльшим глупцом и убей он только Таркетия, остальные двое наверняка погнались бы за ним, стремясь отомстить. Хуже того, они сообщили бы о случившемся своим соплеменникам, и очень скоро весть об убийстве, совершенном торговцем солью, разнеслась бы повсюду. Подозрения и обвинения могли бы преследовать всю жизнь их, а может быть, и еще несколько поколений. Хорошо, что об этом знают только нумены, обитающие вдоль тропы, да еще река, стервятники и сам Ларт.
Он долго смотрел на костер и более страстно, чем когда-либо раньше, желал, чтобы в эту ночь ему явился Фасцин. Он мог бы подсказать верный образ действий, но костер прогорел, а Фасцин так и не явился. И больше не являлся ему никогда.
В ту ночь, если не считать наевшихся до отвала стервятников, маленький остров на реке был безлюден и пуст.
* * *
Пока был жив Ларт, торговцы солью больше ни разу не устраивали привала на том острове. Он сказал людям, что остров облюбовали лемуры – беспокойные духи мертвых, а поскольку авторитет Ларта в таких вопросах был непререкаем, спорить никто не стал.
Когда зима сменилась весной, Лара родила сына. Роды были трудными, она чуть не умерла, но в самый тяжелый, мучительный миг ей, в первый и последний раз, явился Фасцин. Его безмолвный голос заверил роженицу, что и она, и дитя останутся в живых. Все это время Лара судорожно сжимала висевший на шее самородок золота, и холодный металл, казалось, вбирал в себя боль. В ее бреду золото и Фасцин слились воедино, и впоследствии она сказала отцу, что нумен крылатого фаллоса поселился в самородке.
Вскоре после рождения ребенка возле приморских соляных залежей была совершена незатейливая брачная церемония – сочетались Лара и По. Охотник знал правду, но признал ребенка своим: во-первых, потому, что так велел Ларт, а во-вторых, потому, что понимал – Ларт прав. По никогда не был так искушен в общении с духами, как его тесть, но даже он чувствовал, что совершенное им убийство требует искупления. Приняв сына убитого им человека как своего, По умиротворил лемура Таркетия. Возможно, это умиротворило и тех нуменов, которые стали свидетелями убийства и были оскорблены намеренно пролитой кровью.
С годами воспоминания Лары о Таркетии потускнели, но золотой амулет, который он подарил ей и в котором, как она теперь верила, обитал нумен Фасцина, так и не утратил своего блеска. Перед смертью она подарила амулет сыну. Ее история об обстоятельствах появления этой вещицы не была правдивой, хотя назвать ее ложью тоже было нельзя. К тому времени Лара куда больше верила причудливым образам, которые были порождены ее воображением, чем собственным смутным воспоминаниям.
– Это золото явилось из огня, – говорила она сыну, – из того самого огня, над которым твой дедушка увидел Фасцина в последнюю ночь, когда мы расположились лагерем на острове. Без Фасцина, мой сын, ты бы никогда не был зачат. Без Фасцина ни ты, ни я не пережили бы твоего рождения.
Фасцин покровительствовал зачатию, помогал при родах и имел еще одно полезное свойство – умел отводить дурной глаз. Лара знала это по опыту, потому что после рождения сына слышала, как другие женщины шептались у нее за спиной, и ловила на себе их странные взгляды. На самом деле они поглядывали на нее с любопытством и подозрением, но она истолковывала их взгляды как проявление зависти, а отец учил ее, что завистливые взгляды могут навлечь болезнь, несчастье и даже смерть. Однако с Фасцином, висевшим на шее, Лара чувствовала себя в безопасности, уверенная, что ослепительный блеск золота может защитить даже от самого опасного взгляда.
Когда амулет и история его появления были переданы следующим поколениям, потомкам Лары оставалось лишь гадать об истинной роли Фасцина в продолжении семейной линии. Появился ли крылатый фаллос из пламени, чтобы оплодотворить Лару, и если да, то не был ли это единственный в истории пример соития нумена с женщиной? Не потому ли другие женщины относились к Ларе с завистью и недоверием, что отцом ее чада считался нумен? И не сотворил ли сам Фасцин золотой амулет, зная, что он потребуется Ларе, чтобы оградить от зла не только себя, но и его сына?
Золотой амулет, истинное происхождение коего было давно забыто, передавался из поколения в поколение.
* * *
Прошло много лет. Предупреждение Ларта об обитающих на острове безжалостных лемурах забылось, и торговцы солью стали снова разбивать там лагерь. За минувшее время и сам острв, и прилегавшая к нему территория так и остались не более чем подходящим местом для привалов. Олени, зайцы и волки бродили по семи ближним холмам, а в болотистых низинах квакали лягушки да вились над водой стрекозы. Даже пролетавшие высоко в небе птицы не могли заметить никаких признаков человеческой деятельности.
Повсюду в мире люди строили большие города, вели войны, возводили храмы в честь богов, воспевали героев и мечтали об империях. В далеком Египте династии фараонов правили уже тысячелетиями. Великая пирамида Гизы высилась над пустыней более полутора тысяч лет. Троянская война отбушевала двести лет назад, так что похищение Елены и гнев Ахилла давно стали преданием. В Израиле царь Давид захватил и сделал столицей старый город Иерусалим, а его сын, Соломон, взялся за строительство первого храма бога Яхве. А дальше, на востоке, кочующие арийцы основали царства Мелию и Парс, из которых суждено было вырасти великой Персидской державе.
Но остров на реке и семь ближних холмов оставались незаселенными людьми и забытыми богами. Это был глухой уголок мира, где не происходило ничего заслуживавшего внимания.
Глава II
Явление Полубога
850 год до Р. Х
Какусу казалось, что когда-то он был человеком.
Он родился высоко в горах. Как и все прочие в деревне, имел две руки и ходил на двух ногах и, следовательно, был не животным, как робкие овцы или свирепые волки, а человеческим существом.
Однако он всегда отличался от остальных. Они ходили ровной походкой, а Какус хромал, потому что одна его нога была не только короче другой, но еще и странно изогнута. Все прочие могли стоять, выпрямившись во весь рост и опустив руки вдоль тела. Спина Какуса была сгорблена, руки искривлены. Глаза, правда, отличались зоркостью, но со ртом было что-то не так: нормальные слова бедняга не выговаривал, и, что бы ни пытался сказать, получалось лишь невнятное бормотание, больше всего походившее на «какус». По этому звуку его и назвали. Лицо Какуса отличалось исключительным уродством: какой-то мальчишка сказал ему, что, наверное, его физиономию вылепил из глины горшечник, а потом бросил на землю и наступил на нее ногой.
Мало кто смотрел на него прямо. Знавшие его отводили глаза из жалости, видевшие впервые шарахались в испуге. Вообще-то, младенцев, рождавшихся с такими уродствами, убивали. Но мать Какуса упросила оставить ее чадо в живых, упирая на то, что мальчик появился на свет необычайно крупным, а значит, вырастет силачом, что важно для общины. Она оказалась права. Еще подростком Какус превзошел ростом и силой всех взрослых мужчин в деревне.
Когда это произошло, селяне, раньше жалевшие его, стали относиться к нему с опаской.
Потом пришел голод.
Зима была сухой и холодной, весна – тоже сухой, но жаркой. Лето оказалось еще суше и жарче. Речушки превратились в ручейки, в тонкие струйки, а потом и вовсе иссякли. Посевы пожухли и погибли. Овец кормить было нечем. Когда казалось, что хуже уже некуда, однажды ночью гора затряслась настолько сильно, что обвалилось несколько хижин. Вскоре после этого с запада пришли черные тучи. Они вроде бы сулили дождь, но вместо него обрушили вниз яростные молнии. Одна из них подожгла сухую траву, пожар охватил весь склон, и хижина, в которой хранился последний запас зерна, сгорела.
Жители деревни обратились к старейшинам: бывало ли так плохо раньше и что можно сделать?
Один из старейшин вспомнил похожее время из своего детства, когда число селян слишком выросло и несколько неурожайных лет привели к голоду. Положение было отчаянным, но именно на такой крайний случай существовал обряд священной весны. С великими нуменами Небес и Земли заключалось соглашение: если община переживет зиму, то с приходом весны группу детишек изгонят за пределы деревни, предоставив собственной участи. Спору нет, средство было суровое, даже жестокое, но ведь и времена были суровые. Старейшины призвали народ прибегнуть к обряду священной весны, и отчаявшиеся поселяне согласились.
Сколько детей надлежало изгнать, определили с помощью гадания. В безветренный день старейшины, с вязанкой сухого хвороста, взобрались на каменный выступ нависавшей над деревней горы, развели костер и, дождавшись, пока столб дыма разделит небосвод пополам, стали считать птиц, пересекавших разделительную черту. За то время, пока костер горел, дымовую черту пересекли семь птиц, а стало быть, в изгнание предстояло отправить семерых детей.
Их выбирали по жребию – важно было дать понять народу, что все зависит от воли нуменов удачи, а не от хитростей родителей.
На глазах у всех дети выстроились в шеренгу, и перед ними пронесли горшок, наполненный маленькими камушками – все белые, кроме семи черных. Один за другим дети запускали руку внутрь, брали, не глядя, камушек, а потом, по сигналу, одновременно раскрывали ладони. Разумеется, когда выяснилось, кому достались черные камни, было немало слез, но, похоже, увидев таковой в разжавшейся ручище Какуса, даже его мать испытала облегчение.
Та зима оказалась мягче предыдущей: хотя и пришлось терпеть лишения, никто в деревне не умер. Очевидно, обряд священной весны умиротворил нуменов и сохранил деревню, поэтому, когда настала весна и распустились первые почки, было решено отправлять детей.
Согласно обряду, детей к новому месту их обитания должно было направить животное. На этом сходились все старейшины, но никто не помнил, по каким признакам следует это животное выбирать. Наконец самый старый и мудрый из них заявил, что животное должно само дать о себе знать, и, само собой, в ночь перед изгнанием детей нескольким старейшинам приснился стервятник.
На следующее утро семерых детей забрали из их домов. Остальные дети и все женщины деревни тоже покинули хижины, и их рыдания разнеслись по всему горному склону. Старейшина с самым зорким зрением взобрался на уступ, долго озирал небосклон и наконец, издав крик, указал на юго-запад, где над горизонтом кружил стервятник.
Мужчины вооружились дубинками. Зазвучали барабаны и трещотки, старейшины завели песнь, которая должна была закалить мужские сердца и придать людям решимости. Ритм ускорялся, звуки становились все громче, и наконец мужчины, потрясая дубинками, устремились к семерым жертвам жребия и погнали их из деревни.
* * *
Следующие дни были ужасны.
Каждое утро изгнанные дети искали в небе стервятника и, если видели его, двигались за ним. Иногда он приводил их к падали, еще годной в пищу, но нередко – к обглоданным скелетам или к такой гнили, какой не клевали и сами падальщики. Отчаяние вынудило их охотиться на все, что движется, и пробовать на вкус любое растение, однако все это время голод был их постоянным спутником. Какус, слишком неуклюжий, чтобы охотиться, но такой большой, что ему требовалось больше всех еды, был для прочих обузой. Зато по ночам, когда вокруг завывали хищники, защитить их мог только этот неуклюжий силач.
Первой умерла одна девочка. Ослабев от голода, она упала с высокого уступа и расшибла голову. Дети заспорили, что делать с ее телом. Немыслимое предложение высказал отнюдь не Какус, а другой мальчик. Остальные согласились, и Какус поступил так же, как все. Может быть, именно тогда, впервые отведав человечины, он начал превращаться в нечто, отличное от человека.
Мало-помалу блуждания привели их в низину, к юго-западу от гор. Дети не наедались вдоволь. Здесь же было больше дичи и съедобных растений, а в реках хорошо ловилась рыба.
Следующим умер мальчик, ранее повредивший ногу. Когда дети наткнулись на медведя и стали в панике убегать, он отстал из-за хромоты. Медведь поймал его и сильно подрал, но, когда Какус устремился к мальчику, пронзительно крича и размахивая веткой, зверь испугался и, нелепо подбрасывая зад, удрал.
В тот вечер дети опять ели человечину. По справедливости Какусу досталась самая большая порция.
Прошло лето, а они так и не нашли себе постоянного пристанища. Еще один изгнанник умер, съев ядовитый гриб, а другой скончался, провалявшись несколько дней в лихорадке. Несмотря на голод, уцелевшие дети не осмелились съесть тела умерших от яда и болезни – их похоронили в неглубоких могилах.
Из семерых изгнанников до зимы дожили трое, в том числе и Какус. Та зима выдалась особенно суровой и холодной. Голые деревья дрожали на пронизывающем ветру, земля сделалась твердой как камень, животные исчезли. Даже самый искусный охотник не смог бы выжить, не сделав того, на что решился Какус.
Может быть, главная перемена произошла в нем именно тогда, когда он решил не полагаться на очередного медведя или еще какую-нибудь случайность, а позаботиться о пропитании самому. Он поступил так, как должен был поступить по самой простой и естественной причине – чтобы утолить голод и выжить. Однако неуклюжий урод проявил осмотрительность и не стал убивать обоих спутников сразу. Сначала он убил того, который был посильнее, и дал более слабому пожить чуть подольше. Не один раз тот ребенок, его последний спутник, пытался бежать – Какус ловил его, но не убивал до последней возможности, до того момента, пока голод не сделался невыносимым. Он терпел до конца, потому что знал: как только не станет его спутника, он столкнется с тем единственным, что страшнее голода, – с одиночеством.
Весну Какус встретил один. Ночами он часто лежал без сна, прислушиваясь к звукам пустыни и все более отдаляясь от мира людей.
Правда, продолжая скитаться, он порой встречал путников и натыкался на деревни, но люди не хотели иметь с ним дела. Они боялись его, и было отчего: этот урод похищал и ел их детей. Когда это стало известно всем, люди принялись охотиться на него и несколько раз были близки к успеху, но в последний момент Какус всякий раз ускользал. Выживание в дикой природе научило его звериным уловкам, а соперничать с ним в силе не смог бы ни один мужчина: за прошедшее время он вырос еще больше, став крупнее и мощнее любого человека.
Времена года менялись по заведенному порядку: после жаркого лета приходила суровая зима, а Какус по-прежнему оставался одиноким скитальцем.
Однажды ранней весной он увидел летящего стервятника. Зелень земли и мягкое тепло воздуха пробудили в его сознании смутное воспоминание о начале его блужданий, и он неосознанно последовал за птицей.
В конце концов он оказался на тропе, рядом с рекой, и впереди, за большой излучиной, увидел холмы, за одним из которых поднималась к небу струйка дыма. Стервятник к тому времени уже пропал из виду, но Какус резонно рассудил, что тропа, по которой он следует, не хуже любой другой: все тропы ведут к деревням, а в деревнях всегда можно чем-нибудь поживиться. На сей раз он поведет себя умнее: затаится и будет выходить на промысел только ночью. Чем дольше не попадется он людям на глаза, тем дольше они не устроят на него облаву.
Неожиданно Какус ощутил приступ сильной тоски. Когда-то он сам жил в деревне. Бывало, его дразнили, но, хоть он и отличался от прочих, считали его своим. А потом прогнали. Почему? Потому что Земля и Небо потребовали этого, так сказала ему мать. До ухода из деревни он никогда никого не обижал, однако весь мир вдруг ополчился на него без всяких на то причин.
Тоска сменилась обидой, обида перешла в ярость.
Он свернул за поворот и неожиданно увидел перед собой на тропе девушку, направлявшуюся к реке с корзиной белья. У нее были золотистые волосы, а на шее, на простом кожаном шнурке, висел вспыхивавший на солнце золотой амулет. Увидев Какуса, девушка вскрикнула, выронила корзинку и убежала.
Сам не понимая, что за чувство его охватило, он погнался за ней, неистово выкрикивая свое имя. Бежал Какус недолго – как только показалась околица, он, не желая быть замеченным, соскочил с тропы в кусты. Оттуда были слышны испуганные крики девушки, а потом возгласы выбежавших ей навстречу селян. Они расспрашивали, что ее так напугало.
А действительно – что? Что она увидела, когда на глаза ей попался Какус? Не человека, как она сама, это точно. И не животное. Никакое животное, за исключением, может быть, змеи, не вызывает такого отвращения и страха. Она увидела чудовище. Только чудовище могло повергнуть ее в такой ужас и заставить так пронзительно кричать.
Получалось, что он стал чудовищем. Но как и когда это случилось? Какусу казалось, что когда-то он был человеком…
* * *
Поселение у реки зародилось как пункт меновой торговли. Со временем интенсивность движения по обеим тропам – тропе торговцев солью, что шла вдоль реки, и тропе торговцев кузнечными изделиями, что шла поперек, – очень возросла. Люди двигались через область Семи холмов почти непрерывным потоком, и это натолкнуло одного сообразительного потомка Лары и По на интересную мысль: а зачем торговцам солью тащиться к самым предгорьям, если они могут реализовать товар у Семи холмов? Через какое-то время эта мысль дошла и до всех других торговцев.
С того времени поселение у реки стало конечным пунктом многих торговых маршрутов и местом постоянного проживания людей, сделавших торговое посредничество и предоставление торговцам временного пристанища своим основным занятием. Это приносило неплохой доход, и поселение процветало.
В ту пору оно состояло из двух десятков хижин, стоявших у подножия крутого утеса. Между утесом и рекой расстилался широкий луг, предоставлявший достаточно места для торжища. Протекавший через этот луг ручей Спинон впадал в реку, которую люди назвали Тибр.