«Титаник» утонет Байяр Пьер
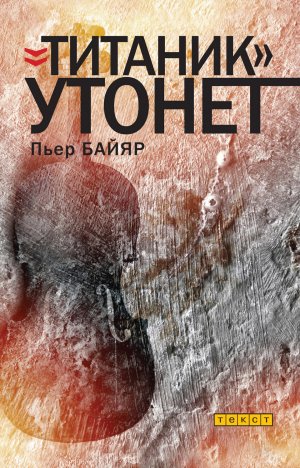
Преимущество второй гипотезы заключается в том, что она не исключает возможность предвидения, ибо в этом случае предполагается, что творческая личность имела возможность посетить разные миры, где изменения или события, которые она описывает, уже произошли во времени, будущем по отношению к времени их свершения в том мире, где эта личность живет.
Таким образом, различные теории, стремящиеся доказать существование предчувствия, несмотря на их слабую научную основу, не могут быть полностью сброшены со счетов. Они полезны, ибо дополняют набор возможных объяснений, и напоминают о том, что недоступное для разума сегодня, завтра может найти научное объяснение, которое представит нам окружающую нас реальность в совершенно ином свете.
Сами по себе эти еретические теории не дают основания принимать всерьез возможность предвидения. Но, как мы видели, предвидение также может опираться на обоснованные предсказания, которые иногда делают писатели, не забывая при этом о достоверном характере предчувствий. Поэтому настало время проанализировать реализацию в ряде областей практических последствий идеи о том, что будущее, возможно, отчасти прописано в той книге, что мы сейчас читаем.
Мог ли Роуланд, не обладая способностью ясновидения, предотвратить катастрофу? Во всяком случае, он мог с большим вниманием отнестись к явлению, которое Робертсон напрямую заимствовал из истории «Титаника».
Когда судьба выносит свое решение в последний момент, она всегда оставляет людям поле, свободное для маневра, и, если они достаточно мудры, они могут им воспользоваться. Нельзя утверждать, что айсберги появляются внезапно. Они посылают предупреждающий сигнал в виде понижения температуры, которое отметили пассажиры «Титаника» и о котором напоминает Робертсон.
Когда Роуланд стоит на мостике и всматривается в холодную ночь, к нему подходит первый помощник капитана и начинает расспрашивать его о теории течений, сформулированной Мори, теории, согласно которой расстояние до местоположение айсберга в тумане можно определить по скорости падения температуры.
Этим важным разговором Робертсон показывает, что «Титаник» мог бы избежать своей участи. И рассказывает, как кораблю дается последний шанс, ибо айсберг, который скоро разрежет его корму, заметит впередсмотрящий и будет отдан приказ повернуть корабль: «“Лед! – кричал впередсмотрящий. – Впереди лед! Айсберг. Прямо под носом”. Первый помощник побежал в середину судна, а остававшийся там капитан кинулся к телеграфу в машинном отделении, и тотчас рычаг был повернут. Но не прошло и пяти секунд, как нос “Титана” стал подниматься, и по обе стороны корабля сквозь туман можно было видеть ледяное поле, возвышавшееся на тридцать метров и преграждавшее ему дорогу»[Робертсон Д. Тщетность, или Гибель «Титана», op. cit.].
Не довольствуясь практически документальным изложением трагедии «Титаника», Робертсон помещает ее в виртуальные рамки набора возможностей, свидетельствующих, что в параллельных мирах, где не правит гибрис и где люди восприимчивы к знакам, которые природа посылает нам, желая нам помочь, события могли бы разворачиваться по-иному и катастрофы можно было бы избежать.
О том, каким был Стед на «Титанике», писали многие свидетели, и далеко не все их оценки совпадают. Похоже, что большую часть пути он пребывал в хорошем настроении, словно философски относился к тому, что жизнь его совпадет с теми событиями, о которых он писал.
Призвав на помощь все свое воображение, я представляю, как он встречался с разными людьми, и прежде всего с писателями, которые заняли места на борту, например, с автором детективных рассказов Жаком Фатреллом или с историком гражданской войны в США Арчибальдом Грасье. Но главное, я точно знаю, что в какую-то минуту он встретил личность, навсегда заворожившую меня: Вайолет Джессоп.
Эта молодая женщина с ангельским лицом работала на «Титанике» медсестрой. Но она прекрасно знала и другие суда компании «Уайт Стар Лайн», ибо находилась на борту «Олимпика», когда тот в сентябре 1911 года столкнулся с британским крейсером «Хоук»; это столкновение побудило ее разорвать контракт. Спасшись после крушения «Титаника», она поступила медсестрой на «Британик», ставший жертвой взрыва и потонувший в ноябре 1916-го; но и в той катастрофе она сумела выжить.
Можно ли считать фигуру Вайолет Джессоп олицетворением везения или же, напротив, невезения? И о чем можно говорить, прислонившись вместе с ней к леерным ограждениям, в то время как температура начинает падать? Говорить с женщиной, выжившей в катастрофе на море, а потом и еще в двух, в то время как сам являешься специалистом в области парапсихологии и знаешь о начавшемся событии, о котором свидетельствует скрежет по правому борту, так хорошо описанный Робертсоном, и грохот надводной части айсберга, разрывающего корму?
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Независимо от того, состоялась ли его встреча с Вайолет Джессоп или нет, Стед был одним из немногих пассажиров, собравшихся на палубе «Титаника», когда тот столкнулся с айсбергом, и таким образом имел возможность наблюдать катастрофу из первого ряда.
Судя по дошедшим до нас противоречивым сведениям, ему понадобилось некоторое время, чтобы понять, что, с одной стороны, положение очень серьезное, а с другой – что сейчас он переживает событие, о котором писал сам и к которому имел время подготовиться.
Несколько пассажиров, встретившихся с ним после столкновения, утверждают, что он находился в состоянии шока. Стюард посоветовал ему надеть спасательный жилет, но Стед, похоже, не понял зачем. Согласно другому свидетельству, схватив в руку железный прут, он бросился помогать спускать в шлюпки женщин и детей. Также его видели в курительном салоне первого класса, где он спокойно сидел и читал. Последние свидетели утверждали, что видели, как он цеплялся за плот[Bertrand Meheust. Histoires paranormales du “Titanic”, op. cit., p.67–68, Estelle Wilson Stead. My father. Personal and spiritual remininscences, op. cit., p. 343–344.].
Так как на «Титанике» несколько человек выпускали газету, они информировали о трагедии, так сказать, в реальном времени, и смерть Стеда, журналиста и главного редактора известного издания, естественно, встретила особый отклик у его собратьев по перу.
Когда публика узнала о пророчествах Стеда, его гибель у многих вызвала удивление. 23 апреля газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала посвященную ему статью, напомнив, что, как любой добросовестный журналист, Стед, заботясь о скорейшей доставке правдивой информации, во время предыдущей поездки в Соединенные Штаты сообщил о своей трагической кончине своему собеседнику доктору Эллису[Histoires paranormales du “Titanic”, op. cit., р.68.].
Чтобы рассказать о столкновении «Титана» с айсбергом, Робертсон воспользовался точными описаниями столкновения с айсбергом «Титаника»: «Семьдесят пять тысяч тонн – дедвейт, – мчащиеся сквозь туман со скоростью пятьдесят футов в секунду, устремились на айсберг. Если бы удар пришелся на отвесную стену, то сопротивление гнущихся листов и шпангоутов превзошло бы ударную силу. Вдавилась бы носовая часть, пассажиры бы пережили страшную встряску, и погиб бы только кто-нибудь из вахты в машинном отделении»[Histoires paranormales du “Titanic”, op. cit., р.68.].
Как подробно разъясняет автор, при столкновении обшивки правого борта со льдом тотчас образовались пробоины, и это оказалось для «Титаника» роковым: «Но “Титану” противостоял отлогий берег, образовавшийся, вероятно, после недавнего переворота айсберга, и резавшийся килем, словно лед стальным полозом буера. Навалившись всей своей тяжестью на правую часть днища, корабль все выше поднимался из моря вплоть до обнажения кормовых винтов, но, угодив правой стороной носа на небольшой спиральный подъем льда, он накренился, лишился равновесия и обрушился на правый бок»[Histoires paranormales du “Titanic”, op. cit., р.68.].
Сцены, в которых Робертсон описывает крушение «Титана», также напрямую заимствованы из описаний гибели «Титаника». Как и в случае «Титаника», вода хлынула в машинный зал судна, что повлекло за собой первые жертвы: «Болты крепления двадцати паровых котлов и трех машин тройного расширения, неспособные держать такие тяжести на отвесном настиле, сорвались, и эти огромные массы стали и железа, через переплетение лестниц, решетчатых люков и продольных переборок прорвали борт корабля даже в местах, подпертых сплошным крепким льдом. Наполнивший машинное и котельное отделения жгучий пар вызвал быструю, но мучительную смерть каждого из сотен людей, исполнявших свои обязанности в инженерных помещениях. Рев прекратится, останется лишь страшное жужжание и свист воздуха. Когда последние тоже внезапно стихли и в тишине раздались приглушенные, раскатистые взрывы – наверное, взрывались отсеки, – Роуланд понял, что жертвоприношение свершилось. И что непобедимый “Титан“, с почти всеми своими людьми, неспособными лазить по вертикальным полам и потолкам, погрузился в море»[Histoires paranormales du “Titanic”, op. cit., р.68.].
В сценах, знаменовавших крушение «Титаника», Робертсон с особым чувством описывал пассажиров, оказавшихся узниками собственных кают, «хор почти трех тысяч человеческих голосов, составленный из криков и призывов людей в запертых помещениях». Но если Роуланду удалось прыгнуть на айсберг, то у многих не было даже такого шанса, так как корабль накренился, и они не смогли добраться до верхних палуб: «Когда последние голоса тоже внезапно стихли и в тишине раздались приглушенные, раскатистые взрывы – наверное, взрывались отсеки, – Роуланд понял, что жертвоприношение свершилось. И что непобедимый “Титан”, с почти всеми своими людьми, неспособными лазить по вертикальным полам и потолкам, погрузился в море»[Histoires paranormales du “Titanic”, op. cit., р.68.].
Глава I. В поддержку литературной республики
Если управлять означает предвидеть и если доказано, что некоторые писатели по одной из причин, рассмотренных выше, обладают способностью описывать процессы и события, которые еще не произошли, безусловно, политики обязаны делать все, что позволит им с максимальной точностью истолковать предложенные им предсказания и сделать из них все возможные выводы.
Можно только удивляться, что, несмотря на всеобщее признание провидческого характера литературы, писатели никогда не принимают участия в формировании политики общества, а их произведения никогда не изучаются в министерствах с тем вниманием, которого они заслуживают, как изучают прогнозы экспертов и мониторинги организаций, проводящих опросы общественного мнения.
Г.Д.Уэллс снискал известность своими научно-фантастическими романами «Война миров»[ПС+], «Машина времени»[ПС-] и «Человек-невидимка»[ПС-], где он показывает, что может ожидать нас в будущем. Но провидческий дар писателя в полной мере раскрылся в его наименее известном произведении, а именно в романе «Освобожденный мир»[ПВО+], где он не только предупреждает о грозящих нам опасностях, но и предлагает конкретные политические решения, чтобы их избежать.
Написанное в 1913 году и опубликованное в начале 1914-го, это сочинение Уэллса представляет собой одновременно и роман и псевдоисторический очерк, развивающий несколько тезисов, которым наиболее яркая романная часть придает зримый облик и иллюстрирует их. Книга начинается очерком, где Уэллс кратко описывает эволюцию человечества и показывает, как исподволь человек приблизился к использованию силы, доныне еще неведомой, к энергии, рожденной из атома. О могуществе этой силы на первых страницах романа рассказывает профессор физики Руфус, который читает лекцию, посвященную радиоактивности: «И нам уже известно, что атом, который прежде мы считали мельчайшей частицей вещества, твердой и непроницаемой, неделимой и… безжизненной… да, безжизненной!.. на самом деле является резервуаром огромной энергии […] В этой бутылочке содержится около пинты окиси урана; другими словами, около четырнадцати унций элемента урана. Стоит она примерно двадцать шиллингов. И в этой же бутылочке, уважаемые дамы и господа, в атомах этой бутылочки дремлет по меньшей мере столько же энергии, сколько мы могли бы получить, сжигая сто шестьдесят тысяч тонн угля. Короче говоря, если бы я мог мгновенно высвободить сейчас вот тут всю эту энергию, от нас и от всего, что нас окружает, осталась бы пыль; если бы я мог обратить эту энергию на освещение нашего города, Эдинбург сиял бы огнями целую неделю»[Уэллс Г. Освобожденный мир. Пер. Т. Озерской. В кн.: Уэллс Г. Собр. соч. в 15-ти тт. М.: Правда, 1964. Т.4, с. 311.].
Однако профессор Руфус признает, что современная ему наука еще не настолько продвинулась вперед, чтобы «заставить эту горстку вещества ускорить отдачу заключенных в ней запасов энергии»[Уэллс Г. Освобожденный мир. Пер. Т. Озерской. В кн.: Уэллс Г. Собр. соч. в 15-ти тт. М.: Правда, 1964. Т.4, с. 311.]. Первым расщепить атом сумеет другой ученый, молодой Хольстен, присутствовавший на лекции профессора. И с 1950-х годов атомную энергию начинают использовать в промышленных целях, что стимулирует рост технического прогресса и одновременно социальные потрясения, возникающие в результате закрытия угольных шахт и сворачивания металлургической промышленности[Уэллс Г. Освобожденный мир. Пер. Т. Озерской. В кн.: Уэллс Г. Собр. соч. в 15-ти тт. М.: Правда, 1964. Т.4, с.324.].
Далее, отказавшись от формы очерка, Уэллс излагает нам биографию некоего Фредерика Барнета, опубликованную в 1970 году. Барнет с радостью встретил наступление эры атомной энергии и тех благ, которые она несла всем, но, когда началась мировая война и «державы Центральной Европы неожиданно начали военные действия против Союза Славянских стран, а Франция и Англия готовились прийти на помощь славянам»[Уэллс Г. Освобожденный мир. Пер. Т. Озерской. В кн.: Уэллс Г. Собр. соч. в 15-ти тт. М.: Правда, 1964. Т.4, с.345.], он мгновенно оказался в нищете.
Барнета призывают, он попадает в пехотный батальон и в его составе отправляется в Арденны на границе с Францией, которую англичанам поручено оборонять. Он уверен, что начинается классическая война, и не знает, что изобретение атомного оружия полностью изменило характер конфликта, в котором он участвует.
Затем в роли рассказчика выступает секретарша генерала Дюбуа, который из Парижа руководит военными операциями на восточном фронте. Восхищенная величественным спокойствием высших военных чинов, принимающих важные решения, она внезапно слышит раздавшийся в облаках удар грома: «Грохот обрушился на нее как удар. Скорчившись, она прижалась к каменной балюстраде и поглядела вверх. Она увидела три черные тени, метнувшиеся вниз в разрывах облаков, и позади двух из них – две огненно-красные спирали… Страх парализовал в ней все, кроме зрения, и несколько мгновений, казавшихся вечностью, она смотрела на эти красные смерчи, летящие на нее сверху. Мир вокруг куда-то исчез. На земле не существовало уже больше ничего, кроме пурпурно-алого, ослепительного сверкания и грохота – оглушающего, поглощающего все, не смолкающего ни на мгновение грохота. Все другие огни погасли, и в этом слепящем свете, оседая, рушились стены, взлетали в воздух колонны, кувыркались карнизы и кружились куски стекла»[Уэллс Г. Освобожденный мир. Пер. Т. Озерской. В кн.: Уэллс Г. Собр. соч. в 15-ти тт. М.: Правда, 1964. Т.4, с.354.].
Сама того не зная, молодая женщина присутствует при первом в истории атомном взрыве и разрушении Парижа, уничтоженного немцами: «Вокруг нее был странный мир, беззвучный мир разрушения, мир исковерканных, нагроможденных друг на друга предметов. И все было залито мерцающим пурпурно-алым светом, и только этот свет, единственный из всего, что ее окружало, казалось, был ей почему-то знаком. Потом совсем рядом она увидела Трокадеро, возвышавшийся над хаосом обломков, – здание изменилось, чего-то в нем не хватало, и тем не менее это, без сомнения, был Трокадеро: его силуэт отчетливо выделялся на фоне залитых багровым светом, крутящихся, рвущихся вверх клубов пара. И тут она вспомнила Париж, и Сену, и теплый вечер, и подернутое облаками небо, и сверкающий огнями великолепный зал Военного Руководства…»[Уэллс Г. Освобожденный мир. Пер. Т. Озерской. В кн.: Уэллс Г. Собр. соч. в 15-ти тт. М.: Правда, 1964. Т.4, с.355–356.]
Ответ союзников не заставляет себя ждать. Они посылают самолет, и тот, в свою очередь, бросает атомную бомбу на Берлин. Этот ответ становится началом мировой ядерной войны, во время которой Китай и Япония нападают на Россию и разрушают Москву, в то время как Соединенные Штаты ведут наступление на Японию. В 1959 году атомные бомбы были сброшены более чем на двести населенных пунктов, и скоро вся планета лежала в руинах.
Оставшаяся часть книги Уэллса посвящена борьбе с последствиями разрухи, воцарившейся в мире после первой атомной войны. Главным плачевным последствием стало масштабное заражение радиацией, сделавшей большую часть земли непригодной для проживания. Уэллс четко указал, чем опустошения, произведенные атомным оружием, отличаются от разрушений вследствие применения классического вооружения, используемого в прошлых войнах. Особенность атомного оружия заключается не только в силе взрыва, но и в длительном смертоносном действии радиации: «До сих пор все ракеты и снаряды, какие только знала история войны, создавали, в сущности, один мгновенный взрыв; они взрывались, и в тот же миг все было кончено, и если в сфере действия их взрыва и летящих осколков не было ничего живого и никаких подлежащих разрушению ценностей, они оказывались потраченными зря»[Уэллс Г. Освобожденный мир. Пер. Т. Озерской. В кн.: Уэллс Г. Собр. соч. в 15-ти тт. М.: Правда, 1964. Т.4, с.363.].
Совершенно иным действием обладают атомные бомбы; причиненные ими разрушения не ограничены во времени, их действие продолжается еще долго после взрыва: «Раз начавшись, процесс распада выделял гигантское количество энергии, и остановить его было невозможно […] Как все радиоактивные вещества, каролиний (несмотря на то что каждые семнадцать дней его сила слабеет вдвое и, следовательно, неуклонно иссякает, приближаясь к бесконечно малым величинам) никогда не истощает своей энергии до конца, и по сей день поля сражений и области воздушных бомбардировок той сумасшедшей эпохи в истории человечества содержат в себе радиоактивные вещества и являются, таким образом, центрами вредных излучений…»[Уэллс Г. Освобожденный мир. Пер. Т. Озерской. В кн.: Уэллс Г. Собр. соч. в 15-ти тт. М.: Правда, 1964. Т.4, с.364.]
Разные мировые державы, чьи страны пострадали от применения ядерного оружия, под влиянием посла Франции в Вашингтоне решают организовать международную конференцию в городе Бриссаго, на берегу Лаго-Маджоре, чтобы запретить атомное оружие и заложить основы мирового правительства, или Совета, задачей которого становится предотвращение нового конфликта.
Только один монарх, король Балкан, при поддержке своего премьер-министра отказывается подчиниться новым международным правилам и втайне решает сохранить атомные бомбы. Но представителям вооруженных сил нового мирового правительства удается сконцентрировать эти бомбы в одном месте и уничтожить их; во время операции по уничтожению атомного оружия балканский король погибает.
Можно бесконечно перечислять все предвидения, содержащиеся в романе Уэллса, начиная с открытия, поставленного в центр сюжета, а именно сказочной энергии, содержащейся в материи, и способности человека создать на ее основе ужасное оружие. А ведь в 1913 году никто даже не предполагал возможность создания оружия массового поражения на основе использования энергии атома.
Однако в книге есть не только предсказания научного характера. За год до начала первой в истории мировой войны роман ясно предупредил о будущем конфликте, чем Уэллс не мог не гордиться: «Союз империй Центральной Европы, начало кампании в Нидерландах, и отправка британского экспедиционного корпуса, все эти предвидения подтвердились через полгода после выхода книги»[Herbert Georges Wells. La dstruction libratrice (The World set free). Bruxelles, Grama, 1995 (1914), p. 12.].
Но и это еще не все. Мысль о мировом правительстве впервые обрела зримые контуры на следующий день после завершения Первой мировой войны: была создана Лига Наций; во второй раз после окончания второго мирового конфликта была создана ООН. Тогда же разработали и постепенно начали осуществлять программу поэтапного сокращения ядерного оружия.
В своем описании будущего мирового сообщества Уэллс делает еще один шаг вперед, утверждая, что в конце концов английский язык возобладает и станет универсальным средством общения между людьми: «Для того чтобы проиллюстрировать, каким образом кардинальные проблемы вынуждали Совет в Бриссаго браться за их разрешение, достаточно будет сказать, что прошел почти год, прежде чем Совет, и то с большой неохотой, приступил к созданию единого общего языка для всех народов мира, необходимость которого была очевидна. […] Он хотел как можно меньше усложнять простых, обремененных заботами людей, а широкое распространение английского языка во всем мире с самого начала подкупило их в его пользу. Исключительная простота английской грамматики также говорила сама за себя»[Уэллс Г. Освобожденный мир. Оp. cit., с. 445.].
И наконец, к целому ряду осуществившихся предсказаний можно добавить то, которое Жак Ван Эрп подчеркнул в своем послесловии к роману: «И несколько слов о последнем пророчестве: в 1958 году Францией правит генерал Дюбуа, тот, кто хотел создать моторизованную артиллерию и прекратить использовать в армии лошадиную тягу, Дюбуа, величайший ум Западной Европы, благодаря которому Франция вновь обрела былое могущество. Уэллс Нострадамус …»[Herbert Georges Wells. La dstruction libratrice (The World set free). Bruxelles, Grama, 1995 (1914), (postface), р.276.]
Уэллса – зачастую бездумно – сравнивают с предсказателем, но это не совсем справедливо, ибо характер предвидения в его романе вполне можно оспорить со многих точек зрения, а он сам, комментируя свое собственное произведение, скромно преуменьшал точность своих прогнозов: «Недостатков у повествования значительно больше, чем сбывшихся прогнозов. Определенную целесообразность может иметь исключительно тезис, согласно которому развитие научных знаний подрывает существование суверенных и независимых государств и империй, и попытка спасти старую систему обернется для человечества целым рядом катастроф, которые, без сомнения, завершатся полным уничтожением человеческого рода»[Herbert Georges Wells. La dstruction libratrice (The World set free). Bruxelles, Grama, 1995 (1914), (postface), р. 12.].
Прежде всего следует отметить, что, если Уэллс действительно предвидел возможность использования атомной энергии, в том числе и в военном деле, его предсказание всеобщего ядерного конфликта не сбылось, и век спустя после выхода его романа планета по-прежнему в целости. Следовательно, основной прогноз книги оказался неверным.
Но, как мы уже отмечали в связи с другими примерами, этот довод не имеет никакого значения, разве что дает возможность придумать конец истории. Ничто не говорит о том, что отложенные прогнозы из романа Уэллса никогда не сбудутся. Если некоторые из его предсказаний, такие, как, например, открытие могущественной силы атома, очень быстро обрели зримую форму, то другие, такие, как создание мирового правительства или доминирование английского языка, реализовались немного позднее, а потому сегодня, не зная, каков будет конец истории, было бы неосмотрительно заявлять, что другие предсказания Уэллса оказались ошибочными.
Роман этот интересен нам прежде всего потому, что, во-первых, не все его предсказания осуществились, а во-вторых, своими многочисленными уже свершившимися пророчествами он побуждает нас отнести вопрос, часто возникающий в связи с провидческим характером литературных произведений, не в прошлое, а в будущее. Иначе говоря, вместо того чтобы спрашивать, ошибся или нет Уэллс в своих прогнозах, стоит задаться вопросом, какие спящие пока прогнозы содержатся в его книгах и какие следует принять меры защиты от тех катаклизмов, которые он описывает.
К отложенным событиям можно отнести главное предвидение романа: развязывание мировой атомной войны, которая все еще угрожает нам, ибо возможность ядерной катастрофы по-прежнему существует, а поэтому окончательное прочтение романа, когда будут раскрыты все его посылы, еще впереди.
Итак, Уэллс приглашает нас к принципиально новому подходу к чтению книг, и в первую очередь тех, которые уже доказали свой провидческий потенциал. Чтение, при котором читатель не просто отдает дань таланту писателя оживлять прошлое и анализировать день настоящий, не только проявляет интерес к тому, что писатель рассказывает нам о будущем, а делает из этого концептуальные выводы, связывая их с состоянием дел в обществе.
Но роман Уэллса можно прочесть еще и под другим углом, сделав упор на выявление возможностей сотрудничества писателя с обществом, и на возможные политические последствия такого сотрудничества. Для этого надо всего лишь предположить, что некоторые из объявленных в романе событий обладают временными наслоениями.
Самым поразительным примером является сделанное Уэллсом в 1913 году сообщение о будущей мировой войне; начало этой войны он отнес не на ближайшие годы, а на 1956 год[ПН++]. Сознательно допустив ошибку в дате, романист объясняет это следующим образом: «“Освобожденный мир” был написан в предгрозовой атмосфере Первой мировой войны. Каждый мыслящий человек предчувствовал скорое наступление катастрофы, но не знал, как этому помешать; впрочем, в первые месяцы 1914-го только очень немногие отдавали себе отчет в неизбежности столкновения. Читатель, без сомнения, сочтет курьезом, увидев, что в этой книге война отодвинута на 1956 год. Можно, конечно, задаться вопросом почему, так как сегодня подобное несоответствие кажется совершенно невероятным. Автор должен признаться, что к роли пророка он всегда старался относиться философски»[H.G.Wells. La dstruction libratrice, op. cit., р.11.].
Объясняя причину временного расхождения, Уэллс напоминает, что считал необходимым предоставить ученым время ознакомиться с его произведением, чтобы они открыли для себя возможности атома: «Полагаю, желание избежать привычного недовольства со стороны читателя-скептика, равно как и, без сомнения, гораздо более достойная порицания склонность к умолчанию, в определенной степени ответственны за то, что сроки некоторых важные событий были отодвинуты; но, полагаю, если говорить об Освобожденном мире”, то существовала и другая причина перенести сроки Первой мировой войны, и состояла она в том, чтобы дать возможность химику открыть атомную энергию. 1956 год – а в нашем случае почему бы и не 2056? – не показался нам излишне отсроченной датой для столь великой революции человеческих возможностей»[H.G.Wells. La dstruction libratrice, op. cit., р.11.].
Однако, если предположить, что Уэллс отнес ядерный конфликт на 1956 год, исходя из соображений логики повествования, можно задаться вопросом, не обладают ли в принципе феномены литературного предвидения особыми признаками временного наслоения, затрудняющими их немедленное восприятие.
Первое наслоение обусловлено инверсией кривой времени, которую мы встречаем во всех примерах, приведенных в настоящей книге. Когда Уэллс писал свой роман, еще никто не знал ни о разрушительной силе атома, ни о времени начала первого всемирного конфликта. Это первое нарушение временного порядка находится в самом центре феномена предвидения.
К первому нарушению добавляется второе, которое можно назвать наслоением событийного порядка, оно обусловлено тем, что описываемые события производят впечатление наложенных друг на друга, словно их подвергли механическому уплотнению. Так, мировой конфликт, описанный Уэллсом, воспринимается как наложение Первой мировой войны на будущий ядерный конфликт, словно бессознательное писателя одновременно уловило различные события и объединило их в единое целое, пласты которого приходится разделить, чтобы понять всю их провидческую силу.
Двойная перекрестная игра с темпоральностью требует особенно внимательного чтения текстов, чтобы хаотично не наслаивать видения Уэллса на то или иное конкретное историческое событие, а потому рассматривает их с помощью особой оптической системы, позволяющей трактовать феномены грядущего в зависимости от сложности способов их преломления, когда они являются одновременно и объявленными, и искаженными.
Вопрос временного наслоения приводит нас в самое сердце сюжета этой книги. Ибо от толкования этого наслоения зависит роль, которую мы отведем предвидениям писателей при формировании государственной политики.
Опираясь на приведенные примеры, вряд ли можно отрицать, что писатели обладают даром – разумеется, не претендуя на уникальность, – выявлять тенденции, которые я называю линиями разлома и расположенные на этих линиях точки разрыва. Такая схема, навеянная исследованиями сейсмических явлений, не предполагает ни обращения к трансцендентным видам знаний, ни к модификации временности, ибо она создана исключительно с целью добиться признания способности писателей, как и других прозорливых людей, наблюдать окружающую действительность и из этих наблюдений делать выводы о том, что произойдет в будущем.
Но, говоря о предвидении, мы не можем оставить в стороне и его другую, более загадочную грань, именуемую предчувствием. В этом случае речь идет не о том, способны ли писатели, вглядываясь в день сегодняшний, аргументированно предсказывать основные тенденции будущего, а о том, могут ли они описать то событие, при котором они, сами того не сознавая, присутствовали в будущем.
Можно ли, не покидая своего физического облика и не имея на то никаких рациональных объяснений, стать свидетелем события, которое еще не произошло? Во всяком случае, Пруст, который развивает такого рода теорию в своем «романе-потоке» «В поисках утраченного времени», похоже, считал именно так, когда описывал гибель Альбертины. После смерти Альбертины в результате падения с лошади рассказчик называет целый ряд признаков, посредством которых он заранее предчувствовал приближение несчастья. И формулирует мысль о том, что важные события не могут найти необходимого им места в тот слишком короткий срок, который им отведен: «Я знаю, тогда я произнес слово “смерть”, словно Альбертина собралась умирать. Создается впечатление, что события зачастую гораздо объемнее, нежели тот момент, когда они происходят, и они просто не вмещаются в него целиком. Разумеется, они выплескиваются в будущее посредством памяти, которую мы сохраним о них, но им также требуется место во времени, им предшествующем. Разумеется, скажут, что мы не увидим их такими, какими они будут, но разве они не претерпевают изменения также и в воспоминаниях?»[A la recherche du temps perdu, tome III, Gallimard, “Pliade”, 1993, p. 902.]
Развивая эту мысль Пруста, мы порываем с традиционным представлением, согласно которому в романе «В поисках утраченного времени» главной темой является воскрешение в нас событий и ощущений прошлого. Роман доказывает, что темпоральность – явление крайне сложное, где смешиваются и вступают в противоречие друг с другом фрагменты множества времен, многие из которых заключают в себе события будущие.
С этой точки зрения сочинения писателей отмечены не только наличием линий разлома и точек прорыва, определить которые можно при внимательном подходе к текстам с позиций рационализма, а также благодаря присутствию в них дискретных элементов, взятых из будущего и рассеянных в них словно искры; эти элементы можно было бы назвать временными проблесками. Несводимые только к предсказаниям, сделанным на основании рационального подхода, эти фрагменты будущего подсознательно присутствуют в сочинениях и, скорее всего, лежат в основе целого ряда необъяснимых предчувствий.
Итак, все говорит о необходимости привлечь писателей – какими бы ни были их предсказания, исключительно рациональными или же четкими видениями будущего, которые посещают их в минуты наивысшего прозрения, – к участию в делах общества и заложить основы литературного правления Городом, который, порвав с Платоновым запретом, наконец убедит власть считаться с литературой и ее прогнозами.
Глава II. В поддержку контроля над наукой
Примерно за двадцать один год до катастрофы кинорежиссер Акира Куросава решает предостеречь население и правительство Японии против рисков использования атомной энергии, и в частности против опасности, которую, по его мнению, представляет атомная электростанция Фукусима.
Все знают, во что обошлось Японии нежелание прислушаться к предупреждениям режиссера. И можно лишь сожалеть, что ученые, равно как и политики, не принимают во внимание выводы, которые творческие личности делают на основе собственных изысканий, и прежде всего, когда они отчетливо и аргументированно предостерегают против грядущих опасностей.
Предупреждение о рисках, которыми чревато использование атомной энергии, ясно сформулировано в шестой короткометражке под названием «Гора Фудзи в красном»[ПВ+], входящей в состав фильма «Сны», снятом Куросавой в 1989 году и состоящем из восьми частей.
В короткометражке всего два эпизода. В первом, где доминирует красный тон, показан молодой человек, пытающийся проложить себе дорогу среди охваченной паникой толпы. Камера раскрывает причину паники, переводя объектив на высящуюся вдали гору Фудзи откуда вырываются густые клубы дыма, и кажется, что склоны ее вот-вот дадут трещину.
Из толпы на первый план выступают трое: молодой человек, находящийся, судя по всему, в центре событий, а потому его можно считать главным действующим лицом; женщина с двумя малолетними детьми, один из которых сидит у нее за спиной, и, наконец, пожилой мужчина в костюме-тройке; они что-то оживленно обсуждают.
Из их разговора мы узнаем, что началось извержение Фудзи, посеявшее панику в толпе; но еще большей, хотя и не столь явной опасностью является для населения пожар на атомной электростанции, вызванный извержением, ибо шесть реакторов станции взрываются друг за другом.
Пожилой человек жалуется собеседникам, что Япония слишком тесная страна и в ней нет места надежде. Женщина возражает, говоря, что хотя бегство и кажется невозможным, тем не менее они обязаны использовать для спасения любой шанс. На протяжении всего первого эпизода кадры охваченной паникой толпы чередуются с кадрами извержения Фудзи.
Действие второго эпизода явно происходит спустя некоторое время. В центре его прежние три персонажа, одиноко сидящие на бергу моря. Толпа исчезла, и молодой человек размышляет, что могло с ней статься. Указывая на океан, пожилой человек отвечает, что все, кто бежал, теперь находятся на дне.
Пока двое товарищей по несчастью смотрят на море и завидуют дельфинам, умеющим плавать, пожилой мужчина объясняет, что они тоже подвергнутся заражению радиацией. И, указывая на приближающееся к ним разноцветное облако, перечисляет его химический состав, а также те разрушения, которые радиоактивные частицы произведут в их организмах: «Красный – это плутоний 239, две миллионных доли грамма которого вызывают раковое заболевание, желтый – это стронций 90, он разрушает костный мозг и вызывает лейкемию, фиолетовый – цезий 137. Накапливаясь в половых железах, он вызывает генетические мутации. Неизвестно, каким родится будущий ребенок. Человеческая глупость бесконечна. Радиоактивность была невидима, с помощью технических методов ей дали цвет, чтобы воочию лицезреть содержащуюся в ней угрозу. Умереть, не зная от чего, или же зная причину смерти, какая тонкая разница!»
Разъяснив, какую опасность несет с собой радиоактивное заражение, пожилой мужчина машет рукой своим спутникам и направляется к морю с явным намерением броситься в воду. Молодой человек пытается его удержать, аргументируя тем, что предсказанная смерть наступит не сразу, но его спутник отвечает, что не желает умирать медленной смертью.
Вмешиваясь в разговор, женщина заявляет, что тем, кто прожил долгую жизнь, легко так говорить, но, когда умирают дети, у которых такого шанса не было, это несправедливо. «Ждать смерти от радиации – это не жизнь», – возражает пожилой мужчина, на что женщина ему отвечает: «Они говорили: ядерная энергия – это надежно, риск исходит только от человеческих ошибок. Ядерная энергетика безопасна. Ошибок быть не может. Будьте спокойны. Мерзкие лжецы! Если их не вздернут высоко и быстро, я сама это сделаю!»
Пожилой мужчина замечает, что в любом случае радиоактивность возьмет на себя труд убить их. Затем, поклонившись женщине, он просит у нее прощения, говоря, что он «один из тех лжецов», необдуманные действия которых она только что раскритиковала. И, воспользовавшись моментом, когда спутники не обращают на него внимания, он погружается в море.
Последний монтажный кадр фильма показывает нам молодого человека, который, отчаянно размахивая руками, словно крыльями мельницы, пытается разогнать красный туман, заряженный частицами; туман постепенно заполняет экран, темнеет и в конце концов полностью скрывает персонажей от глаз зрителей.
Те, кто знает о катастрофе Фукусимы, провидческий характер эпизода об извержении Фудзи вряд ли будут оспаривать.
В то время, когда снимался фильм, японские атомные станции с точки зрения безопасности считались образцовыми. Следовательно, в стране, которая в конце Второй мировой войны впервые столкнулась с ядерной катастрофой, а потому преумножала меры предосторожности, чтобы однажды вновь не случилось столь масштабной трагедии, ничто не давало оснований для мрачных предсказаний.
Предупреждение кинорежиссера поистине примечательно, особенно если вспомнить слова инженера о шести реакторах атомной станции («Есть шесть реакторов. Они загораются один за другим»). Ведь Фукусима является единственной атомной электростанцией в Японии, где стоит шесть реакторов, так что данная цифра совершенно недвусмысленно указывает японцам именно на эту станцию.
Еще одну существенную деталь сообщает женщина, вспоминая, что до сих пор атомную электростанцию представляли как совершенно безопасную, утверждая, что единственный риск связан с человеческим фактором. Показывая, что катаклизм может произойти вследствие природной катастрофы, явно не предусмотренной учеными, фильм без обиняков указывает на дефекты в японской системе защиты от радиации.
С тех пор как начали описывать катастрофы, причиной которых стала ядерная энергия, описания ущерба, нанесенного радиоактивностью, в сущности, оригинальностью не отличаются. Еще более заурядным – и тут довольно трудно не вспомнить о Фукусиме – является напоминание о длительном отравлении морской воды и о последствиях, которые скажутся на животном мире.
Слова испытывающего чувство вины инженера и обвинения женщины свидетельствуют о том, что в эпизоде речь идет не о простом предчувствии, а о чем-то большем, на порядок выше, а именно о предсказании. Фильм однозначно указывает на риск, которому подвергается Япония, называет возможное место бедствия и выявляет ответственных за будущую катастрофу.
Прочтение фильма Куросавы в терминах предвидения может, разумеется, вызвать различные критические отклики. И прежде всего нас можно упрекнуть в том, что мы сосредоточили весь интерес только на одном из восьми его эпизодов, оставив остальные семь в стороне. В этих семи эпизодах, посвященных на первый взгляд совершенно разным темам, также рассказываются сны, увиденные режиссером, выразителем мыслей которого на экране каждый раз становится главный персонаж повествования.
Первый фильм («Солнечный свет сквозь дождь») рассказывает о том, как маленький мальчик, нарушая запрет, присутствует на свадьбе лис, традиционно происходящей под дождем. Во втором фильме («Персиковый сад») еще один мальчик грустит о вырубленном саде, и души деревьев, в благодарность за его сострадание, дают ему возможность в последний раз полюбоваться исчезнувшим садом. Третий фильм (Снежная буря») рассказывает о четырех альпинистах, потерявшихся в горах во время бурана и спасенных феей снегов. В четвертом («Туннель») демобилизованный офицер при выходе из туннеля встречает призрак сначала солдата, а затем и целого взвода солдат, которыми он командовал, когда был капитаном. Оставшись единственным выжившим после боя, он просит у солдат прощения.
В пятом фильме («Вороны») герой, видящий сны, посещает выставку Ван Гога и проникает в его полотно под названием «Мост Ланглуа», а затем совершает путешествие по местам и сюжетам картин художника, и в конце концов встречается с ним самим, и тот излагает ему свои взгляды на живопись и делится своими творческими трудностями. В седьмом фильме («Плачущий демон»), который следует за шестым, посвященном Фукусиме («Гора Фудзи в красном»), рассказчик оказывается на планете, искореженной атомным катаклизмом. В ходе диалога тамошний монстр, наполовину человек, наполовину демон, объясняет ему, что из-за радиации жизнь на земле стала ужасной, а человеческие существа докатились до людоедства. В последнем фильме («Деревня водяных мельниц») сновидец встречает благостного старца, который критикует прогресс и призывает вернуться к природе, а потом отправляется на веселые похороны.
Как видно, между новеллой о Фукусиме и остальными новеллами нет резкой границы, ибо во всех заложено идентичное послание, призывающее к защите окружающей среды. Перестав бережно относиться к природе, человек стремительно двигается к собственной гибели, и эта тема, непосредственно или символически, доминирует во всех сюжетах. В этом смысле обе части «Горы Фудзи в красном» и следующий фильм «Плачущий демон» рассказывают о конце эволюции, к которому, по мнению Куросавы, человечество неизбежно толкает жажда знаний («Солнечный свет сквозь дождь») и равнодушное отношение как к природе («Персиковый сад»), так и к самой жизни («Туннель»). Напротив, художник Ван Гог («Вороны»), сливающийся с пейзажами, которые он стремится перенести на холст, и благостный старец («Деревня водяных мельниц») воплощают собой человечество, примирившееся с окружающей его средой.
Эпизод о Фукусиме является всего лишь наиболее яркой частью – особенно если объединить его со следующей короткометражкой о демонах, – целостного ансамбля фильма, где обозначены риски прогресса и содержится призыв возвращения к природе. Таким образом, даже если подлежащие символическому прочтению эпизоды, составляющие фильм – например, свадьбу лис или явление феи снегов, – не связаны напрямую с конкретными событиями грядущего, картина в целом носит провидческий характер.
Такой же ответ можно дать и на второе критическое замечание, которое вправе нам сделать и которое указывает на различия между фильмом Куросавы и реальной трагедией Фукусимы.
Следует отметить, что если фильм Куросавы описывает ядерную катастрофу, случившуюся в Японии впервые после войны, и эта катастрофа является следствием природного катаклизма, так как речь идет об извержении вулкана, то причиной катастрофы на Фукусиме явились землетрясение и цунами. А что делать с извержением, которое не произошло?
Во-первых, ничто не говорит о том, что мы расшифровали все послания, содержащиеся в фильме Куросавы. Равно как и о том, что давно уснувший вулкан Фудзи больше никогда не пробудится, а сбывшиеся пророчества фильма должны напомнить об осторожности тем, кто проживает вблизи вулкана. Ибо фильм охватил одновременно, в едином наслоении событий, целый ряд драматических эпизодов, распределенных по разным временным срезам, и в то же время остался открытым для последующих прочтений.
Но главное, ответ на вопрос, почему в фильме все происходит не совсем так, как в реальности, отчасти содержится в определении, данном Куросавой своей картине. Восемь короткометражек, объединенных названием «сон», не претендуют ни на показ реального мира, ни даже на предсказание того, что в этом мире непременно случится. Это всего лишь провидческие сны, иначе говоря, элементы, которые предстоит воссоздать и истолковать.
Говоря здесь о снах, мы будем понимать их иначе, чем понимает их Фрейд, и прежде всего толковать их не с точки зрения прошлого, а с позиций будущего. Сны Куросавы имеют источником не случившиеся – или не только случившиеся – события, но и события будущего, одни из которых – как катастрофа на Фукусиме – уже произошли, а другие – как извержение вулкана Фудзи[ПС+] или возврат к каннибализму[ПС-] – еще пребывают в латентном состоянии. Таким образом, речь идет о своеобразном возвращении к пониманию сна в античном мире, где сон рассматривали как предзнаменование, посланное богами.
Отличие от Фрейда заключается также и в трактовке содержания сна, которое, как известно, согласно Фрейду, чаще всего обусловлено причинами сексуального характера. Сны, обсуждаемые здесь, необязательно связаны с сексуальностью; предвосхищая драматические события, они являются порождением грядущих катаклизмов, результаты которых дают о себе знать заранее. В этом смысле они ближе тем тревожным снам, которые Фрейд отделял от снов эротического содержания и которые отмечены признаками повторного возвращения и невозможностью определенного структурирования, в отличие от затейливой оригинальности, присущей эротическим снам.
И наконец, эти сны порождены логикой, во многом отличной от логики Фрейда. Разумеется, в ней можно найти основополагающие элементы фрейдистской логики сна, как, например, перемещение (место катастрофы перемещается с моря на гору), конденсацию (фильм о горе Фудзи объединяет две грядущие катастрофы) и символизм (пытаться подсмотреть за свадьбой лис расшифровывается как попытка вырвать у природы ее секреты).
Но можно также представить себе, что раз мы трактуем образы не реальных, а потенциальных событий, которые могли бы произойти, в игру вступают иные механизмы, связанные со сновидениями. Феномены наслоения становятся более понятными, когда в основе сна лежит не событие, а рассмотрение возможностей, когда сон не только формирует, но и исследует, стремится продемонстрировать множество потенциальных возможностей, чтобы проанализировать вероятность их реализации.
Помимо проблемы, связанной со сном, фильм Куросавы затрагивает еще один вопрос, на этот раз касающийся места, которое в предвидении занимает визуальный образ. До сих пор мы рассматривали провидческие способности литературы, однако пример Куросавы ясно показывает, что помимо писателей все творческие личности – особенно те, чье искусство связано с созданием зрительных образов, – вполне могут испытывать влияние представлений, поступивших из будущего.
Наиболее подходящий термин для характеристики того типа картин, с которым приходится сталкиваться творческим личностям, – их можно было бы назвать картинами грядущего, – это, без сомнения, пред-видение. Эти картины, проникающие в область сознания, а особенно бессознательного, не обладают той четкостью, которой отличаются образы из сна, которые мы, пробудившись, все еще помним. Они скорее напоминают картины тех снов, понять смысл которых можно, только произведя поэтапный логический анализ, ибо эти картины содержат косвенные следы влияния всех сообщений, которые в них содержатся.
В самом деле, как мы уже видели на примере Уэллса, картины из будущего принадлежат к нескольким временным слоям одновременно, ибо, не довольствуясь одним лишь описанием фрагментов истории, которые еще только ожидают своего свершения, они замысловатым образом соединяют события из нескольких разрозненных временных периодов, по-своему комбинируя их для создания смешанных изображений.
Если писатели имеют возможность описать картины будущего, отыскав для них эквиваленты в речи, то весьма вероятно, что художники и кинематографисты обладают привилегированным, скорее даже прямым доступом к этим картинам, ибо, чтобы запечатлеть их, им нет необходимости продираться сквозь дебри слов; поэтому особенно важно уделять внимание поиску визуального присутствия временных проблесков далекого будущего в произведениях живописи.
Исследование разрушений, которые может причинить развитие науки и техносферы и, как следствие, пренебрежение законами природы, свидетельствует, что роль писателей и художников вполне может оказаться определяющей, а потому нельзя препятствовать вторжению творческих личностей в сферу реальной политики.
Если бы японские ученые, не ограничившись экспертизами своих коллег, наняли бы людей творческих, открыли бы им свои лаборатории и прислушались бы к их мнению, одной из наиболее крупных промышленных катастроф в истории, возможно, удалось бы избежать.
Глава III. В поддержку новой стилистики
Первая мировая война оставила неизгладимый след в душе Людвига Мейднера, и он так никогда и не сумел обрести покой. Одержимый зрелищем мировой бойни, которое каждую ночь возвращалось терзать его в снах, он постоянно изображал его на своих картинах.
Впечатление, полученное художником, было настолько велико, что он не только постоянно писал картины войны, но и все предвоенные годы пытался составить представление о ней, искал ту совершенную эстетическую форму, которая иногда позволяет художникам если не найти успокоение, то, по крайней мере, преодолеть последствия встречи с невозможным.
Некоторые из наиболее страшных картин Мейднера изображают артиллерийские обстрелы городов. И хотя ужасы, порожденные применением артиллерии, постепенно вытеснялись из общей памяти рассказами и картинами из жизни солдат на линии фронта, они вселили в художника такой страх, что за несколько лет до начала артобстрелов он сделал их сквозной темой целой серии своих картин.
К самым характерным полотнам художника принадлежит картина из цикла «Апокалиптический пейзаж» (Государственная галерея Штутгарта, рис. 1). На холсте, где варьируются различные оттенки желтого и черного, где в верхней части издалека проглядывает геометрической формы солнце с красным контуром, изображена массивная бомбардировка, представленная широкими вертикальными желтыми полосами, врезающимися в землю и в группу одиночных домов с изломанными стенами, которые, кажется, вот-вот рухнут.
Рис. 1
Внизу картины видна изборожденная снарядами и усеянная обломками деревьев земля. На первом плане, внизу справа, высится засохшее сломанное дерево, верхушка которого, похожая на растопыренные пальцы, напоминает человеческую руку, протянутую к небу, руку, которая, вырвавшись из разоренной земли, в отчаянии взывает о помощи.
Еще одно полотно из этого цикла (Коллекция Марвин и Дженет Фишман, художественный музей Милуоки, рис. 2) также изображает город во время артиллерийского обстрела. О бомбардировке напоминают слепящие полосы в глубине справа, за горой, превратившейся в действующий вулкан. В центральной части картины, сформированной текущей справа рекой, изображен разрушенный город, где словно под действием подземных толчков, растрескалась земля, а кренящиеся влево дома, словно изогнулись от нанесенных по ним ударов.
Рис. 2
На первом плане можно различить искореженные останки людей. В центре, на земле видна нечетко очерченная фигура, напоминающая персонаж театра теней, и невозможно понять, идет ли речь о трупе или о распластавшемся по земле человеке. Ближе к зрителю, слева внизу, видны несколько испуганных человеческих лиц. Лицо усатого мужчины – похожего на самого художника – прорисовано достаточно четко, в то время как другие лица настолько сливаются друг с другом, что невозможно понять, сколько человек изображено.
Но Мейднер рисует не только разрушение городов; на других полотнах[ПВ+] он, как и многие современные ему художники, потрясенные ужасами войны, уделяет пристальное внимание изображению жизни солдат на линии фронта.
Это, например, полотно «Бездомные» (Художественный музей Фолькванг в Эссене, рис. 3). Картина, написанная в сине-черных тонах, словно делится на две части горизонтальной линией. На заднем плане видны руины сгоревшего дома, над которыми еще вьется дымок. На первом плане лежат три человека. Центральный персонаж, подперев рукой голову, похоже, погружен в собственные мысли или объят горем. Справа видна спина его товарища, который сидит, обхватив колени. Трудно определить, жив ли третий персонаж, изображенный в левой стороне картины. Изрезанная глубокими трещинами земля, на которой расположились все трое, напоминает почву после землетрясения.
Рис. 3
Еще одна картина из цикла «Апокалиптический пейзаж» (Национальная галерея, Фонд прусского культурного наследия, Берлин, рис. 4), где также чередуются синие и желтые цвета, поразительно напоминает гибельно-катастрофическое видение. На ней изображен пейзаж после обстрела, где вдали просматриваются разрушенные дома, кренящиеся в сторону траншеи. Небо на заднем плане напоминает море, которое вскоре затопит все пространство. На переднем плане слева раскинувшийся в непристойной позе обнаженный труп скончавшегося от пыток мужчины.
Рис. 4
На рисунке «Ужасы войны» (Музей скульптуры Гласкастен, Марль, рис. 5), где изображены три обнаженные мужские фигуры, сидящие перед окопом, стилизация доведена до крайней своей степени. Тела всех троих изуродованы; тот, кто сидит справа, похоже, перенес трепанацию черепа, а самым пострадавшим является центральный персонаж, потерявший одновременно левые ногу и руку; он молитвенно обратил лицо к небу. Несколько кольев, воткнутых за спинами мужчин, обозначают местонахождение траншеи, откуда им удалось выбраться. Пустынный пейзаж на заднем плане картины дымится после бомбардировки. Создается впечатление, что настал конец света.
Рис. 5
Ибо Мейднеру мало представить страх, преследующий солдат на фронте. Его беспощадные пейзажи свидетельствуют о бесчеловечности, которой отличается новый способ ведения войны. Гротескные позы персонажей, изуродованные тела и их нагота показывают, что первый кровавый мировой конфликт подтолкнул цивилизованный мир сделать еще один шаг за грань невыразимого, где ставится под сомнение само понятие человека.
Людвиг Мейднер родился в 1884 году, учился в Бреслау, потом переехал в Берлин. В начале ХХ века он прожил некоторое время в Париже, затем вернулся в Германию, которую ему пришлось покинуть в 1937 году, ибо нацисты признали его искусство «дегенеративным». Вместе с женой, Эльзой Мейднер, также художницей, он уехал в Лондон, и жил там до 1953 года, когда они оба вернулись к себе в страну, где он и умер в 1996-м.
Выходец из немецких евреев, Мейднер испытал влияние таких мастеров, как Ван Гог и Мунк; однако исторически живопись его можно отнести к экспрессионизму, представителями которого являлись такие художники, как Георг Гросс, Людвиг Кирхнер и Эгон Шиле. Заметное влияние экспрессионизм оказал и на другие виды художественных форм, в том числе на архитектуру в лице Гропиуса и Мендельсона, и кино в лице Фрица Ланга и Мурнау.
В творчестве Мейднера мы находим основные эстетические черты экспрессионизма, такие, как систематическая деформация линий, склонность к изображению насилия, произвольность в выборе цвета, пристрастие к искаженным лицам и изуродованным телам, словно полотно, пытаясь притянуть к себе зрителя, превращается в один бесконечный крик боли.
Действительно, значительная часть тогдашнего искусства, а особенно живописи, отмечена глубоким пессимизмом, а в случае Мейднера и вовсе бездонным, ибо тот сознательно не пытается противостоять ему, как делал Гроссе, привносивший в свои работы черты гротескного юмора. Многие произведения немецких художников-экспрессионистов передавали ощущение грядущего кошмара, пред-импульсы которого уже давали о себе знать на их полотнах, сообщая о себе посредством знаков.
И хотя творчество Мейднера нельзя рассматривать вне связи с его художественной эпохой, характеризовавшейся всеобщим настроением пессимизма, художник был настолько впечатлен ужасами Первой мировой, что начал изображать их за несколько лет до ее начала, иллюстрируя тезис Пруста, согласно которому катастрофы не вмещаются в отведенное им время свершения, и вынуждены захватывать период, им предшествующий. Рассмотренные нами пять картин были созданы между 1911 и 1913 годом[Картины, представленные нами, были созданы соответственно в 1912, 1913, 1912, 1912 и 1911 гг.], словно Мейднер, предчувствуя, что ему не хватит времени выразить свое отношение к войне, не смог дождаться начала события, чтобы начать изображать его и выстраивать эстетику бремени его страданий.
Своеобразная манера изображения, визуально разрушающая основные величины миропорядка, от которого не остается камня на камне, она все чаще сводится к систематическому искажению реальности, нежели к ее детальному описанию. Если говорить о провидческих полотнах Мейднера, то они и в самом деле оставляют впечатление двойной фрагментации.
Первой фрагментацией, наиболее очевидной, ибо она эмоционально воздействует на зрителя, является чудовищная деформация пространства, разнесенного в клочья артиллерийской канонадой, куда в яростном порыве швыряют зрителя, и где образуются распавшиеся на составляющие пейзажи, усеянные обломками строений и разорванными в клочья телами. И эта фрагментация затрагивает все, включая лица, которые все чаще полностью утрачивают узнаваемую форму.
Эта первая фрагментация, характерная для искусства экспрессионизма, деформирует пространство. Под натиском различных сил уничтожения, как, например, артиллерии, чья мощь потрясла Мейднера, пространство разлетается на куски, теряя свою когерентность и свой видимый облик, ибо ломаются все линии, придающие форму и единство пейзажам и телам.
В художественном универсуме Мейднера все происходит так, словно мощь оружейного огня, уничтожая людей и предметы и разрушая силовые линии, их скрепляющие, превращает пространство в гигантское экспрессионистское полотно, как если бы экспрессионизм перестал соответствовать субъективному видению художника, а присутствовал в мире, который тот увидел и постарался изобразить в реалистической манере.
При взгляде на полотна Мейднера создается впечатление, что они стремятся вместить в свои границы фрагменты образов, которым сложно найти свое место в общей композиции картины, ибо не все они находятся в одном и том же моменте, так как являются результатами фрагментации, но уже не пространственной, а временной, представленной символами, принадлежащими к разным временным пластам.
В то время как отдельные фрагменты картин прорисованы четко и ясно, другие, особенно лица, оставляют впечатление расплывчатости, словно художник не сумел отрегулировать фокусное расстояние между собой и предметом, на который направлен его взор, и, не имея возможности в точности перенести на холст преследовавшие его предвидения грядущих образов, довольствовался тем, что изобразил их так, как они позволили ему их увидеть.
Некоторые полотна, такие, как полотна Мейднера, гораздо более убедительно, нежели это делают литературные тексты, показывают, как произведения, принадлежащие не только к различным пространствам, но и обладающие несколькими перекрестными временными бытованиями, стремятся совместить в одном месте фрагменты, относящиеся как к прошлому, так и к будущему, порождая двойное смешение – посредством инверсии времени и путаницы образов, – о котором говорилось выше в связи с Уэллсом.
Уверенность в том, что литературно-художественные произведения пронизаны видениями, порожденными будущими событиями, должна стать стимулом для выработки совершенно иной стилистики художественных произведений, нежели стилистика традиционная, исподволь убеждавшая в том, что источником вдохновения для писателей и художников служат, прежде всего, события, которые им довелось пережить.
Традиционная стилистика культивирует однобокий подход к временной сущности явлений, утверждая, что художник в своем творчестве стремится преобразить события уже случившиеся; новая стилистика, призванная выявить место, отведенное в нас событиям будущего, должна быть основана на представлении о противоречивых свойствах темпоральности, где происходит смешение фрагментов прошлого с временными проблесками, прибывшими из будущего.
Как замечательно показал Пруст, напластование символов происходит в двух направлениях. Работа памяти деформирует события прошлого, производя в них неверные изменения. Но о событиях будущего мы также узнаем не напрямую. Они предстают в виде фрагментов, которые художник сумел с трудом разглядеть и которые смешиваются с картинами прошлого и настоящего, препятствуя четкому их прочтению и вызывая тревожные и непонятные ощущения.
Фрагменты двух временных сущностей, пребывающих в конкурентных отношениях, смешиваются по-разному. Те, что отделяются от прошлого, имеют размытые контуры, потому что забвение сделало свое разрушительное дело и постаралось стереть некоторые подробности. Те же, что исходят из будущего, расплывчаты в той мере, в какой художник испытывает сложности с целостным их восприятием и четким переносом их на полотно, что особенно трудно, ибо нередко первые смешиваются со вторыми.
Главными выразительными средствами новой стилистики должны стать фигуры стиля, которые следовало бы назвать пред-образами, чтобы противопоставить их пост-образам, находящимися в центре интересов традиционной стилистики, как литературной, так и художественной[Об этих понятиях см.: Demain est crit, op. cit.]. Эти образы могут быть как языковыми – например, метафоры, – так и визуальными.
В отличие от пост-образов, доминирующих при прочтении произведений литературы и живописи и облекающих следы прошлого в словесную и визуальную форму, пред-образы выводят на сцену фрагменты времени, выпавшие из будущего, одновременно пытаясь создать особый язык, чтобы донести смысл тех событий, которые пока не имеют четких контуров, ибо они еще не случились.
Эти образы часто будут характеризоваться необузданной жестокостью, словно автор испытал тяжелейшее потрясение, но не сумел его передать. Так, в случае Мейднера речь идет о деформированных лицах, на которые война наложила свой отпечаток, а некоторые исказила настолько, что сделала из них чудовищ. То же можно сказать и о типичном образе его художественного мира, об обнаженном теле, символизирующем невероятные физические и психические лишения, выпавшие на долю жителей городов и солдат в окопах, столкнувшихся с неслыханной доселе бесчеловечностью.
Другой характеристикой пред-образов, напрямую связанной с временным наложением, является визуальная нечеткость – или дескриптивная в случае литературы, – означающая присутствие в произведении искусства образов, которые художник не в состоянии изобразить целиком, так как видит их лишь частично, и посредством своего искусства пытается определить их формы. Примером могут служить изображение отдельных лиц, черты которых стерлись или же слились с другими, а также земля, устланная трупами, где местами видны нечеткие линии разломов, напоминающих окопы.
В некоторых случаях на картине можно заметить несоответствия в передаче форм предметов, как если бы некоторые из них, те, что выпадают из общего контекста, явились из иного мира. Можно говорить, например, о некоторых предметах, изображенных на рисунке «Ужасы войны», где странные сосуды, стоящие у ног трех выживших, а именно ваза и светильник, создают впечатление принадлежности к другому временному фрагменту, откуда их вбросили в эту картину. На полотне из цикла «Апокалиптический пейзаж», где изображено истерзанное тело, внизу справа имеется некая загадочная форма, представляющая собой то ли металлический предмет, то ли цветок; она также с большим трудом вписывается в рамки картины.
Следует отметить, что подобный поиск фрагментов из будущего ведет к расширению возможностей выявления предупреждений, содержащихся в литературно-художественных произведениях. Сообщение из будущего реализуется не только в повествовательной ткани произведений, в котором оно присутствует, но и в целом ряде формальных деталей, иногда совсем крошечных; эти детали вызывают впечатление дисгармонии с данным произведением искусства, ибо они принадлежат к другому временному периоду, с которым
Итак, присутствие в литературе и живописи временных проблесков призывает к разработке новых подходов к стилистике литературных и художественных произведений. Стилистике, пристальное внимание которой направлено не только на события, трудно поддающиеся описанию, потому что они еще не произошли, но также и на все фрагменты с расплывчатыми границами, свидетельствующими о том, что творение мастера, расположенное на перекрестке события случившегося и события предстоящего, позволило нам очутиться в самом центре направленных в разные стороны временных наслоений.
Перед новой стилистикой, которую еще только предстоит построить в полном объеме, стоит двойная задача, ибо ей придется определять сложные хронологические пересечения, лежащие в основе художественного произведения, и одновременно выявлять скрыто содержащиеся в них спящие предупреждения, грозящие однажды пробудиться и стать нашим будущим.
Глава IV. В поддержку новой литературной и художественной истории
Предсказывает ли знаменитый фильм Жана Люка Годара «Китаянка»[ПВО-], поставленный в 1967 году, наступление мая 1968-го?
По крайней мере, этот фильм традиционно связывают с событиями мая 1968-го, о чем постоянно пишут в посвященных ему статьях. Согласно неоднократно повторенной мысли, Годар предчувствовал, даже пророчески предсказал события мая 1968 года, и фильм, снятый годом раньше, обладает характером предупреждения. Но так ли это на самом деле?
Почти весь фильм снят в квартире, которую буржуазная семья сдает на лето пяти революционно настроенным молодым людям, исповедующим маоизм.
В группу входят студентка из Нантерра Вероника Сюпервьель (Анна Вяземски), ее приятель, актер Гийом (Жан-Пьер Лео), молодая деревенская женщина по имени Ивонна (Жюльет Берто), научный работник Анри (Мишель Семеньяко) и художник Кирилов (Лекс де Брюижн).
Двое персонажей, появляющиеся в фильме всего один раз, играют самих себя: это Омар Диоп, африканский активист-революционер, известный своей поддержкой ФНО во время алжирской войны и убитый в 1973 году в Сенегале, и Франсис Жансон, соратник Сартра, известный своими выступлениями в поддержку ФНО во время войны в Алжире.
Теснясь в небольшой квартире, группа представляет собой своего рода автономную ячейку, названную «Аden Arabie» в честь Поля Низана, где юные ученики-революционеры занимаются самообраованием, читая тексты Мао, организуя лекции и обсуждая текущие события, такие, как война во Вьетнаме.
Один из членов группы, Анри, поддерживающий Коммунистическую партию, стоит на позициях, отличных от идеологической линии своих товарищей, которые в результате решают исключить его. Группа также теряет своего самого скромного члена, Кирилова, чье имя явно навеяно героем «Бесов» Достоевского и который, несколько раз сообщив о своем намерении покончить счеты с жизнью, в конце концов стреляет себе в голову.
Последние сцены фильма постоянно уводят зрителя из квартиры. На протяжении долгой сцены, снятой в поезде, Вероника беседует с Франсисом Жансоном, которому она рассказывает, как члены группы, вдохновленные событиями в Китае, задумали организовать теракт на территории университетского городка.
В ответ она встречает вежливую сдержанность закаленного в диспутах философа, который отрицает проведенную ею параллель с ситуацией в Алжире, где революционеров поддержал весь народ, и пытается отговорить ее от участие в теракте.
Не слушая его благоразумных советов, Вероника пытается привести в действие свой замысел и убить советского министра, находящегося с визитом в Париже. В фильме мы сначала видим ее в припаркованном автомобиле в обществе другого члена группы, с которым она советуется, как вычислить окно комнаты министра. Затем она направляется к зданию, где остановился министр, и вскоре выходит оттуда, выполнив свою миссию.
Но когда машина собирается уезжать, молодая женщина внезапно понимает, что она ошиблась квартирой, прочитав вверх ногами номер квартиры, записанный в журнале у консьержки, а значит, убила совсем не того человека. Она возвращается в дом, затем появляется на балконе, откуда знаком показывает своему товарищу, что теперь дело сделано.
Завершают фильм несколько герметичных сцен: мы видим, как Жан-Пьер Лео, переодетый революционером времен Французской революции, шумно вмешивается в театральную постановку, видим, как он одиноко бродит по пустынным улицам, как торгует овощами и фруктами, как ведет диалог в стихах с жительницей дома, где находится квартира, которую группка революционеров наконец возвращает хозяевам.
Кратко пересказав содержание фильма, мы, разумеется, не воздаем ему должное, настолько это творение французского кинематографиста чуждо самой мысли о сюжете или действии. Очевидно, что история значит гораздо меньше, чем форма фильма, который, как обычно, ведет сложную, а иногда и противоречивую игру со множеством перепутавшихся знаков.
То же можно сказать и о красках, необычайно агрессивных и активно присутствующих на протяжении всего фильма. Квартира, например, сплошь заставлена маленькими алыми книжечками. Стены и ставни окрашены в сочные цвета, с преобладанием красного, желтого и синего, а персонажи фильма носят очень яркую одежду.
Сцены, снятые в квартире, чередуются с коллажными вставками, среди которых мы видим как фотографии, отображающие современную действительность (студенческий городок в Нантерре, лицо Мао, собрание центрального комитета Коммунистической партии…), так и фрагменты комиксов или незатейливые фразы, которые комментируют фильм или составляют лозунг.
И наконец, звуковая дорожка, умножающая шумы и несогласованность звуков. Иногда не слышны целые куски диалогов, один разговор перекрывает другой, а музыкальное сопровождение, чередующее Шуберта и Штокхаузена, заполняя звуковое пространство, мешает разобрать слова персонажей. Куплеты из песенки Клода Шана («Вьетнам горит, а я кричу Мао Мао […] Вот маленькая красненькая книжечка / Которая в движение все привела») лишь подчеркивают неоднозначный характер звукового сопровождения.
Впрочем, многие сцены, верные брехтовскому «эффекту отчуждения», кажутся отстраненными от действия. Это, например, беседа режиссера с персонажами или попытка персонажей исполнить на балконе танцевальный номер. Война также представлена комическими сценами. Ивонна под защитой стены из красных книжечек стреляет из игрушечной винтовки по воображаемым агрессорам, или, переодевшись вьетнамской крестьянкой, отражает атаку игрушечных самолетиков.
Другая форма смешения заключается в том, что реальность и вымысел постоянно заходят на территории друг друга. Помимо Диопа и Жансона, играющих самих себя, Годар переносит в фильм ряд эпизодов из жизни своих актеров. Так, в жизни Жансон является преподавателем философии у Анны Вяземски, и осенняя поездка на сбор персиков, о которой упоминает в поезде Вероника, событие подлинное. А Мишель Семеньяко, как и его персонаж Анри, действительно активно поддерживает Компартию.
Из-за наличия множества противоречивых смыслов вряд ли можно приравнять фильм к однозначному посланию. Как справедливо заметил Жан Колле в статье, появившейся спустя несколько месяцев после выхода фильма[tudes, w7, n 327.], основным действующим лицом в «Китаянке», как это часто бывает у Годара, является, без сомнения, язык, на котором говорят персонажи.
Ибо фильм действительно демонстрирует двойное подчинение словам, что способствует смешению их значений. Вероника и ее друзья, верные марксизму как идее повсеместного разрушения, пытаются анализировать, каким образом общество использует дискурс и – более широко – культуру для создания невидимых форм порабощения.
В то же время фильм показывает, как сами молодые революционеры находятся в подчинении у слов, от власти которых, как им кажется, они избавились. Фразы, с помощью которых они намерены дистанцироваться от буржуазного мира, который они мечтают победить, быстро превращаются в лозунги, а те, кто их произносят, не осознают этого нового отчуждения.
Впрочем, два персонажа, не согласные с политической ориентацией молодых революционеров, являются вполне положительными образами. Один из них Анри, близкий по своим взглядам к Компартии и исключенный из ячейки за ревизионизм. В фильме ему предоставлена возможность долго и выразительно, опираясь на авторитеты, говорить о своих убеждениях, противостоя яростным нападкам своих товарищей.
Но усомниться в основном послании фильма заставляет, прежде всего, разговор Вероники с Жансоном. Обоснованные возражения, выдвинутые философом-интеллектуалом в ответ на слова молодой женщины, его поддержка борьбы Алжира и предостережение против изолированности группы молодых маоистов, продолжает затуманивать глубинное содержание фильма, который даже с большой натяжкой нельзя считать исключительно промаоистским.
Многозначность фильма позволила одним увидеть в нем поддержку маоизма, что подтверждают последующие политические высказывания Годара, создавшего группу «Дзига Вертов» и ставшего одним из идеологов нового левого движения, а другим, и в частности тогдашним маоистам, критику учения Мао, выразившуюся в ироничном отношении режиссера к компании молодых интеллектуалов, развлекающихся игрой в революцию[Годар представлял свой фильм в посольстве Китая, где его также отвергли.].
Вопрос о скрытом смысле фильма не следует путать с вопросом, предвидит ли он май 68-го или нет. Впрочем, провидческий характер фильма никто не оспаривает, и при этом он продолжает сохранять всю свою неоднозначность.
Описывая бурлящее студенчество, Годар, без сомнения, предчувствует, что в университетской среде что-то назревает, и распознать это режиссеру помогает его подруга Анна Вяземски, которая учится на факультет в Нантерре, посещает анархистский кружок под руководством Даниэля Кон-Бендита и поставляет Годару информацию о студенческом движении из первых рук, позволяя ему распознавать отдельные линии разлома и точки прорыва, не заметные простому глазу.
Но, как сказал в своем интервью Антуан де Бек[Беседа с Пьером-Анри Жибером, записанная на диске «La Chinoise» (1967), DVD, Gaumont-Path, 2012.], фильм скорее является предчувствием не столько мая 68-го, сколько его поражения и разгрома левацкого движения, так как положительное описание молодых революционеров изрядно нивелировано примитивностью их замысла, равно как и персонажами Анри и Жансона, а также бурлескным убийством советского министра и отстраненной манерой съемки.
В этом смысле фильм является характерным представителем прозведений, похоже обладающих множественным действием и лишь постепенно раскрывающих провидческий характер, которым они обладают. Помимо предчувствия мая 68-го как его поражения, в фильме разворачивается во времени такой насыщенный ряд сообщений, что напрашивается вопрос, все ли они успели реализоваться к дням нынешним и не осталось ли нереализованных.
Таким образом, есть основания опасаться, что, подобно мерцающим вспышкам будущего, произведение содержит в себе отблески еще не реализованных событий, и в первую очередь гораздо более жестокой революции, с убийствами и покушениями, революции, которую требуют и к которой готовятся молодые леваки, появившиеся в это время в таких странах, как Италия и Германия, и лишь отчасти во Франции.
Стилистическое изучение пред-образов, и в частности многочисленных нечетких словесных и визуальных фрагментов, даст возможность показать, что степень сложности произведения зависит, возможно, от того, каким образом в нем просматриваются и формируются слова и образы, явившиеся из будущего, а в отдельных случаях еще и не существующие. Таким образом, как и в других изученных нами произведениях, речь идет о наиболее загадочных фрагментах, которые, как можно предположить, полностью раскроют свое значение только тогда, когда история реализует все предвидения, содержащиеся в этом произведении.
Своим распределением многочисленных временных напластований фильм Годара побуждает обратиться не только к упомянутой выше мультитемпоральной стилистике, основанной на анализе разрозненных фрагментов и нестыковок, он также побуждает иначе осмысливать роль эстетики в истории, эстетики, которая слишком часто становится узницей однозначной событийной хронологии.
Если целый ряд значимых произведений искусства созданы под воздействием событий не только прошлого, но и будущего, важно иначе выстроить историю литературы и искусства, совершить перегруппировку без оглядки на классическую хронологию и сосредоточившись на великих событиях, выходящих за рамки истории, на событиях, вдохновлявших на создание художественных произведений.
Тот же режиссер, который снял «Китаянку», в фильме «История кино» попытался, отбросив традиционную линейную хронологию, организовать историю своего искусства на иных основах. В восьми фильмах, рассказывающих историю кино, последовательная смена эстетических взглядов заменяется их напластованием, ибо никакая хронологическая последовательность не в состоянии удержать вместе сменяющие друг друга фрагменты, зачастую очень короткие.
Однако о полной разупорядоченности речи нет. Порядок следования фильмов определяется принципом двойной организации. Прежде всего, каждый из восьми фильмов выстроен вокруг одной темы – такой, как «Роковая красота» или «Господство над миром», – которая, не имея жестких рамок, придает совокупности сопряженных между собой цитат некую общую тональность.
Кроме того, наслоение внутри каждого фильма не является случайным, оно подчиняется определенным связям или более или менее очевидным и объективным ассонансам, позволяющим выстраивать логику, отличную от логики линейной хронологии, лежащей в основе большинства трудов по истории кинематографа.
Отдавая предпочтение категории вдохновения, первым шагом нового построения истории кино становится расстановка акцентов на аналогиях и необычных совпадениях между цитатами, которые, возможно, и не будут упомянуты, если придерживаться классического подхода к истории, естественным образом ориентированной на сближение произведений, расположенных рядом во времени и пространстве.
Второй шаг заключается в иной форме осмысления истории кинематографа, не обязательно совпадающий с хронологическим подходом. Хотя теоретические размышления иногда присутствуют напрямую, будь то в комментариях за кадром или в разговоре с Сержем Данеем, они тем не менее должны найти свое отражение в толковании образов, реализуя идею о том, что необычная комбинация изображений может оказаться носителем своей собственной мысли.
Концепция Годара заставляет вспомнить замысел Аби Варбурга, немецкого историка искусства, который в начале ХХ века предпринял попытку создать атлас, где на каждой таблице разместил самые неожиданные произведения искусства, принадлежащие разным эпохам и разным географическим ареалам, произведения, которые, по мнению создателя атласа, вопреки принадлежности к удаленным друг от друга культурам – и вопреки логике, – обладали определенным сходством.
Рассуждая о предвидении, мы говорим не просто о нарушении традиционной хронологии, а о необходимости показать, каким образом двойная темпоральность влияет на произведения, где делается попытка разграничить совокупное воздействие событий прошлого и грядущего.
Взяв за основу принцип двойной иррадиации, сформулировать который мы попытались в этой книге, было бы целесообразно по-новому организовать хронологию произведений искусства, показав, что, вопреки существующему мнению, их значение в истории еще не определено и, перемещенные с того места, которое им склонны отводить, они становятся значительно более понятными.
Поместить Мейднера в один ряд с художниками, на творчество которых повлияла Первая мировая война, означает не только признать, что для него война стала трагедией уже с 1911 года, но и отнести его произведения к более поздним эстетическим направлениям в искусстве, например к сюрреализму, ибо война – пусть и с некоторым опозданием – также оставила свой след в творчестве художников-сюрреалистов.
То же самое можно сказать и о фильме Куросавы, чье настоящее место находится в одном ряду со всеми произведениями искусства – произведениями, созданными после катастрофы, – рожденными из трагедии Фукусимы. А фантазии Уэльбека и Тома Клэнси, предвосхитившие события – возможно, в этот ряд следует поместить и «Китаянку», – значительно выиграли бы в глазах читателей, если бы встали в один ряд со всеми сочинениями, порожденными волной терактов, случившихся в мире после 11 сентября.
Можно также подумать о перестановках вокруг событий, которые не произошли, но уже стали основой для создания художественных произведений, как, например, первый мировой ядерный конфликт, последствия которого на протяжении многих лет описывают авторы как во Франции, так и в других странах, от Кормана Маккарти до Антуана Володина, в одном ряду с которыми вполне заслуживал бы, например, стоять Уэллс.
Подобного рода перегруппировки придают литературе и искусству полноценную политическую функцию, ибо скрещение и столкновение проблесков времени, рассеянных по произведениям, рожденным в разнесенных в пространстве и времени периодах, позволяют наделить историю творчества особой связующей силой и достаточно точно обрисовать то, что может произойти, а следовательно, принять надлежащие меры если не для того, чтобы избежать неизбежного, то хотя бы подготовиться к нему.
Следовательно, если принять во внимание предвидения, содержащиеся в художественных произведениях, необходимо совершенно иным образом писать историю литературы и искусства.
Отвергнув представление о линейности времени, эта история будет основана на спиральном видении, позволяющем внимательно относиться и к предшествующим причинам, и к будущим последствиям[Об этих понятиях см. Demain est crit, op.cit.], видении, благодаря которому произведения, находящиеся в точке пересечения следов прошлого и проблесков будущего, могли бы своим знанием мира дополнить результаты экспертиз, на которые явно недостаточно опираются те, кто отвечает за наши судьбы.
Величайшая катастрофа, когда-либо случавшаяся на море[Робертсон на этом не остановился. Неутомимый рассказчик будущей истории, в новелле «Вне Спектра», написанной в 1914 году (ПВ+), он повествует о войне между Соединенными Штатами и Японией (ПВ+), в которой Япония без предупреждения атакует американские корабли.], и ее мельчайшие подробности, описанные в феноменальном романе Робертсона «Тщетность», изданном за четырнадцать лет до самой катастрофы, породили множество комментариев, от самых скептических до самых простодушных.
Представитель лагеря скептиков Джераль Броннер решил детально опровергнуть тезис о предчувствии, показав, что, если подумать, в серии сходств между крушением «Титаника» и романом Робертсона нет ничего удивительного.
Признавая, что между двумя кораблекрушениями есть сходство, Броннер подчеркивает, что не следует забывать и о различиях. Например, он напоминает, что пакетбот из романа имел длину 214 м, в то время как реальный пакетбот 269 м; столь же разительно отличается число погибших, которых в романе насчитывается более 3000, в то время как в реальности число жертв равно 1523[Concidences, op. cit., р.104.].
Но главное, Броннер стремится показать, что в совпадениях нет ничего необычного и они имеют простое объяснение. Он напоминает, что Робертсон, сын капитана и сам моряк, являлся специалистом по истории мореплавания, следовательно, был в курсе новшеств в кораблестроении. Особенно внимательно он следил за постройкой гигантского корабля «Гигантик», сходного по своим техническим характеристикам с «Титаником», которыми он и воспользовался для описания своего «Титана»: «Иными словами, основные составляющие судна (число перегородок между каютами, скорость, мощность двигателя, количество спасательных средств…) зависят от его водоизмещения. Таким образом, пророческий характер «Тщетности» становится значительно менее интригующим. Робертсон всего лишь следил за соревнованием конструкторов-кораблестроителей и написал свой роман-предвидение, будучи хорошо информированным. В то время выходило много морских романов, и в том, что содержание одного из них совпало с реальной трагедией, нет ничего удивительного»[Concidences, op. cit., p.107.].
Но даже если не учитывать наиболее впечатляющие совпадения, такие, как сходство названий обоих кораблей, на которых Броннер не задерживает свое внимание, его примеры оборачиваются против него самого. Разве сказать, что благодаря своей осведомленности и знанию ряда данных, равно как и благодаря своему воображению Робертсон смог описать кораблекрушение, случившееся значительно позднее, не означает признать, что Робертсон аргументировал свое предсказание?






