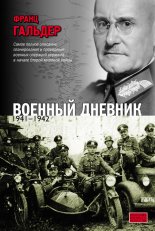Если кто меня слышит. Легенда крепости Бадабер Подопригора Борис
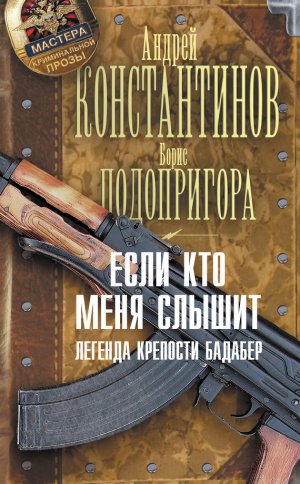
Пленные, как собаки, почуяли что-то и инстинктивно стали как-то отходить от Мастери. Поняли, видно, что за побег Абдуллы рано или поздно «завиноватят» Абдулрахмана…
Утром, улучив момент, к Борису подошел Абдул Хак. Подполковник в последнее время постоянно демонстрировал Мастери доверие, особенно после совместной молитвы за упокой души неудачливого беглеца Наваза, а также его сокамерников Асафа и Фаизахмада.
Борис также чуть-чуть приоткрылся Абдул Хаку, продемонстрировав знание дари, слишком, пожалуй, хорошее для водителя, пусть даже и водителя из геологической партии.
Вот и в этот раз они разговаривали на таджикском, правда, полушепотом.
Подполковник быстро оглянулся и сказал, глядя Борису в глаза:
— Товарищ Абдулрахман, у вас мало времени…
— Почему?
— Один охранник, мой земляк, говорит, Азизулла очень на вас злой. Хочет менять надсмотрщика, а здесь надсмотрщика меняют всегда одинаково: новый появляется, когда старый уже мёртвый.
Глинский устало потёр лоб рукой:
— Это я понимаю… Что делать-то? Бежать? Так вот — Наваз пытался… Помощи просить? Как и у кого? Телефона нет, домой не позвонить.
Абдул Хак помолчал, а потом сказал, чуть отвернувшись:
— Здесь есть рация…
— Что?
— Здесь есть рация.
— Откуда ты знаешь?
Подполковник усмехнулся, испытующе посмотрел на Глинского и ответил:
— Больше года назад… Здесь в плену был один майор-связист. Халькист, из низших дехкан. Таджик, конечно. Он тоже был надсмотрщиком. Недолго.
— Почему?
— Потому что он пытался выйти в эфир. Хотел рассказать, где мы находимся, просить помощи…
— И что дальше?
— Его поймали. И перед всем лагерем убили дандой.
Глинский инстинктивно поёжился. Он очень хорошо знал, что такое данда — увесистая дубинка, обернутая войлоком. Такие дубинки у «духов» всегда под рукой. Данда легко превращала человеческое тело в бесформенную кровавую котлету.
Абдул Хак продолжил:
— Он перед казнью сказал, что родина его — Ленинград.
— Почему?
— Наверное, из уважения… Так и сказал: «Город Великой Октябрьской социалистической революции…» Договорить до конца ему не дали… Майор Каратулла рукой махнул и… Тело полтора месяц не забирал. Американцы видели. Ничего не сказали. Забыли тогда про свою «антисанитарию» и чистоту.
— Зачем ты мне об этом рассказываешь?
Подполковник прищурился:
— У тебя мало времени. Я хочу, чтобы ты это понял.
Глинский нахмурился:
— Кем ты меня считаешь?
Абдул Хак покачал головой:
— Это неважно, что я считаю… Я вижу, ты хочешь жить. Хочешь сильнее других. Ты — сильнее других. Сильнее и телом, и духом. Я это понял. Я не знаю, как тебе помочь. Но я хочу помочь.
— Спасибо.
Подошедший толстый охранник прервал их разговор и пинком отогнал подполковника, оставив Глинского копаться в моторе очередной «барбухайки». Толстый охранник видел, что Мастери что-то бормочет себе под нос, но даже вслушиваться не стал. Все уже привыкли к тому, что Абдулрахман во время ремонта постоянно сам с собой разговаривает…
«…В чем я допустил ошибку? Не надо было „вылезать“, набиваться в надсмотрщики? Но если б я не стал надсмотрщиком, как бы я общался с пленными и охраной? Тупить надо было больше? Куда уж больше? Так и сгнил бы тут. Но где же наши? Должны же они хоть какой-то знак подать… „Дядя Витя“ ведь обещал… А может, подали, да я не заметил?»
Борис тоскливо вздохнул, выпрямился, потирая затёкшую поясницу, и огляделся. К толстому охраннику, стерегущему Мастери, подошёл другой, Мансур. Этого Мансура Борис в свое время от хронического поноса вылечил. Снадобье было несложное: сосновая зола (от советского ящика из-под снарядов) да растолчённая верблюжья колючка… Мансур что-то оживлённо рассказывал толстяку и вертел в руках какую-то бутылку. Глинский машинально прищурился, приглядываясь, и чуть не ахнул: это была не просто бутылка, это была бутылка из-под советской «хванчкары». Откуда она здесь?
Борис не выдержал и подошёл к охранникам. Толстяк нахмурился, но Мансур, наоборот, заулыбался довольно, показал Мастери бутылку, явно хвастаясь. Глинский внимательно разглядел этикетку — новая, не выцветшая под солнцем. На ломаном дари он с грехом пополам объяснил, что в бутылке раньше было вино. Завистливый толстяк немедленно заявил, что вино — это грех, и поэтому бутылку необходимо немедленно разбить. И даже потянулся к ней рукой. Но Мансур руку сослуживца отвёл, сказав, что раз вина уже нет, то и греха нет, а стеклянная тара — это товар!
— Где нашёл? — как бы между делом поинтересовался Борис, и довольный Мансур охотно рассказал. Оказывается, бутылку он подобрал на лагерной свалке — заметил, что американские советники что-то выбросили, и подобрал. А американцы вино выпили, наверное, накануне — к ним на аэродром какой-то лётчик приезжал, гражданский, в голубой рубашке. Не американец, но по-американски очень хорошо говорил, всё время смешил советников. Сам такой чернявый, с бородкой… Может, даже и шурави… Наверное, он и подарил бутылку советникам…
Глинский вежливо покивал, поцокал языком и вернулся к своей «барбухайке». Ему казалось, что мозг вот-вот взорвётся. Борис перевёл дух и начал лихорадочно думать.
«Это что? Просто бутылка, случайно оказавшаяся на свалке, или оставленный „на авось“ сигнал, подтверждающий, что Гафар успел что-то сообщить? Или, наоборот, сигнал-предупреждение, что от меня ждут „исполнительной команды“. Может, „хванчкара“ — это намек на чрезвычайность ситуации? Мастер ведь предупреждал, что при невыходе в эфир найдет способ наведаться, по крайней мере, в Пешавар… А он такой, он проныра, он мог и поближе подобраться и около Зангали повертеться… Или мне уже все чудится и мерещится? Нет, все-таки что-то эта бутылка да должна значить… Но что?»
Известное дело, когда человек чего-нибудь очень ждёт, он даже в полётах птиц начинает видеть знамение. А Глинский очень ждал любой весточки с Родины. В таком состоянии, как у него, за долгожданный сигнал принять можно было всё что угодно… В таком состоянии легко совершить ошибку.
На следующее утро Борис решил сам наведаться на лагерную свалку, чтобы проверить — нет ли там еще какого-нибудь более «выразительного» сигнала. Для этого ему пришлось, вопреки статусу надсмотрщика, лично впрячься в волокушу с нечистотами. Охране он объяснил, что хочет заставить пленников вымыть наконец бочки для дерьма. А сделать это можно лишь рядом со свалкой, где после недавнего ливня ещё оставалась здоровенная лужа. Азизулла этот маневр одобрил — он старался далеко обходить полевые сортиры, даже курсантский, потому как воняли они невыносимо. А когда сам Азизулла портил воздух, то всегда бросал брезгливый взгляд в сторону туалетов, мол, это не я пукнул, это от сортира ветерком пахнуло… В пару по волокуше Глинскому достался Джелалуддин — длинный и худой, как смерть. На самом деле этого парня звали Валерием Сироткиным, и до службы он жил в Ленинграде. Дослужиться успел аж до ефрейтора. Борис как-то инстинктивно сторонился этого пленного. Во-первых, он не понимал, как этот длинный и костлявый, абсолютно непрактичный и не совсем адекватный парень умудрился выжить в Бадабере. Может, его подкармливают? Может, он не настоящий узник, а «подсадная утка»?
А во-вторых, в карточке ефрейтора Сироткина из той «дачной картотеки» была многозначительная приписка: «Возможно, ушёл добровольно и служит в банде». Вот так-то.
Так что Борис никаких бесед затевать с Джелалуддином не собирался, тот сам начал разговор, пока они тащили бочку. Охрана подотстала, спасаясь от вони, так что их никто не слышал.
— Слышь, Абдулрахман, помоги…
— Помощи просишь, а меня собачьим именем называешь?
— Слышь… Извини. Николай, помоги…
— А чё надо-то? Хлеба?
— Поносит меня сильно… Срать нечем, а всё равно выворачивает…
Глинский недобро усмехнулся:
— Жить хочешь?
— Хочу. Ты ж всё сам понимаешь…
Борис понимал. Если дизентерию не заглушить в самом начале, то может начаться эпидемия. И не только среди пленных, но и среди курсантов, с которыми какое-никакое, но всё же общение есть. А что делать с заразными — ну не в госпиталь же везти?! В расход, и дело с концом. С заболевшими пленными афганцами вообще никогда не церемонились, советских вроде берегли чуть больше, но, как говорится, до определенного предела.
Поэтому Валера-Джелалуддин понимал всё правильно: если его будут слишком часто видеть у сортира, то он — не жилец.
— Да, парень, хана тебе без моих комочков.
— Поможешь?
— Рассказывай, как сюда попал… Правду. Увижу, что врёшь, — ищи другую аптеку.
Бывший ефрейтор вздохнул и бесхитростно поведал Борису свою «военную» историю…
После десятилетки Валера хипповал и фарцевал, никуда поступать не стал и, как говорил участковый, «вёл антиобщественный образ жизни». В военкомат его отвели отец с дедом — заслуженным фронтовиком. Учился в Пушкине на связиста, в Афган напросился сам, хотя его и оставляли служить в учебке. Но Валера хотел вернуться домой героем, чтобы участковый отстал навсегда… Потом всё, как у всех, служба… Летом 1984 года командир роты отправил его вместе с водителем перегнать «радийку». Без обязательного в таком случае бэтээра сопровождения. Всего-то на пять километров — от части до ближайшей заставы. Машина заглохла как раз на полпути. Ни с родной частью, ни с заставой они с водителем связаться не смогли. Посидели, стало смеркаться. В конце концов, водитель пешком отправился на заставу, до которой всё же было чуть ближе, а Сироткин остался стеречь машину. Ясное дело, тут же подлетела банда… Отстреливаться Валера не стал. Надо сказать, шансов у него действительно не было. Ни одного. Он мог только героически погибнуть с автоматом в руках. В общем, сдался.
С бандой он действительно ходил, но в боевых действиях не участвовал, а ремонтировал трофейные передатчики. Главарь банды, деловой, как все афганцы, считал, что на пленном ефрейторе можно замутить маленький, но стабильный бизнес… И всё шло вполне себе ничего, Сироткина особо не обижали, даже женить собирались, но однажды Валера услышал проникновенную передачу по советскому радио и впал в панику насчет того, что его обвинят в измене Родине. Он испортил рацию, украл автомат и сбежал. Побег практически удался, Валера добрался до поста афганских вэвэшников-царандоевцев, но они, твари, в тот же вечер продали его в другую банду, каким-то залётным моджахедам. До Зангали его перепродавали ещё четыре раза… А уколы Валера переносил легче других, потому что к «дури» привык ещё с гражданки — так он сам и сказал. Слушая короткий рассказ, Глинский только зло щурился. Валера, конечно, не мальчик-пряник, но в плену-то он оказался из-за офицерского головотяпства. И что он после этого должен думать о Родине? Эх, Родина, Родина…
— Ну вроде не врёшь… Помогу, засранцу. Не бзди, прорвёмся!
Валера аж голову вскинул, как боевой конь:
— Так, а я чё? Я только «за»!
— Чего «за»? За — что?
Сироткин потёрся левой скулой о плечо и, понизив голос, пояснил:
— Ну, если тема какая возникнет… то я — «за».
— Какая тема?
— Ну, соскочить, там… Или вообще…
— «Вообще»… — передразнил бывшего ефрейтора Глинский. — Вон Наваз уже соскочил. И ещё парочку с собой прихватил. Вот тебе и «вообще».
Некоторое время они, сопя и покряхтывая, тащили волокушу молча. Наконец, Борис спросил:
— И много среди наших таких?
— Каких?
— Которые «за».
Сироткин еле заметно улыбнулся, показав дыру от трех выбитых зубов:
— Ну пара нормальных мужиков есть. Надёжных.
— И кто же?
— Не сдашь?
Глинский хмыкнул:
— Да ты уже на себя наговорил — хватит под завязку. Да ещё понос твой. Был бы мне резон тебя сдавать, я б уже вертухаям свистнул… Ты определись, парень. То помочь просишь, то не доверяешь… Прими решение.
Валера опустил голову:
— Одно дело — я сам, другое — пацаны.
«Надо же! — чуть не вслух восхитился Борис. — А мозги-то у парня ещё работают! Может, и правда, его эта „дурь“ меньше цепляет». Вслух он, однако, ничего не сказал, решив не давить на Сироткина. Захочет — сам скажет. И Валера сказал:
— Ну, надежные пацаны — это Абдулсалим и Хафизулла.
— А по-русски?
— Так… ну, Серега и Костя…
— И чего — Серега и Костя? Рожай, милый, мы почти пришли!
До свалки оставалось действительно всего ничего, и ленинградец Джелалуддин заторопился, будто решив всё же нырнуть с обрыва:
— Ну пацаны всё время Наваза вспоминают, афганца этого. Спорят, как надо было делать…
— И как же?
— Ну вариантов много разных. А ещё Костя говорит, что надо по этой теме с тобой посоветоваться…
— Со мной? С чего это?
— А он говорит, что ты офицер. Значит, умный. Можешь помочь.
— А с чего он взял, что я офицер?
— Так это… Ты ж с «духами» насчет отмены уколов тогда добазарился…
— И что? Ну добазарился…
— Так Костя говорит, только офицер мог добазариться…
От этой странной, но давшей верный результат логики Глинский чуть было не остановился:
— Да заебали вы уже меня в офицеры производить! Один мудак какой-то слух пустил, а за ним все — как бараны в маленькой деревне.
— Так я же…
— «Я же, мы же»… Завязывай языком мести, видишь, пришли уже.
Сироткин молча и послушно кивнул. Он явно признал в Абдулрахмане лидера и всем своим видом показывал, что готов выполнять любые его поручения.
…Свалкой назывался не очень каменистый склон, изрытый спускающимися вниз траншеями — каждая метров по двадцать длиной. Когда одна траншея заполнялась всякими отходами, параллельно ей рыли новую — почти до самого рва, на дно которого сливали нечистоты. А чуть подальше, на подъеме в гору, закапывали усопших пленников. Да и курсантов, бывало, тоже. Борис нервничал, дёргался, опасаясь, что почти заполнившуюся мусором траншею уже закопали — накануне сюда зачем-то гоняли узников-бабраковцев… Но, видимо, гоняли их по какому-то другому делу, поскольку мусорная траншея осталась открытой, незакопанной.
Борис даже дух перевёл, словно от того, закопали траншею или нет, зависела его жизнь.
Глинский помог Валере слить бочку с дерьмом в ров, а потом они вместе оттащили опорожнившуюся тару к большой и глубокой дождевой луже. На краю этого небольшого и весьма недолговечного «водохранилища» бывший ефрейтор встал на колени и долго с удивлением рассматривал своё отражение. Словно пытался узнать, а не узнавал. Глинский понимающе вздохнул. Своё отражение он разглядывать не собирался. В отличие от своих собратьев по крепостному сидению, Мастери прекрасно знал, как сам он выглядит, ведь с машин, которые он чинил, зеркала не снимали. Так что Борис был в курсе, что в свои двадцать семь выглядит — хорошо если на сорок пять, а не на полновесный полтинник. Сединой его припорошило очень прилично, на полголовы, не меньше… Куда там Вите Луговому по части быстрого старения с Глинским тягаться!
Вспомнив Хулета и их последнюю встречу, Борис грустно улыбнулся, но тут же тряхнул головой, отгоняя расслабляющие, а следовательно, не нужные сейчас воспоминания. Глинский дёрнул бывшего ефрейтора за дырявый рукав неопределенного цвета:
— Слышь, Валера, ты тут чашку прополощи пока, а я схожу погляжу — нет ли чего для моих снадобий полезного… Если трудно будет — вот, можешь афганцев припахать!
Сироткин кивнул. Вторую — курсантскую — бочку с дерьмом волокли двое новеньких — пленные афганцы, появившиеся в крепости буквально пару дней назад. Никто толком о них ничего и узнать не успел, ни как зовут, ни кто такие. Но на неграмотных солдат они вроде бы не походили. Афганцы с курсантской бочкой шли «вторым номером», сильно отставая от Джелалуддина с Мастери. Когда Глинский подошёл к мусорной траншее, афганцы ещё даже не дошли до места слива нечистот. Охранники на отлучку Бориса от вверенной ему бочки посмотрели сквозь пальцы: все знали, что Абдулрахман везде, где можно, собирает всякую дрянь для своих чудодейственных комочков.
Охота этому знахарю-целителю в мусоре копаться — пусть себе копается! Всё равно он там ничего ценного не обнаружит. По этому мусору уже не один десяток курсантских ног прошёл, моджахеды — ребята небогатые, всегда проверят, нет ли чего ценного на поживу, так сказать…
Глинский не знал, что он ищет. Он просто надеялся, что натолкнётся на что-то, похожее на знак, на сигнал… Борис очень ждал весточку от Родины, доказательство того, что о нём помнят, что его не забыли, что «мероприятие, шифр „Виола“ продолжается…».
«Виола»…
Глинский успел сделать всего несколько шагов по плотно слежавшемуся мусору, как едва не наступил на смятую пустую круглую пластиковую коробочку от хорошо знакомого финского сыра. А рядом валялась ещё одна… и ещё… Борис нашёл целых три пустые упаковки. И на каждой было написано «Viola». Эти пять латинских букв на трёх помятых пластиковых крышках пробили Глинского насквозь. Он даже за грудь схватился, так сердце застучало.
«Мать моя… Виола… Виола, черт меня побери! Виола!! Это сигнал… Точно-точно… Пять букв — май, может 5 мая? Не бывает таких совпадений… Сначала „хванчкара“, теперь „виола“… Генерал ещё на даче смеялся, обещал пару коробок прислать… Вот, снова прислал! Значит, Мастер был где-то рядом. Значит, всё в порядке, мероприятие шифр „Виола“ идёт своим ходом… Значит, Родина получила сообщение… Родина ждёт… Господи Боже, сущий на небеси… Бисми Ллахи ар-Рахман ар-Рахим…»
Борис поднял одну крышечку и долго смотрел на изображенную под названием «Viola» улыбчивую блондинку, словно пытаясь у неё получить ответ на мучивший его вопрос. Но блондинка не давала ответа, только улыбалась…
«А вдруг это никакой не сигнал, вдруг это просто совпадение, а я напридумывал? „Виола“ — известная марка, чёрт его знает, кому финны поставляют этот сыр… Может, „духам“ напрямую… А что? Вон сколько моджахеды подарков получили из Дании, от Датского общества помощи беженцам… Почему там, на „даче“, мы не проработали, какие и от кого сюда поступают гостинцы? Почему я раньше не пришёл на эту свалку? Какой я после этого разведчик? Про помойки-то на „даче“ мне говорили… Так, погоди. Хорош пеплом голову посыпать. Финны. Финны — не датчане, они больше от Союза зависят. Они с „духами“ тупо так, впрямую хороводиться не станут… А датчане или ещё кто… Зачем им финский сыр посылать? У них свой есть. Они поддержат, так сказать, „отечественного производителя“… И потом, на крышке баба изображена. Блондинка. Для моджахедов это чистый „харам“.[111] Они бы такую поставку не приняли… Или приняли бы? Жрать захочешь — сожрешь и то, где баба нарисована и на чём красный крест стоит… Так это сигнал или нет? Похоже, все-таки сигнал… Сигнал на что? Господи, может, я просто схожу с ума?..»
Борис сунул крышечку с блондинкой за пазуху, прошёлся на всякий случай вдоль всей траншеи и, не обнаружив ничего интересного, вернулся к Сироткину. Тот уже почти домыл бочку и вытаскивал её из лужи. Глянув на подошедшего Мастери, бывший ефрейтор удивлённо вскинул брови:
— Ты чего?
— А чего я? — не понял Глинский.
— Ну видуха у тебя… Будто шайтана там на свалке повстречал.
— А… да нет, не шайтана… Там упаковок от жратвы полно, вот в животе и засосало.
Валера понимающе кивнул:
— Насчёт живота… Ты от поноса дашь мне что-нибудь?
Борис сделал вид, что рассердился:
— Да что ты заладил! Сказал же, дам… В крепость вернёмся, и дам… С собой не таскаю.
— Просто срать всё время хочется. Даже больше, чем жрать…
— Хочется-перехочется. Потерпи. В крепость вернёмся, там и… Давай, запрягайся…
Возвращались они заметно быстрее, чем шли на свалку, пустую бочку тащить было легче. Тем не менее продолжить начатый по пути из крепости интересный разговор всё же удалось.
— Слышь, Валера, а остальные наши? В смысле чё-как?
Сироткин словно ждал этого вопроса.
— Ну, Нисмеддин и Исламуддин… В смысле Вася и Валя-переводчик, они, конечно, ссут, но вроде не суки…
— А этот… Мухаммед… как его… Олег, кажется…
— То-то и оно, что кажется… Сам видишь, он здоровый, но ни сказать, ни показать толком ничего не может… Я уж и не знаю, сечёт ли он куда попал и что происходит…
— А остальные?
— А что остальные? «Чёрные», ну эти… Карим и Асадулла — они вообще с левой резьбой. Армян — тот просто мутный. Реально мутный. Карим — он не то чтоб мутный, но ебанутый какой-то. Хуй его знает, что он выкинуть может… А Файзулла, Володя который, — он совсем сломался. Он уже «пластилин». Его ж «овцой» хотели сделать для «духовского» «футбола». Причем два раза, прикинь? Ну и он всё, посыпался…
Глинский в очередной раз удивлённо хмыкнул: таких толковых и в целом совпадающих с его собственными выводами характеристик на наших пленных ему ещё ни от кого слышать не доводилось.
Борис взглянул на долговязого и нескладного ефрейтора другими глазами…
…В крепости он отдал Валере три припрятанных комочка и добавил от себя очень тихо:
— Передай нашим, которые нормальные… Если «духов» рядом нет — называем друг друга русскими именами.
— Угу, — кивнул Валера и умчался «обновлять» помытую бочку, ему, видать, здорово приспичило, удивительно, что он вообще до крепости дотерпел…
После заката, уже в камере, Глинский достал спрятанную сигарету и закурил. Такое он позволял себе не часто, но сегодня… сегодня был особенный день. Борис достал крышку с изображением блондинки и долго разглядывал её в слабом свечении тлеющей сигареты…
В углу на своем матрасе скорчился Абдулла. Глинский чувствовал, что парнишка не спит, и поэтому спросил негромко:
— Курить будешь?
Гафар что-то промычат, что именно — непонятно, ясно было только, что от сигареты он отказывается.
— Ну как знаешь… Больше, парень, мне тебя угостить нечем…
Гафар несколько раз прерывисто вздохнул и тихонечко заплакал. Борис переместился к нему поближе и осторожно начал поглаживать мальчишку по голове. Абдулла сначала дёрнулся, а потом ничего, разжался постепенно. Глинский начал осторожно надавливать пальцами на определенные точки. Мало-помалу всхлипы перешли во вздохи — сначала прерывистые, а потом всё более и более спокойные… Наконец, Гафар уснул. Борис перебрался к себе на матрас и даже не заметил, как сон сморил и его…
Без сновидений, конечно же, не обошлось. И стоит ли удивляться, что «темой дня» (точнее темой ночи) стал этот самый чёртов финский сыр!
Борису приснилось, что он дома, что сидит за столом и собирается намазать на хлеб плавленый сыр. Только собрался коробочку открыть, а сзади голос… до боли знакомый голос: «Погоди, не открывай!»
Глинский пытается обернуться на голос, но почему-то никого не видит… «Почему „не открывай?“» — «Потому что настоящая Виола — это я… Значит, я и должна быть на крышке нарисованной… Я… Потому что это я — Виола!» — «Погоди, Виола… Где ты? Не прячься… На крышке финны блондинку нарисовали. А ты — брюнетка… Смысла нет… У девушки цвет волос, как цвет сыра… В этом идея…» — «Какая девушка, Боря! Очнись! Посмотри, кто там!» Борис ещё раз глянул на крышку коробочки, а и правда, нету там никакой блондинки… Зеленоглазый «англичанин» с крышки смотрит, усмехается… А в самой коробочке будто что-то шевелится, вроде жуков каких-то или пауков… Вот сейчас они из-под крышки выберутся, вот сейчас! И у «англичанина» улыбка всё злораднее, всё шире… А на Глинского словно морок какой нашёл — смотрит на коробку и пошевелиться не может… «Боря?!» Словно очнулся Глинский от окрика, занёс над проклятой коробочкой кулак, но ударить не успел, потому что проснулся…
До рассвета он так больше и не заснул. Не заснул, потому что засыпать боялся.
А крышку от финского сыра он от себя подальше отодвинул и ещё специально этикеткой вниз перевернул. На всякий случай…
«Ещё немного, и я точно сойду с ума… Слышишь, Родина? Родина…»
2
На следующий день в крепости с самого утра началась какая-то невероятная суматоха. Судя по спешно и абы как выставленному оцеплению, должны были пожаловать важные гости. Потом кто-то сказал, что вроде бы какие-то «серьёзные» машины к городку советников подъехали — стало быть, гости, скорее всего, американские. А зачем они сюда пожаловали? Охрана, похоже, знала не больше, чем шурави. Пленных афганцев — абсолютно всех — куда-то срочно угнали. Потом прибежал взмыленный, как никогда, Азизулла и немедленно начал орать — громко, но непонятно и бестолково. От сильного волнения и ора начальник охраны испускал из себя газы чаще и громче, чем обычно. Следом за Азизуллой в крепость забежали пятеро курсантов — без оружия, зато с мешками и каким-то здоровенным тюком.
А следом за курсантами во двор крепости въехала водовозка.
Всех шурави построили перед водовозкой, выдали несколько кусков пахнущего свежей клубникой индийского мыла, и Азизулла наконец-то внятно объяснил, что нужно всем как следует помыться. Воду разрешил не жалеть…
Эта помывка во дворе крепости (первая за всё время плена!) стала для Бориса не просто неожиданным, невероятным, сказочным удовольствием, она ему словно бы сил добавила, словно морок ночного кошмара с души смыла. Да и остальные шурави вроде как приободрились, некоторые даже разулыбались, начали плескаться, как дети. Только один Гафар, которого Борис поливал из пластикового зелёного шланга, так и не улыбнулся. Его погасшие глаза уже совсем ничего не выражали, даже тоску и боль…
Глинский три раза успел намылиться и обмыться и на этом не остановился бы, но остатки мыла отобрали охранники, неодобрительно поглядывавшие на мокрых голых шурави…
Между тем курсанты распаковывали тюк, оказавшийся большим полевым армейским шатром. Сбегав ещё и за алюминиевыми жердями, они начали устанавливать палатку прямо посреди крепости.
Голым шурави старые лохмотья не вернули, а выдали из принесённых мешков новую одежду: широкие длинные рубашки из темно-коричневого сатина и такого же цвета безразмерные штаны с низкой «тульей». Подпоясываться пришлось верёвками.
Как только помытых и переодетых шурави вновь построили, в проёме крепостных ворот появились трое американцев. Двух советников, особенно «индопакистанца» Абу-Саида, Глинский видел много раз, и они особого удивления своим визитом в крепость не вызывали. Челюсти буквально у всех шурави, включая Бориса, поотвисали потому, что чуть впереди этих советников шествовала женщина средних лет: очень сексапильная, даже можно сказать — красивая блондинка. Глинскому почудилось в её лице что-то знакомое, а потом он непроизвольно поёжился, поняв, кого напоминает американка: ту самую блондинку на упаковке сыра «Viola»…
Выходит, давешний сон вещим оказался…
Процессию «высоких гостей» замыкал начальник лагеря майор Каратулла, вырядившийся по такому случаю в гражданскую светло-серую тройку и ярко-оранжевые кроссовки. Одежду каждого из четырех «высоких визитёров» украшали здоровенные круглые (с электророзетку величиной) значки с надписью «Freedom House».[112]
Вообще-то, на Востоке значки любят, какую-нибудь блестящую цацку может и мулла нацепить, особенно деревенский, но… Но на пакистанском майоре, отправившем за годы «беспорочной службы» в Зангали на тот свет не одну сотню узников, этот значок смотрелся особенно «трогательно».
Блондинка в шёлковом платье и с элегантным портфельчиком в руках с любопытством осматривалась, советник Абу-Саид что-то негромко ей пояснял. Когда они подошли к построенным шурави поближе, Борис уловил слово «trainees»[113] и еле сдержал злую усмешку.
Американка с портфельчиком, казалось, даже не сразу поняла, что «воспитанники» — это группа бородачей в новых штанах и рубахах. Да это и неудивительно: отличить русских от моджахедов можно было только вблизи. Да и то… Лица-то у всех были одинаково выдубленные солнцем. Странного пепельно-коричневого оттенка кожа, серые лучики морщин… И у всех — бороды. Не аккуратно подстриженные модные бородки, а длинные бороды, как у старика Хоттабыча.
Блондинка, делая вид, что не замечает на себе жадные взгляды «воспитанников» и охранников, с милой улыбкой прошла в палатку. Через минуту курсанты бегом и, как говорится, на полусогнутых затащили туда три стула, длинную парту и такую же длинную скамейку, а также ковёр и даже две пиалы с фундуком и изюмом.
Азизулла, постоянно оглядываясь на советников и пакистанского майора, между тем начал отбирать «делегацию» от узников-шурави — тех, кому предстояло зайти в палатку на «собеседование» с блондинкой. Принцип отбора, которым руководствовался Азизулла, был очень простым: начальник охраны тыкал пальцем в тех, кто по внешнему виду хоть сколько-нибудь походил на нормальных людей. Таких набралось всего пятеро: Абдулрахман, Асадулла-Маркарян, Валя Каххаров, крымский татарин Каримов и Вася Пилипенко. Азизулла выбрал было и Валеру-Джелалуддина, но начальник лагеря взмахом руки выгнал его из строя. Уж больно долговязый и нескладный Сироткин напоминал персонажа с плаката «Спасите от голода!».
Вскоре всех отобранных завели в палатку. «Депутация» привычно расселась на земле, на длинную скамейку лишь покосились, поскольку сидеть по-человечески все давным-давно отвыкли.
Американка сидела с левого края длинной парты, в центре устроился Абу-Саид, справа ему компанию составлял второй советник. Каратулле пришлось стоять. Собственно говоря, он и открыл «торжественное собрание». Обращаясь в основном к американке, майор задвинул целую речь. Сначала он официально и цветисто поприветствовал гостью и уважаемых советников, а потом объяснил, что перед ними находятся «…советские перебежчики из оккупационной армии, которые добровольно приняли ислам и теперь вместе с афганскими братьями готовятся поступать в медресе, чтобы впоследствии нести в свои земли священное слово пророка». Всю эту галиматью тихонечко переводил на английский невозмутимый Абу-Саид. Он сидел прямой как палка, а блондинке и второму советнику приходилось наклоняться к нему поближе, чтобы расслышать его шепот. На фоне бредовой речи Каратуллы образовавшая равнобедренный треугольник американская команда стала выглядеть несколько карикатурно.
«Три богатыря», — хмыкнул про себя Глинский, внешне оставаясь совершенно бесстрастным.
Далее слово взяла блондинка. Она сразу представилась по-русски, и Абу-Саид снова забормотал, переводя для второго советника:
— Я — Людмила Бэрн, эмигрантка из России, отныне — представитель американской правозащитной организации «Дом Свободы».
Майор Каратулла, как обеспокоенный петух, завертел головой: русского он не знал, а переводить ему советник Абу-Саид вроде бы даже не собирался.
А госпожа Бэрн продолжила, пытаясь излучать приветливость и сочувствие:
— Ой, мальчики! Я вижу, вы израсходованы! Как вас здесь поддерживают — позитивно или драматически?
Блондинка говорила вроде бы понятно, бегло и почти без акцента, но как-то очень уж не по-русски. Точнее, не по-советски. Так говорят бывшие соотечественники после долгой разлуки с родной речью — тщательно воспроизводят грамматические конструкции и почти не обращают внимания на очевидную лексическую несуразицу. Не получив ответа на свой вопрос, американка продолжила в том же духе:
— Какие респонсы посылают из дома?
Пленные начали недоуменно переглядываться, не понимая, чего хочет от них эта блондинка. Все ведь просто отвыкли от русской речи даже в её нормальном, так сказать, звучании…
Борис почувствовал, что в палатке нарастает напряжение, и решил взять инициативу в свои руки:
— Не пишут нам. И мы ничего не пишем.
— Какая причина? — сразу оживилась восхитительная госпожа Бэрн. Глинский от такого цинизма плохо сумел скрыть усмешку:
— Не с кем письма передать.
Над группой пленных зашелестели лёгкие смешки, быстро увядшие, однако, под грозным взглядом Каратуллы. Блондинка же даже не улыбнулась. Она показала рукой на Глинского и нетерпеливо, словно для неё это было действительно важно, спросила:
— Вот вы, высокий мальчик, как вас зовут в России? Вы хотите посылать письмо для вашей семьи?
Не ожидавший такого вопроса Борис несколько растерялся, но ответил почти сразу:
— Только если разрешат написать всем. Я тут старший. Абдулрахман. А дома звали Николай, Коля.
Американка заулыбалась так, будто именно это имя было ей дороже всего на свете:
— Коленька, фантастично, фантастично! Вы имеете жалобы? Может, вы хотите сделать приватный стэйтмент, ой, простите объявление?
Глинский пожал плечами и быстро оглядел своих товарищей по плену:
— Я хочу, чтобы все русские… — тут он на секунду замешкался, не зная, как назвать себя и других, не используя слова «пленные», но потом всё же нашёлся: —…Присутствующие в этом лагере, получили право написать домой. А вы заберёте наши письма.
— О’кей, о’кей! — затараторила блондинка, доставая из своего элегантного портфельчика заранее приготовленную пачку бумаги. — Прямо сейчас.
Госпожа Бэрн суетливо обратилась к своим американским коллегам по «правозащитному движению»:
— Will you give’em these sheets.[114]
Американцы преувеличенно вежливо начали раздавать листы, шариковые ручки с надписью «Freedom House» и дощечки, на которые нужно было положить бумагу.
Между тем блондинка, словно школьная учительница, даже слегка постучала пальчиком по парте:
— Так, мальчики! Спокойность! Все помнят хорошо свои актуали в России?
Борис даже глаза прикрыл, чтобы скрыть усмешку: ну вот, всё и встало на свои места! «Ах ты моя „актуалочка“ правозащитная!» Слово «actuals», означающее «отправные данные и реквизиты», было достаточно специфическим и весьма характерным. Характерным, в частности, для американского разведцентра в немецком Гармишпартенкирхене… Про этот разведцентр когда-то очень давно, в позапрошлой жизни, рассказывал дотошный майор Беренда — он, судя по всему, там даже бывал…
«Так, милая моя „актуалочка“. Откуда ты сюда припёрлась — понятно… Нормальных правозащитников на пушечный выстрел не подпустили бы… А вот зачем ты здесь? Что тебе на самом деле надо? Что? И какую выгоду можно попытаться получить от твоего визита?.. Неужели ехать в Америку агитировать будешь?»
Погруженный в свои напряжённые размышления Борис едва не оговорился, чуть было не назвав блондинку «миссис Бэрн». Хорошо, что вовремя язык прикусил: ведь простой шоферюга, да ещё после стольких месяцев плена вряд ли бы вспомнил слово «миссис»… Это в том случае, если он это слово вообще когда-то знал…
«Хотя нет, знать-то мог… Конан-Дойля читать мог, Марка Твена… Шерлока Холмса по телевизору мог видеть… Миссис Хадсон и всё такое… Но рисковать всё же не будем, от греха подальше…»