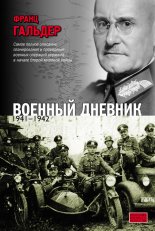Если кто меня слышит. Легенда крепости Бадабер Подопригора Борис
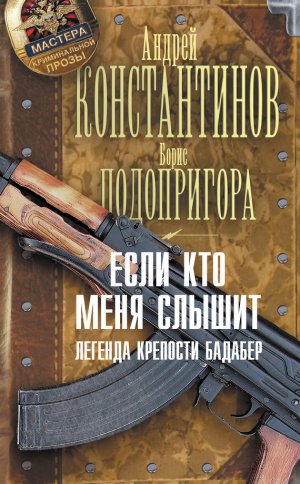
Глинский кашлянул:
— Людмила… А как мы узнаем, что наши письма дошли?
— Вас будут информировать, — она сделала ударение на последнем слоге. — Вы пишите сейчас.
Неугомонного «Коленьку» такой неопределенный ответ явно не удовлетворил:
— Ну… Тогда пусть все наши напишут, а не только те, кто здесь…
Госпожа Бэрн, не зная, что ответить, оглянулась на советников. Абу-Саид сначала перевёл вопрос своему коллеге, а потом и Каратулле, который сразу же замахал руками, едва только уловил смысл:
— Нет-нет!! Остальные — в госпитале. Врачи не разрешают. Карантин по малярии. Когда поправятся, им тоже позволят написать. Сейчас можно писать только тем, кто в палатке.
Американка отреагировала на этот бред разведением рук: мол, ничего не поделаешь, лечение — дело необходимое, раз врачи так решили, то… Борис спорить, естественно, не стал, поймав злобный взгляд «главврача» с американским значком. Чувствовалось, что Каратулла сдерживается из последних сил, что так и тянет его прервать эту встречу по любой причине, под любым предлогом… Например, из-за каких-нибудь «исламских чтений», на которые срочно нужно отправить «семинаристов», заскучавших по слову божьему. Но пока пакистанский майор всё же сдерживался…
С грехом пополам пленные начали писать письма. Как это делается, многие уже забыли, поэтому выводили какие-то каракули, спотыкались после каждой буквы и подглядывали в листки друг друга. А ещё постоянно подглядывали под парту на ноги блондинки. У неё юбка чуть подзадралась, открывая ноги в чёрных чулках с ажурной широкой резинкой. А за этой резинкой воображалось такое! Особенно когда госпожа Бэрн забрасывала ногу на ногу или стеснительно поджимала их под себя…
Что же тут удивительного? В крепости-то сидели ребята, в большинстве своём не знавшие, что такое нормальный взрослый секс.
Вот они и пускали слюни. А некоторые даже на «духовской» манер не могли удержаться, чтоб слегка мотню не потеребить…
Госпожа Бэрн делала вид, что ничего «такого» не замечает. Она величественно встала и, словно Снежная Королева, начала прохаживаться за спинами пленных, заглядывая сверху в их листочки.
Перехватив взгляды узников на её задницу, Борис понял, что, если ребятам вот прямо сейчас под руководством этой «актуалки» предложат культпоход в бордель для приобщения к ценностям «свободного мира», они согласятся в буквальном смысле на всё. И бумаги любые подпишут, и от матери родной отрекутся…
Глухо матерно выругавшись вслух, Глинский начал бойко выводить печатными буквами на своем листочке, шевеля губами, будто советуясь с самим собой, — он ещё подумал, по-русски или по-украински писать, но коль скоро в лагере он в основном говорил по-русски, решил «национальность» не менять:
«Настенька раднуличка моя. У меня всё хорошо. Дело близица к концу. Я вить молчу а ты знаешь как тебя люблю. Уже и не знаю што вам такое прописать штоб вы не безпакоились. Надеюсь дети здоровы. Как Мишка? Ты знай я ему уже давно перидал денги. Скажи дяди Вити штоб забрал у нево. Как хазяйство? Корова то ателилась? Давно бы должна…»
Нет, Глинский не был столь наивен, чтобы надеяться на доставку письма по указанному адресу. Иносказательное послание он писал — потому что так учили, в расчёте на какой-то случай. Смешно же всерьёз рассчитывать на то, что в этой «правозащитной» шайке окажется кто-то «свой». Или на то, что эта «актуальная» прошмандовка будет цитировать в эмигрантской печати отрывки из писем советских бедолаг, томящихся в плену в Пакистане… Но Бориса учили использовать любой шанс, даже самый мизерный, потому что в разведке никто никогда не знает наперёд, что именно «выстрелит».
Госпожа Бэрн зависла над «Коленькой», внимательно прочитала его каракули. Видимо, что-то ей не понравилось, потому что она тут же стала подсказывать остальным, что писать:
— Писать про хорошее здоровье. Про успехи в ваших уроках…
«…Ах ты сучка… „про хорошее здоровье“ Тебя б сюда, тварь… Через день ни сидеть, ни лежать бы не могла… Для чего ж тебе вся эта комедия? Ведь для чего-то ты же потащилась сюда… Ну потащилась, потому что велели, это ясно… Невелика шишка, чтоб самой выбирать, куда ехать… А вот те, кто велел, у них-то какой резон? Американкой соблазнять? А раньше чего чухались? Ждали, пока мы тут все психованными наркоманами станем? Думай, „Коленька“, думай!»
Наконец, все что-то написали. Людмила собрала листки, просмотрела их вскользь, а потом, вроде как неожиданно для американцев и Каратуллы, заговорщицки обратилась к пленникам:
— Может, хотите что-нибудь сказать голова к голове? Без… как это?.. мидиэйторс… как это по-русски?.. ммм… без срединников?.. без иностранных людей?..
— Без посторонних, — подсказал Глинский.
— Да, — обрадовалась блондинка, — без посторонних.
Несмотря на то что никто из шурави никак на это предложение не отреагировал, «посторонние», словно по команде, поднялись и вышли из палатки, прихватив с собой за компанию Каратуллу, плохо понимавшего, что происходит.
Госпожа Бэрн подошла к пленникам очень близко, Глинский даже глаза прикрыл от давно забытых женских запахов.
— Мальчики! Скажите правду! Вы хотите менять своё духовное решение и жить в Америке? На свободе! Это трудно, но можно!
«Браво! Какой тонкий режиссерский ход! Как неожиданно и оригинально! Эфрос с Любимовым отдыхают! Эх, „актуальная“ ты моя… „Вы болван, Штюбинг!“[115] Значит, всё же за свободу агитируем… Но зачем? Зачем мы вам нужны?»
Первым на неожиданное предложение среагировал армянин Маркарян:
— А что для этого надо?
Блондинка мило улыбнулась и даже чуть подалась грудью вперёд. Не до положения «стоя раком», но… прогиб спины обозначила явственно.
— Надо писать апелляцию миграционная служба Соединенных Штатов, Вошингтон, Ди-Си.[116]
— Что такое «ди-си»? — переспросил Глинский.
— Дистрикт от Коламбии… Неважно, — с лёгким раздражением ответила госпожа Бэрн и добавила уже для всех:
— Надо только писать, что живёте сейчас в Афганистане — там вы служили для Красной армии. Это будет быстро и комфортно. Я даю написать форму апелляции…
Тут уже все, даже Каримов, который ничего не слушал, а лишь пытался заглянуть гостье под юбку, проявили живой интерес.
Борис напрягся.
«Что же делать? Политическое убежище в Штатах — следовательно, отказ от советского гражданства… Значит, уже не шурави… Кстати. И не пленные… Или как? Как быть? Может, эта сука — действительно спасение для ребят? А как же тогда задание?»
Окончательно понять игру «правозащитницы» Глинскому помог очень вовремя прозвучавший вопрос Вали Каххарова:
— А на чём писать-то?
И вот тут сексапильная блондинка Люда лоханулась — может, слишком много сил потратила на эротический прогиб в спине? Кто знает… Но «подскользнулась» она глупо, мелко… Впрочем, «подскальзываются», как правило, на мелочах…
— Писать нужно на этих письмах. На стороне спины.
Она ещё не успела до конца договорить фразу, а Бориса аж дрожь пробрала — он догадался о смысле затеянной игры: «Ах ты гнида недотраханная! Нет у ребят никаких шансов! Не пойдут никуда твои „апелляции со стороны спины“. И письма тоже никуда не пойдут, потому что одно автоматически исключает другое. Ну, сука… На бумаге сэкономить решила… Нет, скорее, просто поторопилась… Не захотела выбегать за Абу-Саидом… Мы ж ей наверняка противны со своими взглядами и запахами… Мы достали её… Вот она и захотела всё как можно быстрее закончить… А торопиться не надо, милая… Поспешишь — людей насмешишь… Слышь, сволочь, людей, а не таких тварей, как ты… заботливая ты наша… Если бы вы нас на самом деле решили забрать, то вы бы нас готовили к „свободному миру“. Вы бы с нами хороводы хороводили, про классную страну Америку рассказывали… „Ах, Америка — это страна, там гуляют и пьют без закуски…“ Откуда это? Из „Двенадцати стульев“ или из „Золотого телёнка“? Не помню… Не важно. Важно то, что вы бы старались, чтобы мы позабыли, как трупы за ноги из крепости вытаскивали. Вы бы приодели бы нас, как людей, подкормили… А тут у половины зубов-то не осталось… И на бумаге бы вы не экономили, дорогая ты наша „правозащитница“! И потом, если их… то есть нас… вывезти в Штаты — как объяснить, откуда мы взялись? Нет, коллега… Если у вас и есть какой-то замысел, то отнюдь не гуманитарный, а какой-то… иезуитский, с дальним расчётом. Вряд ли эту красотку „выпнули“ сюда для оценки степени бесперспективности здешнего „человеческого материала“. Это и так ясно из донесений американских советников. Скорее всего, они засуетились из-за предстоящего „высокого советского визита“ в Пакистан.
Вдруг кто-то из бывших здешних курсантов попал бы в советский плен и там „колонулся“, что видел в Зингали пленных шурави? Может пойти шорох… А на этот шорох — раз, и вот вам документы: это были не пленные, это были перебежчики, они действительно в Зангали находились, отдыхали, приводили себя в порядок в „мусульманской обители“ после „кошмаров колониальной войны“. А в „свободный мир“ они попросились ещё раньше, в Афганистане… Разве истинные правоверные могли им отказать в приюте? Сам уважаемый Раббани предложил им погостить в Зангали, пока не поступит разрешение на выезд в западную страну. Вот копии заявлений и разрешений. Хотите — проверяйте. Ах, где сейчас эти перебежчики? Своё местопребывание они не раскрывают. Да. Боятся, что КГБ будет мстить им и их семьям, ну вы же понимаете… Поэтому они предпочитают считаться без вести пропавшими… Неужели не понятно?»
Понятно-понятно… теперь как раз всё понятно. Жопы себе захотели прикрыть нашими заявлениями, суки… Хер тебе на воротник, Людочка! Твою жопу не прикрывать, её трахать надо… Прям в очко… Как там «Иван Грозный» приговаривал: «В туза!»
Как ни зол, как ни напряжён был Борис, а мысли инстинктивно всё же сворачивали на сексуальную дорожку. Инстинкты — они инстинкты и есть, даже в таких диких условиях и в такой, мягко говоря, напряженной ситуации. Все эти мысли с невероятной скоростью промелькнули в мозгу Глинского, и он грубовато сказал американке:
— Не-не… Погоди-ка… А как же письма? Не может быть, чтобы с одной стороны — домой, а с другой — в Америку… Не-е. Я так не согласный…
Все, кроме Маркаряна, поддержали Мастери недовольным гомоном.
Госпожа Бэрн, уже поняв, что сморозила глупость, отскочила к парте и подняла руку, пытаясь всех успокоить:
— Будьте спокойно! Будьте спокойно! Нет ваш статус громко апеллировать!
Кажется, что-то дошло и до Васи Пилипенко, по крайней мере, в его вопросе почудилось Борису даже нечто похожее на иронию:
— А какой у нас статус?
«Правозащитница», всё больше и больше утрачивая контроль над ситуацией, аж вспотела.
— Ну, мне дали брифинг, что вы… как это?.. приёмные люди.
— Ага, — без улыбки кивнул Глинский. — Так и есть. Приёмыши-заморыши. Подкидыши-найдёныши.
Тут уж даже Маркарян от смешка не удержался, а Вася Пилипенко, откровенно усмехаясь американке в лицо, сказал, как выплюнул:
— Ну вы, тётя, блядь, даёте… Вы глаза-то откройте. Приёмные люди… Вы к кому пришли? Пленные мы, чё тут комедию ломать…
Госпожа Бэрн, как ошпаренная, выскочила из палатки, должно быть, побежала жаловаться своим соотечественникам. Наверное, на невоспитанность «воспитанников».
Через пару минут в шатёр ворвался Азизулла, злой как чёрт, и сразу же принялся всех без разбору лупить своим стеком. Впрочем, лютовал «рояль-пердун» (так его уже давно окрестил Борис) недолго — злость сорвал, а дальше уже более спокойно вытолкал из палатки всех, кроме Маркаряна. Остальных отогнали к крепостной стене. Оттуда пленники видели, как «правозащитница» вернулась в шатёр. Не выходила она из палатки долго, минут сорок.
Всё это время Абдулрахман, косясь на присевшего неподалеку у стены Азизуллу, пытался распропагандировать узников:
— Не-не, мужики, тут херня какая-то. Ежели домой — то домой, это — одна песня… А при чем тут Америка? Это ж совсем другая… Мы ж советские люди… У нас родители есть… Сами ведь писали… Ждут ведь нас…
Пленные слушали его и словно просыпались постепенно. В их глазах стало появляться что-то живое, человеческое… Даже Азизулла, видимо, что-то почувствовал, потому что внезапно вскочил, подбежал, замахнулся стеком и заорал:
— Всем молчать!
И звонко пукнул в подтверждение своей крутости и брутальности.
И ведь вот какой гадёныш — мало того что пукнул, так ещё и начал пристально в лица пленников всматриваться, ища хотя бы намёк на насмешливую улыбку.
Ситуацию несколько разрядила вышедшая из шатра госпожа Бэрн. В руках она победно несла заполненный Маркаряном листок:
— Остальные мальчики! Смотри здесь, это надо. Чтобы быстро писать. Ашот — умный мальчик, он уже сделал…
Драгоценный листок американка из рук не выпустила. Она вытянула руки с бумажкой вперёд и словно превратилась в живой «боевой листок». Пленные, чтобы разобрать каракули Маркаряна, вынуждены были сгрудиться совсем тесно. Текст просто потрясал своей лаконичной убедительностью: «В миграционную службу С.Ш.А. От военнослужащий Армии Советского Союза в Афганистане рядовой Маркарян Ашота. Просьба. Прошу предоставить политическое убежище в Соединенных Штатах Америки. Я ушел в горы, в Афганистан. Потому что не хочу окулировать афганский народ, который меня заставляет советский режим и командиры войск С.С.С.Р. Я предпочитаю радоваться свободе. Чем претерпеть коммунистическое тиранство. С.С.С.Р. посылает из-за этого в тюрьму ГУЛАГ. Передаю эту просьбу через дружественный коммуникатор».
Далее следовала подпись — «Аса…» — зачёркнуто и чуть ниже выведено: «Маркарян Ашот». И добавлено: «водитель все категории».
Блондинка Людмила с заметным раздражением ждала, пока пленные дочитают этот «крик души» до конца. Потом сделала морду полюбезнее и пригласила в шатер Васю Пилипенко, назвав его «шановным паном». Он вышел обратно буквально через пару минут, ничего не сказал, но незаметно подмигнул Борису. Потом вызвали Карима. Его обрабатывали минут двадцать, но с тем же результатом. За ним настала очередь Вали Каххарова. Минут через десять он молча вышел, прямо взглянул Глинскому в глаза и еле заметно покачал головой. А вот самого Абдулрахмана в палатку даже не пригласили. Видимо, «тетя Люда» на него сильно обиделась.
Ашота-Асадуллу, как именинника, отделили от остальных и отдали ему фундук и изюм. «Водитель все категории» прикончил обе пиалы секунд за двадцать…
А госпожа Бэрн ещё долго разговаривала с американскими советниками и майором Каратуллой. К крепостным воротам она пошла быстрой, какой-то дёрганой походкой, со злыми глазами. Глинский проводил ее фигуру тяжёлым, недобрым взглядом: «Давай-давай… шевели жопой, милая… и помни, что слово „сосать“ по-русски пишется с мягким знаком на конце… Четыре — один, милая… С вот таким вот счётом ты эту партию просрала со всеми твоими „апелляциями“».
3
Разумеется, после этой истории Борис понимал, что его «акции» в глазах лагерного начальства упали ещё ниже. Ему оставалось только надеяться на то, что он успеет дотянуть до начала финальной стадии операции «Виола». Но с каждым днём эта надежда таяла. Азизулла смотрел зверем и, наверное, давно бы шлёпнул Мастери, если б не его золотые руки и неиссякаемый поток заявок на ремонт раздолбанных машин. Глинский это понимал и старался изо всех сил, просто настоящие чудеса творил…
Между тем в лагере и в крепости воцарилась какая-то странная, нервозная обстановка, «духи» будто ждали чего-то. К американским советникам всё время кто-то приезжал, да и сами они зачастили в крепость. Абу-Саид — так тот вообще чуть ли не каждый день захаживал, а иногда и не один раз… Хоть как-то понять, что происходит, помогли новенькие, пленные афганцы Аман и Рашид, те самые, которые ходили вместе с Глинским и Сироткиным к луже — бочки от дерьма отмывать. Оказалось, что эти двое — ребята совсем даже не простые…
Аман был джэктураном, то есть старшим капитаном в бабраковской армии, командовал ротой, но в партию не вступил. Между прочим, он состоял в близком родстве с влиятельным среди пуштунов-баракзаев бандглаварём Нурсаидом Пирузи.[117] Аман был единственным пленным офицером-афганцем, не учившимся в Советском Союзе. По-русски он, тем не менее, кое-что понимал. Его разоружили и привели в банду его же подчиненные унтер-офицеры, представители его же родного племени. Они сначала зарезали замполита-таджика, подловившего их на наркотрафике, ну а потом уж и деваться некуда было. Около месяца Амана прикармливали-переубеждали и даже всем объявили, что он сам привёл к «братьям» целый отряд. Но старший капитан всё же не согласился повернуть автомат против своих. Тогда его перевели в Зангали. Правда, всё равно его прессовали не так, как других пленных, — на него всё ещё имелись кое-какие виды, ему всё ещё предлагали набрать отряд из курсантов-баракзаев. Аман делал вид, что колеблется… Кстати, когда-то он служил в том же полку, что и Азизулла. Но начальника лагерной охраны он откровенно презирал, а тот вроде как слегка побаивался этого весьма независимого джэктурана…
Второй, Рашид, был ещё более экзотичным персонажем. Его полное имя понимающему человеку говорило о многом: Рашид Абд-аль-Кабир аль-Кундузи. Рашид, хоть и жил в Афганистане, принадлежал к самому знатному арабскому роду города Кундуза и даже являлся дальним потомком не кого-нибудь, а самого пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и да приветствует… Рашид закончил ташкентский университет, вернулся домой и работал инженером в дорожном управлении. В партию не вступал и политики сторонился. Моджахеды захватили его прямо дома, а соседям доходчиво разъяснили, что он сам «по зову сердца и крови» перешёл на сторону «сражающихся братьев». Моджахеды хотели сделать его руководителем всех арабских отрядов Северного Афганистана. Но Рашид не согласился, несмотря на то что его домочадцы стали двойными заложниками — и моджахедов, и кабульской власти. Уламывали его долго, но не сломали. Рашид помнил, что он ведь Аль-Кундузи… Честь сохранил, но оказался в Зангали.
Так вот, эти новенькие пробыли в крепости недолго, но успели узнать много интересного. Аман, общаясь с курсантами-баракзаями, которыми ему предлагали покомандовать, выяснил, что через пару недель всех их отправят в Афганистан. А пленных, тех, кто покрепче, якобы решили передать в банды в качестве тягловой силы и на обмен-продажу. Ну а доходяг — тех просто кончат, не нести же их на носилках…
А Рашиду удалось подслушать разговор двух прибывших в лагерь арабов — их вроде как советниками назначили. Эти арабы Рашида за своего не признали, поэтому говорили в полный голос, не стесняясь. Известное дело, арабы только себя настоящими мусульманами считают, а все остальные — это так… Второго сорта люди, не понимающие благородную арабскую речь, стало быть, не способные в полной мере ощутить благодать, заключенную в сурах священного Корана… Спесь многих подводила…
Так вот, эти важные арабы открыто говорили, что через десять дней лагерь должен быть очищен «от грязных и лишних». Кого они так «классифицировали» по категориям, Рашид не понял, но в ходе совсем не случайного разговора явственно услышал, что моджахедам предстоит организовать подход действующих в Афганистане банд к местам их встреч с пакистанскими «братьями» — причём на афганской территории. Дело в том, что не всем моджахедам и в Афганистане, и в Пакистане разрешалось пересекать границу…
Этими своими новостями Аман и Рашид поделились с Абдул Хаком, а тот пересказал всё Борису. И не просто пересказал, а с «добавочкой» — при очередном вывозе нечистот подполковник увидел на свалке коробку из-под батарей для радиостанции. Абдул Хак предположил, что дополнительная радиосвязь могла понадобиться в случае отправки из Зангали в Афганистан большого «контингента» с большими планами… А ещё Абдул Хак слышал от земляков, что вскоре для встречи с беженцами в Пешавар должен прилететь не кто-нибудь, а президент Афганистана Бабрак Кармаль. «Зачистить» на всякий случай Зангали могли и к его визиту… Неужели лагерь действительно собрались ликвидировать? Такие слухи ходили и раньше, но они никогда не были такими детальными… И на конкретные источники никто раньше не ссылался.
А на следующий день после того… как Абдул Хак поведал Борису эти тревожные новости, во внутренний периметр лагеря аккурат в полдень въехали пять грузовиков с зарешечёнными окнами на кунгах. Но выпрыгнули из них не моджахеды, а пакистанские солдаты, чего раньше никогда не бывало, по крайней мере на памяти Глинского. Борис занервничал, испугавшись, что прямо вот сейчас может начаться эвакуация учебного центра, но оказалось, что в грузовиках привезли боеприпасы.
Причем столько! Такого количества патронов к китайским «Калашниковым» и выстрелов к самопальным пакистанским гранатометам в Зангали не завозили никогда.
Абдул Хак, быстро понявший, что всю эту «радость» разгружать придётся узникам, предположил, что у моджахедов произошёл какой-то сбой.
— В мозгах у них сбой, — хмуро отозвался Глинский, пристально разглядывавший грузовики. — Разгружать-то вот это всё будем мы, только вот интересно, куда?
Вопрос был и в самом деле не праздный. Лагерный курсантский склад ещё не достроили, а боеприпасы — вот они… Придётся сначала крепостные склады забивать под завязку, а дальше-то что?
Борис задумался:
«Так-так… Чего-то я не понимаю… Если лагерь забивают под завязку боеприпасами — это явно не под визит наших… Или наоборот, именно под него? Чтобы хоть временно, но обозначить лагерь как пакистанский военный склад! Ну да! Исламабад и Раббани решили обезопасить себя от излишнего любопытства возможных посетителей. Сунут нос русские аэродромщики, а им: нельзя, мол, уважаемые, строго охраняемый военный объект, ближе, чем на 500 метров, не приближаться… Ну а если дорогие гости всё же заподозрят уважаемых мужей в помыслах шайтана, то из чувства дружбы с великим советским народом, так и быть, покажем всё, как есть. Видите — склад армии Пакистана. Никого посторонних нет. Ничего, связанного с аэродромом. Да, есть американские советники-вооруженцы. Они работают как раз на складе. Консультируют. Как регламенты хранения соблюдать. А чего тут такого военного? Советские советники тоже так… консультируют… по всему миру… А пленных нет и не было никогда. Да и откуда им взяться на пакистанском-то сугубо оружейном складе? Да, дела… Куда же они нас на самом деле собираются деть? И когда? Вот в чём основной вопрос: когда?»
Глинский не мог найти ответы на мучившие его вопросы и от этого мрачнел всё сильнее и сильнее…
Грузовики они разгружали до самого вечера, и к концу работ даже не «заглушенный» уколами Мастери едва не упал замертво. С ним в паре оказался Мухаммед — тот странный здоровяк, раненный в рот и в шею. А ещё у него не было двух пальцев на правой руке — их ему отрубил хазареец Юнус, чтоб больше стрелять не мог… Ходили слухи, что этого парня взяли с боем… Сколько ни прикидывал Борис «параметры» этого бедолаги на свою мысленную «картотеку» без вести пропавших — ничего не получалось. Видимо, этот белобрысый здоровяк просто не успел попасть в «дачные» карточки. С учетом того, что представляла собой советская военная бюрократия, ничего удивительного в этом не было…
Бешеный темп работ по разгрузке боеприпасов объяснялся просто — «духи» хотели, чтобы грузовики с военными пакистанскими номерами как можно быстрее покинули лагерный периметр. Ведь Пакистан формально соблюдал нейтралитет в отношении происходящего в Афганистане… мало ли что те же курсанты сморозят, попади они потом в плен к шурави…
А ящиков было так много, что часть их пришлось даже затаскивать прямо на крепостную стену и размешать возле постов охраны.
Когда управились с последним ящиком, Борис опустился прямо на землю, потому что ноги просто отказывались его держать. Рядом с ним примостился и Мухаммед. Этот парень и впрямь оказался необычайно здоровым — после каторжной пахоты у него ещё хватало сил на разговоры, если так можно было назвать его мычание и гукание. Он несколько раз ткнул обрубком пальца в образок, выколотый на предплечье Глинского, и выдал набор звуков на целый монолог. Слов Борис, конечно же, не разобрал, а вот интонация, ритмический строй непонятных фраз, как ни странно, показались ему смутно знакомыми… Будто когда-то давно Глинский уже слышал похожий бубнёж… Когда кто-то что-то долго рассказывал… Причём рассказывал один… Где же это было? Борис так ничего и не вспомнил, но вгляделся в Мухаммеда повнимательней:
— Ну, что ты хочешь мне сказать? У тебя такой же образок был? Мама перед Афганом дала?
Парень обрадованно закивал.
— И что — потерял?
Мухаммед качнул головой.
— А что ж, не потерял — значит, украли?
Снова кивки.
— В Афгане уже? Нет? В Союзе ещё? Опять нет? А где же, если не в Союзе и не в Афгане? На пересылке, что ли?
Белобрысый опять закивал и замычал обрадованно, а Борис аж сжался, словно от какого-то странного предчувствия: ведь татуировку-то ему накалывали с того самого маленького картонного образка, который он случайно подобрал на пересылке в Тузели… Раз Борису предстояло стать «Николаем», то и Никола Чудотворец оказался в самый раз. Неужто он и впрямь образок этого парня тогда нашёл? И его судьбу, получается, подобрал. По времени вроде сходится…
Борис помотал головой: «Да ладно… Ерунда всякая мистическая в голову лезет… Этих образков — десятки тысяч напечатали… И каждому второму солдату, если вообще не каждому, мать как оберег вручала… на войне все комсомольцы-активисты очень быстро молитвы разучивали. Это просто совпадение…»
Вслух же он спросил глухо, потому что голос как-то вдруг сел:
— Ты сам-то откуда, парень? Где призывался?
Мухаммед забубнил что-то непонятное, и Борис попросил:
— Ты на земле напиши… Сможешь?
Здоровяк кивнул и большим пальцем правой руки начал выводить на песке буквы. Глинский как-то даже особо и не удивился, прочитав получившееся слово: «Таруса». Потом он долго молчал, словно не решался задать следующий вопрос. Однако всё же задал его:
— Адрес свой помнишь?
Мухаммед угукнул и старательно вывел на земле «Светска 55».
«Не может быть! Этого не может быть! Олег… Здравствуй, брат… Как же тебя угораздило-то, парень. Бедная Людка, за что ж так-то… На одну голову всё…»
Пауза затягивалась. Мухаммед, вернее уже Олег, вдруг ткнул пальцем в плечо Глинскому и тут же в написанное на земле слово «Таруса». И забормотал что-то вопросительное.
— Что? Я? Да, бывал в Тарусе. Пару дней. Машину туда перегонял. ЗИЛ-130, понимаешь?
Парень медленно кивнул, но вот смотрел как-то странно, словно какого-то другого ответа ожидал.
«Нет-нет… Он меня никогда не видел. Людмила только рассказывать обо мне могла, у неё даже фотографий-то моих не было… Или были? Когда она у нас на даче прибиралась, теоретически могла какую-нибудь прихватить… Хотя вроде ничего не пропадало… Да и кого можно узнать по старым фотографиям… Мы теперь все совсем не такие, как на снимках. Нет, он опознать меня не может, это точно… И я ему ничего сказать не могу, хватит и одного Гафара… Прости, брат. Прости».
Борис выдержал взгляд парня — Аллах свидетель, это было нелегко. Но Глинский справился, ни один мускул на лице не дрогнул. Вот только голос подвёл — даже откашляться пришлось.
— Тебя вроде Олегом зовут? Как же тебя, парень, угораздило сюда-то попасть?
Мухаммед кивнул, вывел на земле три буквы — «БТР», а потом всплеснул руками и промычал что-то вроде «бух-х».
— На бэтээре подорвался? Эх ты, бедолага… Ты держись ко мне поближе, понял? И силы береги. Они ещё могут пригодиться. Тебя дома ждут, значит, дожить надо. Раз ты на бэтээре подорвался, но выжил — значит, ангел тебя бережёт и Бог не хочет твоей смерти… Что ты хочешь сказать?
Олег разразился длинным монологом, из которого Борис ничего не понял, но ему показалось, что парень с ним спорит.
— И не спорь со мной. Если я говорю, что Бог не хочет, значит, так оно и есть. Я старше, мне виднее. А ты… Ты держись ко мне поближе, понял?
Олег кивнул.
— Ну вот и молодец. Ничего, продержимся, братишка.
В глазах у калеки заблестели слёзы, да и Глинский вдруг еле сглотнул образовавшийся в горле ком.
…На самом деле Олег не спорил с Борисом, он просто пытался рассказать обстоятельства своего пленения. Он не просто подорвался на бэтээре, он ещё и застрелиться пытался, и как умудрился выжить, сам не понимал. А дело было так: его всё-таки решили забрать с той самой заставы, что с родником, — водителей не хватало. Вот он и ехал в колонне. Цепочка машин шла по ущелью, и Олег трясся в замыкающем, чуть отставшем бэтээре. Его-то «духи» и отрезали завалом, а потом ещё и подбили. Свои помочь не смогли. «Вертушки» вызвали, но они же не по щелчку пальцев прилетают… Пытались отстреливаться, как могли, потом стало ясно, что «духи» нацелились их живьем брать. Прапорщик закричал, что надо стреляться… Ну и всё… Очнулся уже на верблюде с простреленным языком, разорванной щекой и поврежденной шеей. «Духи» были уверены, что шурави все равно умрёт, поэтому даже особо лечить его не пытались… Ну а пальцы ему отрубили уже в Зангали…
Борис не понял, что пытался ему рассказать Олег, но, даже если бы и понял — что бы это изменило? Ещё больнее бы ему стало. Так вроде больнее-то уже некуда. И так уже и сердце сбоить начало, и с нервами полный караул… Что добавила бы ещё одна зарубка на сердце, на котором и так уже живого места не осталось?
…В ночь после этого перевернувшего душу разговора Глинский почти не спал. Он очень устал, он смертельно вымотался, но тяжелые мысли отгоняли сон. Борис понял, вернее, осознал очень ясно и чётко, что его взгляд на пленников очень сильно изменился. Характер задания предполагал, что пленные — это всего-навсего «объекты», а теперь он стал видеть в них людей, живых пока ещё людей… Пока ещё живых…
«…Кто же я теперь: разведчик, выполняющий важное задание Родины, или просто утешитель этих несчастных? Совместить-то, может, и не получится… Если бы Люда узнала — она бы никогда меня не простила… И родители этих ребят тоже бы не простили меня… Ведь главная задача — не вытащить этих бедолаг отсюда живыми, а зафиксировать факт нарушения Пакистаном нейтралитета… Ну и если получится — и вытащить тоже. Вот эту „непервоочередность“ мне и не простили бы… Но я же не сам по себе так всё придумал… Я — офицер, я выполняю приказ. Я выполняю задание Родины… Родины… Где же ты, Родина?»
4
Американцы, судя по всему, не удовлетворились более чем скромными результатами посещения крепости «правозащитной делегацией» во главе с госпожой Бэрн. Видимо, мистера Абу-Саида и его начальников всё же беспокоило отсутствие документальных свидетельств «ненасильственного удержания советских перебежчиков» в лагере. А ведь без этих свидетельств, случись что, могли возникнуть проблемы и у Раббани. Пакистанский президент Зия-уль-Хак явно благоволил другому лидеру моджахедов — пуштуну Хекматияру, а вот он-то как раз не то чтобы не ладил с американцами, но… Им было проще с Раббани. Эти или какие-то ещё соображения подтолкнули мистера Абу-Саида к идее сделать несколько «пасторальных» постановочных фотоснимков — что само по себе и не так важно. Важно то, что на следующий день после разгрузки боеприпасов американский советник заявился в крепость с фотоаппаратом и накачанной волейбольной камерой. Абу-Саид о чём-то долго говорил с Азизуллой и Хусейном, новым помощником Каратуллы, а потом пленников вывели из крепости на поле для «бузкаши». Узники испуганно переглядывались, и только Борис начал кое о чём догадываться…
«А ты, оказывается, затейник, мистер… Хочешь пофотографировать, как мы тут славно и беззаботно проводим время… „Приемыши-подкидышы“ играют в футбол и развлекаются… Лучше бы ты сфотографировал, как мы сытно жрём…»
Абу-Саид бросил мяч на землю и коротко приказал:
— Играйт.
Шурави начали вяло перепасовываться. «Индопакистанец» защёлкал камерой, но, видимо, его что-то не устраивало — то ли хмурые лица пленных, то ли их медленные, неуклюжие движения. Несколько раз американец взмахивал руками, призывая играть повеселей, а Азизулла после этих жестов выскакивал на поле со своим стеком — но всё было без толку. Судя по кислой роже мистера Абу-Саида, он сильно сомневался, что сделанные снимки смогут кого-то в чём-то убедить. И тут Глинского то ли чёрт попутал, то ли, наоборот, ангел что-то в ухо шепнул — это, как говорится, с какой стороны посмотреть. Борис даже осознать-то толком не успел пришедшую в голову идею, а не то чтоб толком обдумать её:
— Мистер! Мистер! Уважаемый Абу-Саид!
Американец с учтивым вниманием взглянул на Мастери: мол, чего тебе?
— Мистер, — быстро заговорил Глинский, торопясь донести свою мысль до удара стеком, — а давай мы с охраной сыграем! А? Чтоб по-настоящему… Ну чтоб азарт был… Азарт нужен, интерес… Понимаешь, чтоб интересно было… Настоящий футбол, понимаешь? Реальный. Ну… Реальфутбол. Мы и они. А?
Азизулла уже замахнулся на Абдулрахмана стеком, но советник остановил удар.
Видно было, что предложение заинтересовало его. Он взял Азизуллу под руку, отвёл его в сторону и начал ему что-то говорить.
Начальник охраны лагеря от идеи футбольного матча между пленными и охранниками в восторг не пришёл — это очень мягко говоря. Он даже руками замахал от возмущения: ну как же, ведь разрешить матч — это значит, пусть на время, пусть формально, но всё же уравнять в правах афганцев и этих вонючих безбожных шурави, это недопустимо, это немыслимо и неслыханно! Но тут на помощь советнику пришёл новый помощник Каратуллы — Хусейн.
Об этом персонаже стоит рассказать чуть подробнее. Нет, он относился к пленным не лучше, чем другие моджахеды. Помощником начальника лагеря его назначили совсем недавно, незадолго до визита «правозащитной делегации». По мирной своей профессии Хусейн был когда-то тренером по борьбе, и в далёкие королевские времена он даже с национальной командой на международные соревнования выезжал. Но из Афганистана ему пришлось уехать, а точнее, бежать в Пакистан ещё в 1978 году, сразу после саурской революции. Он был высокородным соплеменником последнего королевского премьер-министра, позже посла Афганистана в Советском Союзе по имени Нур Ахмед Этгемади. Хусейн даже гостил у него в Москве несколько дней, за которые успел, в том числе, посетить ресторан «Метелица», что на Новом Арбате, где ему очень понравилось. Поэтому к русским Хусейн относился не без некоторой ностальгии по прошлым временам. С другой стороны, к революции, погубившей этого самого Нур Ахмеда, и лично к Бабраку он испытывал лютую ненависть. Хусейн уже несколько лет мыкался сначала в Кветте, потом в Пешаваре и к «оккупантам» добрых чувств питать не мог по определению. Но он ощущал себя прежде всего спортсменом-«соревновальщиком», а потому идея футбольного матча показалась ему очень даже симпатичной и уместной.
Хусейн и Абу-Саид вдвоём насели на Азизуллу, но тот и слушать ничего не хотел, а формально ни американский советник, ни помощник начальника лагеря прямой приказ отдать ему не могли, поскольку не являлись его начальниками. А Каратуллы, как на грех, в лагере не было. «Диспут» заканчивался. Азизулла не сдавался, но тут ему на помощь пришёл младший брат Парван. Эх, не зря на Востоке говорят, что младших братьев надо остерегаться, а ещё больше — их жён, пусть их пощадит Аллах в своей милости!
С тех пор как Хусейн появился в лагере, Парван немедленно начал брать у него уроки борьбы. Уроков Хусейн успел дать пока немного, всего три, но Парвану и этого оказалось достаточно, чтобы вообразить себя великим «пахлаваном».[118] Великим и непобедимым. И теперь к месту и не к месту младший братец Азизуллы всем норовил продемонстрировать борцовские приёмчики и собственную крутость. Он и курсантов на землю кидал, и охранников из тех, что помладше, и, само собой разумеется, пленников, если те подворачивались под руку. Пленных он вообще считал идеальными живыми манекенами, очень удобными для отработки приемов. До Мастери он, правда, ещё не добрался, но, видимо, мысль у него такая была, вот он её и двинул: давайте, мол, уважаемые, всё решим в честном борцовском поединке. Если я, то есть «Афганистан», выиграю — никакого матча не будет, если этот наглец Мастери, предложивший свой футбол, — что ж, всё в воле Аллаха! А брату он выразительно подмигнул, намекая на то, что у Абдулрахмана шансов против него нет. Хотя бы потому, что он весит минимум килограммов на двадцать меньше. Хусейн окинул худую, но жилистую фигуру Абдулрахмана профессиональным взглядом и этак неоднозначно хмыкнул. Азизулла же воспринял это хмыкание как насмешку, как намёк на осторожность, граничащую с трусостью.
Начальник охраны также оглядел долговязую фигуру Мастери, потом оценил габариты своего явно не голодавшего братца и, соглашаясь, махнул рукой. Дескать, достали вы со своими блуднями, нет у меня сил и времени с вами, ишаками, спорить. На самом же деле Азизулла совсем не хотел ссориться с этим новеньким пуштуном Хусейном и уж тем более с мистером Абу-Саидом, которого даже сам майор Каратулла побаивался…
У Абдулрахмана спросить согласие или вообще мнение по поводу предстоящего поединка никто даже и не подумал. Кого могло интересовать его мнение? Смешно…
Бориса попросту проинформировали, поставили, так сказать, перед фактом. Мол, хочешь в футбол поиграть, животное, — победи уважаемого Парвана в честном борцовском поединке. Не получится — значит, не судьба. Значит, так Аллах захотел. Это тебе, Абдулрахман, не коробок подкидывать!
Борис пожал плечами:
— Как скажете, уважаемые… Бороться — так бороться…
Азизулла смотрел на Мастери со злорадством. Слишком уж обнаглел этот надсмотрщик, явно имевший какое-то отношение к побегу Абдуллы. И эта желтоволосая американка была им очень недовольна… Конечно, мнение этой шлюхи не аргумент, но Абдулрахман и впрямь в последнее время совсем страх потерял. Азизулла его б давно отдал на «бузкаши», но машины… Кто будет ремонтировать машины? Обидно резать пусть даже норовистую овцу, если она приносит золоторунных ягнят… А вот проучить как следует этого Мастери надо…
Перед схваткой Хусейн предложил всем помолиться. Никто, включая мистера Абу-Саида, возражать не стал. Молились долго, каждый о своём. Пленные шурави, до которых не сразу, но дошло, что происходит, смотрели на Абдулрахмана с тревогой и сочувствием. А Олег, Костя Захаров и Валера Сироткин — ещё и с затаённой надеждой. Им не то чтобы уж очень хотелось поиграть в футбол (какие игры, они еле ноги таскали!), им просто психологически важна была победа «нашего». Чтоб знали, суки…
Парван долго и картинно разминался. Борис ждал молча, лишь шеей покрутил немного. Хусейн, естественно, взял на себя роль судьи. Правда, и обязанностей тренера с себя не сложил и всё время что-то советовал Парвану — тот ему кивал как «профессионал профессионалу». Хусейн, постоянно искавший подтверждения силы, а следовательно, правоты афганцев (в высоком смысле, а не в бытовом), и сам бы поборолся с этим Мастери, молодость бы вспомнил. Но ему, высокородному пуштуну, опускаться до возни с грязным шурави было все-таки не «комильфо». Другое дело — этот таджик Парван. Жирноват, конечно, и двигается как гружённый просом верблюд, но всё же крепок и вполне может «защитить честь родины…».
Мистер Абу-Саид приготовился фотографировать — на всякий случай, для отчёта о «характерном время провождении воспитанников».
Наконец, Хусейн дал команду начинать.
Схватка вышла короткой.
Парван, абсолютно уверенный в себе, хрюкнул и сразу буром попёр вперёд. Но ему было очень, очень далеко до того прапорщика-дагестанца, из-за которого Борис не сдал свою первую проверку в Чирчике.
…Глинский несколько секунд «поводил» Нарвана, якобы отступая под его яростным натиском, а потом бросил его через себя, как говорится, «куда душа просила».
Парван, не ожидавший такого техничного, резкого и сильного броска, плюхнулся на землю, словно огромный кусок теста, — прямо на спину, да так и остался лежать, судорожно открывая и закрывая рот в напрасных попытках вдохнуть хоть немного воздуха…
Стало очень тихо. Американский советник опустил фотоаппарат и от удивления даже приоткрыл рот. Азизулла моргал и пукал. Сбившиеся в кучу шурави замерли, боясь проявить хоть какую-то эмоцию…
Глинский поднялся, встряхнулся, выпрямился и вопросительно взглянул на Хусейна. Пуштун недовольно поджал губы, но кодекс чести «Пуштун валай» не позволил ему подсуживать столь одиозно. Да ещё при этом американце, успевшем заснять эффектный бросок… Явно нехотя, Хусейн профессиональным судейским жестом указал на Мастери, отдавая ему чистую победу. И в этот момент Парван заплакал — то ли от боли, то ли от унижения, то ли от страха перед старшим братом, которого он, получается, подвёл… Борису даже жалко его стало. Это было даже по местным меркам как-то дико, чтобы взрослый здоровенный мужик в голос плакал, как ребенок. Глинский хотел было помочь Парвану подняться, но не успел — на младшего братца налетел очухавшийся старший. Налетел с криком и принялся лупить Парвана своим любимым стеком, не разбирая куда — по голове, по плечам, по рукам… Мистер Абу-Саид и Хусейн даже отвернулись из деликатности.
Надо отдать должное Азизулле — Мастери он не тронул. Каким бы он засранцем ни был, но всё же считал себя королевским офицером и какие-то внутренние понятия о чести имел. Пусть пуштуны кичатся своим кодексом чести «Пуштун валай», тем, что чуть ли не превыше самого Аллаха. Таджики — они истинные арийцы. И они тоже держат слово, что бы там про них пуштуны ни врали…
Но посмотрел Азизулла на Бориса так, что тот понял, жить ему осталось недолго.
«…Пусть так. Всё равно дело к развязке шло… Ты и до этого на меня давно зуб наточил… Сколько ты мне дней отмерил? Неделю? Да если б не твоя жадность, „товарищ капитан Пердащенков“, ты б меня уже давно шлёпнул… И ещё „завучу“ этому, Яхье, сказал бы, что сделал это исключительно ради его хорошего настроения… Только где же вы, уроды, ещё механика нормального найдёте? Маркарян вам „барбухайки“ чинить будет? Ну-ну, Аллах в помощь. Он вам напочиняет…»
Глинский храбрился, а на самом деле злился на себя, злился на своё не очень обдуманное предложение, заведшее теперь не известно куда. Разведчик не может позволить эмоциям управлять собой, не может совершать необдуманных, не взвешенных поступков. А он, Глинский, ляпнул про футбол сразу, как эта идея в голову пришла. Нет, в самой-то этой идее какие-то положительные моменты есть. Это бесспорно. И ребят расшевелить можно, и на охрану посмотреть попристальней и, так сказать, в деле. Плохо то, что ляпнул спонтанно. А с другой стороны, ляпнул, потому что такая возможность представилась. Ведь американский «коллега» тоже не каждый день в крепость с мячиком приходит. С Парваном, конечно, можно было бы и поделикатней поступить, но уж очень он напрашивался…
Борис нахмурился и как бы внутренне одёрнул себя: что значит «напрашивался»? Провоцировал, что ли? А ты, стало быть, на провокацию поддался? Плохо, товарищ капитан. Очень плохо. С такими нервишками вам не в разведке место, а в гардеробе галоши выдавать, если возьмут… Ну да что уж теперь казниться! Что сделано, то сделано. Как говаривал незабвенный начальник курса: «Чему быть — за то и доложи». Надо хоть из победы побольше выгоды извлечь. Матч теперь точно состоится. Ну так хотя бы ребят встряхну.
Отбушевав, Азизулла отошёл от братца, еле-еле сумевшего встать на четвереньки, и, словно гавкая, отдал необходимые распоряжения для сбора свободных от службы охранников. Таких оказалось двенадцать человек, и все они, как ни странно, восприняли необычный приказ, а именно сыграть с пленными шурави в футбол, с необычайным энтузиазмом.
Борис тем временем собрал свою команду. Хотя, что значит — собрал? Они и так все уже были на поле, только Асадулла-Маркарян «слился», сославшись на боль в колене. Осторожным и дальновидным парнем был этот Асадулла… Ну и Абдулла играть не мог, да на него и не рассчитывали. Но из норы своей он вылез, вышел к полю и присел в сторонке. В итоге в команде шурави оказалось девять игроков, включая Абдулрахмана. Хотя, конечно, игроками этих несчастных, измученных парней можно было назвать весьма и весьма условно… Ворота по-быстрому сложили из камней — условные ворота, ясное дело. Ни о каких верхних перекладинах и сетках речь и не шла. Так, двумя каменными кучками боковые штанги обозначили — и ладно.
Глинский быстро разбил свое «войско» по номерам. Олега он поставил в ворота — тот сам вызвался и вратарское место занял уверенно. Правда, встал в немного странную стойку — из-за скособоченности шеи ему, чтобы иметь нормальный обзор поля, пришлось стоять не прямо, а боком.
Костю Захарова и Валю Каххарова Борис назначил нападающими, остальных распределил по линиям защиты-полузащиты…
Тем временем к полю подтянулись почти все курсанты учебного центра — весть о необычном матче мгновенно облетела весь лагерь. Курсанты (а их пришло человек под сто) фактически сбежали с занятий. Афганцы действительно в массе своей очень азартные люди, и пропускать такое необычное зрелище никто не хотел. Несколько несущих службу охранников заявились к полю с охраняемыми бабраковцами. Эти, получается, сбежали с хозяйственных работ. То есть сами бабраковцы сбежать не могли, конечно, но охранникам уж очень хотелось футбол посмотреть, а бросить пленных афганцев на работах без присмотра они не рискнули. Решили, что уж лучше на работу наплевать — так риска меньше. Так что на «трибунах» появился и «сектор» болельщиков шурави.
Функции арбитра взял на себя, разумеется, Хусейн. Благородное происхождение и кодекс чести «Пуштун валай» не помешали ему не заметить некоторого несоответствия общепринятым правилам: в частности, то, что в одной команде было девять игроков, а в другой — двенадцать. Ну так Хусейн и не был в футболе специалистом и мог не знать таких чисто футбольных тонкостей, что команды должны быть равны по составу по крайней мере в начале матча.
А вот свистеть в три пальца Хусейн где-то научился, что и продемонстрировал, когда Азизулла махнул рукой, санкционируя начало «мероприятия». «Трибуны» немедленно начали орать — и курсанты, и охранники, и бабраковцы. Причем офицеры-бабраковцы, в большинстве своём учившиеся в Советском Союзе, очень органично перешли на русский мат.
Молчал только мистер Абу-Саид, но он был занят, он фотографировал. А главный противник матча — Азизулла — верещал, как баран, которого режут, — он не просто болел, он пытался своим подчиненным-игрокам ещё и «тренерские установки» давать, но его никто не слушал… Да и, честно говоря, в наступившем гвалте услышать его было сложно.
«Духи» почти сразу же пошли в атаку и затеяли опасную возню достаточно близко от ворот шурави. Техника-то, надо сказать, у них была никакая, но защитники-шурави поначалу их элементарно боялись. Боялись физического контакта, опасались задеть, толкнуть, короче говоря, инстинктивно продолжали «соблюдать субординацию». Глинский аж весь изошёлся на матерный крик, но ребята всё равно как-то больше жались друг к дружке, а не к «духам», владевшим мячом. В итоге уже через несколько минут после начала Олег пропустил первый мяч. Его вины, можно сказать, не было — он даже в ноги бросился вышедшему на него в лоб охраннику…
На «трибунах» началось подлинное сумасшествие. Охранники, пришедшие с бабраковцами, потрясали автоматами. Бабраковцы что-то кричали русским — похоже, пытались советовать. Курсанты прыгали и орали. Азизулла размахивал стеком, а приковылявший к нему поближе братец Парван что-то жарко говорил мистеру Абу-Саиду. Американец вежливо кивал и фотографировал.
Пока «духи» бегали за улетевшим далеко мячом, Борис быстренько собрал свою команду в кружок и зло сказал:
— Так, мужики! Мы дрочим или ебём? Харэ душар бздеть! Не съедят они нас! Мы сами их съедим и высрем, ясно?
— Ясно…
— Не слышу!!
— Ясно!!!
— Ну так другое ж дело, хлопчики! Ща мы этих чебуреков отпялим!
Глинский ещё раз оглядел изможденные серые лица игроков и заметил разгорающиеся в глазах ребят огоньки — причем не у двух-трех, а у подавляющего большинства.
«Ничего-ничего… Ещё немного побегаем — и все раскочегарятся… Вспомнят, как Родину любить надо…»
— Вася! Ты у нас за кого болеешь?
— За «Шахтарь».
— Хто у вас там за главного?
— Старухин…
— Вот теперь ты будешь Старухиным! Твоя задача — сейчас с центра взять мяч, обвести толстого и отдать пас мне. Понял?
— Понял…
— Ну пошли их рвать, мои хорошие…
Как оказалось, Вася Пилипенко всё понял правильно. Несколько неуклюже, словно больной, пытающийся учиться бегать заново, он всё же выполнил пару маневров по обводке, не отдал «духам» мяч, перепасовал, правда не Глинскому, а Захарову, но зато Костя уж не подвел! Он красиво обманул двух охранников и отдал мяч вышедшему на удар Борису. Глинский «вложился пыром» и не промахнулся.
И снова «трибуны» взорвались криками, хотя они и так полностью не умолкали ни на секунду. Теперь уже орали и кричали бабраковцы. Несколько курсантов побежали к Хусейну доказывать, что мяч пролетел левее «стойки». Хусейн важно слушал этот бред, качал головой и разводил руками, изображая беспристрастного судью. На самом-то деле этот судья не замечал ни подножек, ни офсайдов, ни толчков руками — причем, что удивительно, не замечал с обеих сторон. Может быть, он действительно слабо себе представлял, что такое футбол?
Второй мяч «духам» закатил Валя Каххаров — он, оказывается, в своём Душанбе с дублем «Памира» «перетренировался», поэтому и в армию попал. Минут через пять охранники сквитались — там, правда, чистейший офсайд был, ну да не спорить же с Хусейном.
…А потом началось настоящее «рубилово». С шурави будто что-то случилось, их словно «включили». Движения у ребят становились резче и уверенней. Они уже не боялись сталкиваться с «духами» и делать им даже не подкаты — подножки. Они разыгрались. Они все стали кричать, называя друг друга по именам, причем по именам русским, а не мусульманским. Они в голос матерились и от родных матерных слов словно заряжались энергией ещё больше:
— Выеби его, выеби!
— Так, делай, делай, Олегу отдай!
— Олежа, Вовке кинь! Вовке!
— Серега, на Костю выводи! Пидора этого обойди и…
— Валерка, подбери! Подбери, соплю не жуй!
— Муся, сука, ты куда улетел? У тебя там что — аэродром?
— Вася, давай, долби его, ишака ёбаного!..
— Костя, не жмись в углу, откройся!
— Костян, я здесь!