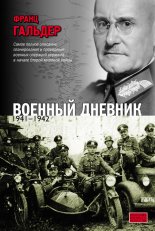Если кто меня слышит. Легенда крепости Бадабер Подопригора Борис
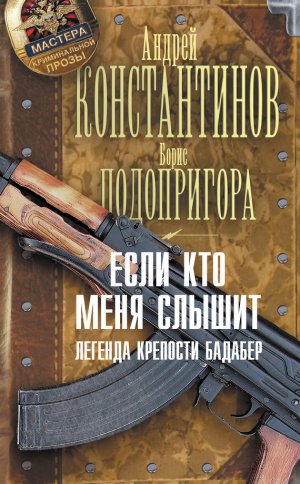
— Всё путём будет… Всё путём…
Затем Борис быстро переоделся в тренировочные штаны, надел кеды и направился в сторону спортивной площадки, попутно заметив, что модули на замок не запираются…
4
На самом деле Глинский попал в «хозяйство» под общим началом генерал-майора Виктора Прохоровича Иванникова по прозвищу Профи. Для любого офицера в любой должности служба под его руководством была действительно настоящей школой, в которой главным классом генерал (сам бывший спецназёр) считал то самое «поле», куда подполковник Халбаев направил Бориса «проветриться». С этого «поля» и начиналась вся разведка…
Что же касается непосредственно Бориса, то в кабульскую «придворную» роту его назначили формально потому, что в ней неожиданно открылась капитанская вакансия за счёт подорвавшегося на мине зампотеха.
Командир роты Ермаков так Глинскому и сказал:
— Пока у нас побудешь. Потом, ежели законного зампотеха пришлют, тогда тебя и передвинут, может, даже в сам разведотдел заберут…
(Почти так потом всё и вышло. В те годы в отдельных службах «ограниченного контингента» из всего офицерского корпуса почти четверть составляли прикомандированные. Часто это были просто толковые офицеры из «ненужных», то есть не очень востребованных на войне частей, например пэвэошники — ведь своей авиации-то у духов не имелось. Таких «толковых» офицеров прикомандировывали и в разведотдел — на время и без документальных назначений. Это позволяло существенно увеличивать практический штат без особой бюрократической волокиты. Так и Глинский уже через месяца четыре начал жить в Кабуле, что называется «на два дома». Но об этом речь ещё впереди.)
А пока до официального приказа о назначении капитан Ермаков поставил Борису первую «боевую задачу» — доказать соседствовавшим с ротой афганцам, что в части хрюкает вовсе никакой не поросёнок, оскорбляющий самим фактом своего существования чувства правоверных, а особая собака «свиновидной» породы, мол, нашли в «зелёнке» щенка, вот он, пока маленький, и хрюкает, когда полаять хочет. Надо сказать, что в Афганистане во многих частях подпольно выкармливали кабанчиков, хоть это и было связано с неудобствами, а порой и с риском. Но уж очень «доставала» казённая тушёнка. Афганцы, как и положено мусульманам, крайне болезненно относились к такому «явочному» свиноводству.
Глинский вышел к угрюмо гудящей толпе с пойманным в роте белёсым щенком на руках и отдал его бачатам-пацанятам.[42] Подростки тут же начали валять щенка по земле, опрокидывая на спину и почёсывая ему пузо.
Угрюмо молчавшим взрослым бородачам Борис задвинул целую речь, продемонстрировав неплохое знание дари и навыки «восточно-базарной полемики». В конце концов бородачи нехотя разошлись. Глинский провожал их улыбками и прижиманием руки к сердцу под лёгкие поклоны. Как учили! Спина у него совершенно взмокла, и Кабул больше не казался ему таким уж мирным городом. Особенно когда до одиннадцати ночи то там, то здесь кто-то истошно орал нечто похожее на «Гриша!». Это «дриш!» — что на пушту означало «стой!».
Тем не менее первые «смотрины» оказались для Бориса удачными — с задачей он справился сам, помощи не просил, а стало быть, получил шанс попасть в категорию «толковых». А толковых офицеров на войне, как известно, много не бывает, поэтому их ценят и берегут. Кстати, про то, что его решил «проветрить» в Афганистане сам командир полка Халбаев, Глинскому никто не напомнил даже намёком — на войне у офицера начинается новая жизнь, это старое правило никто не отменял.
Отношения внутри роты у Бориса складывались в целом нормально. Он уже на третий день отпросился у ротного в штаб армии позвонить матери, но не для того, чтобы слюни попускать, а чтобы она помогла раненому Шишкину, направленному в ЦИТО — Центральный институт травматологии и ортопедии. Это, конечно, отметили и оценили, хотя от Славы Самарина в роте уже все знали про Глинского, что он «генеральский сынок» и «борзой залётчик». Самарина-то, прибывшего в Кабул за неделю до Бориса, оставили пока в разведотделе у спецназёров.
Оценили в роте и то, как Глинский играл в волейбол, а у него это получалось совсем даже неплохо. Да и на занятиях по физической и разведывательной подготовке он показал себя не хуже взводных. А отстрелялся Борис и вовсе на «отлично» — всё же чирчикская выучка кое-чего стоила. Правда, душой компании он так и не стал.
Что тут поделаешь? Ну не слишком занимали Бориса разговоры, например, о том, как трахаются верблюды! (А трахаются они, оказывается, сближаясь задами.) Не особо увлекали его и нарды, в которые до полуночи резались соседи Глинского по «бочке» — хорошие парни, прямые и надежные, но, прямо скажем, простоватые.
При этом отношения с «любимым личным составом», то есть солдатами-срочниками, у Бориса, никогда не командовавшего даже отделением, выстраивались взаимно уважительными. Глинский не позволял себе разговаривать с солдатами как взводные, которые в любую команду норовили вставить словечко типа «урюк», «бегемот» или «обезьяна».
Борис с солдатиками не заигрывал, но на просьбу старослужащих написать им «по-духовски» в дембельские альбомы откликнулся сразу. Дембеля просили написать простые, в общем-то, фразы: «Прощай, Афганистан!», «Пиздец войне!» и «Аллах акбар!». А самый грамотный и авторитетный из дембелей вдумчивый сержант Толя Сошников (единственный, кстати, из срочников роты награжденный орденом Красной Звезды) и вовсе после бесед с Глинским вознамерился поступать в ВИИЯ. Борис даже занимался с ним, готовил сержанта к вступительным экзаменам. И как показало время — совсем не напрасно.
После того как пришёл наконец приказ о назначении на должность, Глинскому выдали личное оружие — пистолет и автомат, соответственно, пистолет для постоянного ношения, а за АК он расписался и поставил пока обратно в пирамиду. Новичков допускали к «живым рейдам» лишь месяца через полтора-два после прибытия.
Проставился Борис, естественно, «как учили», и посидели офицеры хорошо — даже ротный пришёл, и попили, попели, но наутро, несмотря на «лёгкое головокружение», все «как штык» вышли на занятия. Впрочем, на афганской жаре «увлекаться» было чревато…
Глинский всё время ощущал, что к нему присматриваются и приглядываются: мол, понять бы, парень, кто ты такой на самом деле?
По хватке Борис тянул пусть и на «неотёсанного», но всё же «небезнадёжного» «боевика» — то есть на офицера, готового к боевым выходам. Через месяц взводные даже прилепили Глинскому уже «ношенную» однажды кличку Студент (потому что он — из военного института, а не из училища — как «все нормальные офицеры»). Однако Ермаков Иван Васильевич, носивший, понятное дело, кличку Грозный и неформально утверждавший боевые прозвища «придворных» спецназёров, счёл, что до «профессионального» имени Борису пока далеко, пусть, мол, пообвыкнется, на выход сходит, тельняшку «примерит», а там посмотрим. Конечно, в ближайших плановых рейдах от Глинского ничего «стратегического» не ждали. Хотя…
Толковый переводчик, тем более с несколькими «нужными» языками, никогда в рейде лишним не был. Ведь именно с переводягой командир решал, какие трофеи брать, а какие — нет, особенно если этих трофеев становилось, чем дальше, тем больше…
В свой первый боевой рейд Глинский вышел лишь на седьмой неделе после прибытия в Кабул. Накануне вечером его вызвал капитан Ермаков и поставил задачу:
— Значит, так: сходишь завтра с группой Семченко. Он на «тайник» пойдёт. Пора на тебя в деле посмотреть. Кроссовками чешскими обзавёлся уже?
— Обзавёлся.
— От Шишкина небось остались… Ну и ладно. Спать пораньше ляг. На рассвете «вертушки» заберут.
«Выходы на тайник» считались точно такими же боевыми операциями (с соответствующим оформлением), как и «выходы на караван» — с той лишь существенной разницей, что «караван» как раз предполагал огневой контакт с противником, а успешный рейд на «тайник» должен был пройти без единого выстрела. А в какой ещё рейд могли взять Глинского? Совсем уж в «мясорубочную» боевую операцию? Ну как-то не совсем рационально, он ведь все-таки был переводягой. Правда, переводягой с неплохой подготовкой, но всё же переводягой. Вот и оставались ему «выходы на тайники и на отвлечения».
Что такое «выход на тайник»? Да, в общем, «ничего такого военно-морского», как любил приговаривать Лисапед — он до Афгана морпехом служил. Где-то «на границе с Персией или Пакистаном» один из агентов советской разведки, передвигаясь с каким-нибудь караваном, оставлял в установленном месте-тайнике донесение. Вот его нужно было забрать и доставить в Кабул. Или, наоборот, не донесение забрать, а задание оставить. Или сделать и то и другое. В таких выходах вся группа работает на одного человека — офицера-агентурщика из разведцентра, который формально не подчинялся разведотделу. Агентурщик — единственный, кто знает точное месторасположение тайника, и только у него есть право выемки и закладки. Берегут этого офицера как зеницу ока. У группы спецназа в этом случае одна задача — тихо довести его до «скворечника», а потом так же тихо «проводить домой».
А «выход на отвлечении» — это задача чуть попроще, это просто рейд по отвлечению внимания от передвижения основной группы или нескольких групп. В таком выходе можно даже и пошуметь чуток, но без «ажиотаций», как говорил на инструктажах Ермаков…
Ранним утром пара Ми-восьмых с «двадцатьчетвёрками»[43] в прикрытии забрала группу Семченко вместе с Глинским и через час с небольшим высадила в районе Пурши. Вместе с Борисом группа насчитывала пятнадцать человек. Все в солдатской хэбэшке без знаков различия, все навьюченные, как ишаки. Свои автоматы оставили в роте, взяли на всякий случай трофейные китайские. Каждый нёс ещё по четыре боекомплекта, гранаты, воду, еду, нож, сапёрную лопатку и аптечку. Бронежилетов тогда не носили — жарко очень, да и слишком тяжёлыми они были в ту пору. Что ещё добавить? Два ручных пулемета на группу и снайперская винтовка. Рацию, конечно, — геологическую «Ангару», а не штатную. Эту «ангарку» берегли так же, как и агентурщика.
Как правило, в рейды выходили не в штатной обуви армейского образца, а в кроссовках. Особенно ценились чешские, они были самыми легкими и притом крепкими, с «непротыкучими», как выразился однажды Сарай, подошвами.
Группа приземлилась в зоне действий отдельного отряда спецназа. Там её встретил майор из разведотдела, которого все звали Боксёром. Этот Боксёр, матёрый и всё на свете видавший-перевидавший спец, в первую командировку занимался подготовкой афганских спецназовцев-«коммандос», из которых предполагалось создать две бригады. Офицер-агентурщик — с рябым крестьянским лицом — уже поджидал группу в палатке майора. Он вместе с Боксёром уточнил задачу группе Семченко, и после недолгого перекура вся группа, на этот раз уже в окончательном составе, снова загрузилась в вертолёты.
Петляя, «вертушки» летели до места десантирования ещё минут сорок. Точнее, не до самого места, а рядышком. Это «рядышком» составило ещё примерно километров десять до конечного пункта. Ближе вертолётам подлетать было нельзя — из соображений безопасности для тайника. Это ведь только кажется, что пространства в Афганистане огромные и безжизненные, на самом деле там за любой тропкой найдется кому приглядеть. А вертолёт — это слишком крупная цель, его сразу «засекают» и, между прочим, делают соответствующие выводы. Может, кто-то и считал «духов»[44] дикарями, но дураками они точно не были. И на советские тайники они охотились точно так же, как шурави — на «духовские» караваны.
…Ми-восьмые несколько раз садились, имитируя высадку групп, и снова взлетали над бесконечными однообразными сопками, маскируя настоящее место высадки. Наконец, «восьмёрки» в очередной раз последовательно друг за другом нырнули в плотную «цементную» пыль, и группа быстро десантировалась в заранее оговоренной очередности. Вертолёты сразу же ушли в сторону, туда, где, судя по звуку, барражировала ещё пара «вертушек».
Спецназовцы остались одни среди бескрайних голых холмов, тянувшихся до самого перевала Пурши. Ну а потом пошли к тайнику. Шли долго, почти целый день, с короткими привалами. Борис не то чтобы опозорился, но несколько неодобрительных взглядов от Семченко схлопотал, когда на привалах справлял малую нужду. Влад позорить его при бойцах не стал, но по-свойски шепнул тихонько, чтоб никто не слышал:
— Я ж тебе говорил, не пей с утра… Следы оставляешь по всему маршруту!
— Да какие следы, под этим солнцем всё через несколько минут высохнет, как и не было!
Семченко покачал головой и посмотрел на Глинского, как на «недоделанного»:
— Вот «филолух» — он и есть «филолух», как его ни дрочи… Высыхать-то высыхает, однако на запах шакалы потом приходят, начинают в этом месте лапами рыть… Вот по этим следам нас и можно «прочитать».
Глинский, и впрямь напившийся «про запас», только вздыхал виновато…
…Под вечер дошли до какой-то полуразрушенной глинобитной постройки. В этом месте вся группа стала готовиться к ночёвке, а офицер-агентурщик, взяв для прикрытия двух бойцов, отправился уже непосредственно к тайнику, до которого оставался примерно километр-полтора. Не доходя до «закладки» метров триста, он оставил спецназовцев прикрывать его и быстро нырнул куда-то в межсопочные складки. Что именно представляет собой тайник, не должен был видеть никто, кроме него…
Ночь прошла без происшествий, правда, Глинский почти не спал — так, продремал пару часов, чутко вслушиваясь в странные звуки густой афганской ночи…
Едва рассвело, тронулись в обратный путь, на этот раз шли не так долго, как накануне, уже часа через три их забрала пара «восьмёрок» и добросила до отряда Боксёра. Офицер из разведцентра остался там, а группа Семченко полетела «домой», в Кабул.
В роту Борис вернулся, как в дом родной. Офицеры поздравили его с первым выходом. Им Семченко ничего говорить не стал, как переводяга «описался». Самому же Глинскому Влад уже после того, как они вместе напарились-намылись в бане, сказал:
— Ну, с почином, ваше «переводяжье» благородие. Первый выход — почти как первая брачная ночь. У нас, конечно, не совсем как у лётчиков боевые вылеты, но скажу тебе неформально — где-то после седьмого выхода можно уже представлять на ЗБЗ.[45]
— Всего-то семь? — наигранно удивился Борис. — Тогда я быстренько… Вся грудь — в медалях. И бронежилета не надо…
— Ну-ну, — сказал Семченко без улыбки. — Грудь-то не отвиснет? Сплюнь. И больше никогда не шути на эти темы.
— Тьфу-тьфу-тьфу, — послушно сплюнул Глинский.
— Вот и молодец. Вообще, так гладко, как в этот раз, — далеко не всегда проходит. Ладно, Лисапед, я смотрю, он «голым» сидит. Простудится ещё. Давай его оденем. Тащи «майку».
— Уже здесь, — Лисапед развернул газету «Правда саурской революции» и достал сильно вылинявшую, видавшую виды, но всё же не рваную майку-тельняшку.
— Свою давай.
Борис только сейчас проникся торжественностью момента и полез в свой мешок. На четверых хватило заначки в полбутылки. Чокнулись. Долго жевали жаренную с тушёнкой капусту…
— Слушай, Влад. Если «выход не на караван», а как сегодня, когда на «духов» нарваться можно?
Влад пожал плечами и сказал как будто бы о своём:
— Можно и на «духов», но реже. Чаще мины, всякая срань… Или кто-то ногу сломает при высадке, или руку разобьет, натрёт себе чего-нибудь. По-разному бывает, поэтому до последней минуты молишься — лишь бы кто-нибудь чего-нибудь себе дуриком не прищемил. Или не отравился какой-нибудь гадостью…
Травились, кстати говоря, в Афганистане часто, а чаще всего дынями. Приторно-сладкие, они начинали бродить на жаре, и заработать понос через такую радость было делом абсолютно будничным. Довелось это испытать на своей шкуре (точнее — заднице) и Глинскому — причём в самый, что называется, неподходящий момент — недели через две после первого выхода капитан Ермаков решил сам «прогуляться» в рейд на «отвлечение». Борис отравился ещё накануне, но скрыл это от командира из-за боязни прослыть трусом. Этот благородный порыв дорого обошёлся Глинскому, фактически весь рейд «просидевшему на струе». Ему было очень плохо, но шёл он наравне со всеми и думал уже, что до Кабула живым не доберётся. Добрался. А уже в расположении роты в командирской палатке капитан Ермаков устроил ему форменный «пропиздон»:
— Ты не о себе, бля… думай, а о группе, о выполнении боевой задачи… А тебе важнее, кто о тебе что там подумает… Ты кто — спецназёр, твою мать, или просто московский засранец?! Хоть бы старика Халбаева не позорил…
После этой, прямо скажем, нехорошо пахнувшей истории ждать третьего выхода Борису пришлось чуть ли не месяц. Глинский уже думал, что Ермаков окончательно поставил на него клеймо «засранца», когда получил распоряжение вместе с группой Юры-Лисапеда прибыть в лагерь всё того же Боксёра «для последующего уточнения задачи». То ли простил капитан Борису предыдущий неудачный выход, то ли уж больно плотно пошла информация о том, что с караванщиками слишком часто стали туда-сюда шастать западные «товарищи». А раз так, то переводяга в любом рейде мог оказаться весьма и весьма кстати — никогда ведь точно не знаешь, где на кого наткнёшься.
Этот третий выход Глинского хорошо запомнился всем, потому что именно в этот раз один заезжий генерал решил поучить спецназёров военно-полевой мудрости. Хотя из-за этой истории воевать лучше, чем они уже умели, спецназовцы вряд ли научились, зато, может быть, научились уважать другие военные специальности…
Впрочем, обо всём по порядку. Дело было так: непонятно, каким образом в лагерь Боксёра свалился, просто как метеорит с неба, один «полководец» из Москвы. В погонах, между прочим, цельного генерал-лейтенанта. Решил, видимо, из Кабула, куда приехал с какой-то проверкой, на «фронт» съездить. Лично, так сказать, поучаствовать. И вот кто-то где-то «напел» генералу в уши, что, дескать, в родовом кишлаке главаря бандформирования инженера Насирахмада будет проходить слёт главарей банд чуть ли не со всего Афганистана. Для опытных разведчиков уже это выглядело абсурдом. Боксёр, в общем, определенную информацию об этом «инженере» имел: вроде как этот Насирахмад действительно закончил технический вуз (а скорее всего, наврал, что закончил), в отряде у него — примерно 180 стволов, и, по крайней мере, раньше он подчинялся Исламской партии Афганистана, но теперь вроде как сам по себе, хотя, кто у них там «под кем ходит», до конца не знал… Но чтобы к нему все главари съехались? Да кто он, на хер, такой?! Бред какой-то…
А генерал между тем бесновался и требовал у Боксёра организовать зачистку кишлака Насирахмада.
Боксёр попытался связаться с начальством на «Экране»[46] — от него вроде как поступила информация генералу. Не получилось, тогда он, плюнув на субординацию, попробовал достучаться до самого Профи — а того, как назло, вызвал командующий на заслушивание. А «арбатский военспец» между тем уже просто дошёл до запредельных для спецназёра вещей — он для начала обвинил Боксёра в трусости, а потом вообще посоветовал застрелиться, чтобы не позорить спецназ. Боксёру ничего не оставалось, как подчиниться. На это-то «мероприятие» он и «припахал» группу Альтшуля с Глинским, дал, правда, на усиление ещё десяток бойцов и четыре бэтээра. «Командовать парадом» Боксёр решил сам и нехотя выдвинулся в район кишлака Насирахмада. Посланная вперёд разведка доложила, что в кишлаке действительно собралось до двухсот «духов» и что там происходит что-то непонятное… Глинский видел, что у обычно невозмутимого Боксёра просто душа не лежит к этой зачистке. А майора и впрямь останавливало буквально всё: и дикая задача, поставленная заезжим горлохватом, и ощущение, что его провоцируют на политически опасное дело. Да и по здравому смыслу как-то не очень логично — меньше чем тридцатью рылами зачищать кишлак, в котором собралось в шесть раз больше «духов».
Боксёр дал команду машинам остановиться и решил организовать доразведку.
Но генерал, явно прибывший в «гущу событий», чтобы самолично доложить о «переломе в войне», «достал» Боксёра по рации:
— Что вы там муму ебёте! Там, в кишлаке, ещё и в заложники наших взяли! Шевелите задницей!
Боксёр только рукавом пот со лба вытер и выдохнул:
— Есть!
В этот момент над ними пронеслось звено «двадцать четвёрок-крокодилов». Дело принимало совсем нехороший оборот…
Боксёр всё же успел связаться с «Экраном» и попросил о немедленном удалении «вертушек», которые в этой ситуации не помогали, а скорее демаскировали усиленную группу… Там вроде поняли.
Боксёр повздыхал-повздыхал и на бэтээрах осторожно двинулся вперёд.
Глинский сидел на броне второй машины и внимательно смотрел на клубившуюся в нескольких километрах от них по дороге пыль. Где-то через километр движения из этой пыли навстречу им вынырнула БРДМ[47] с «колоколом-матюгальником». Машина была одна. Она резко затормозила и встала поперёк дороги, перекрывая спецназовцам движение. Через мгновение из люка вылез какой-то офицер, показавшийся Борису знакомым. Офицер крепко сжимал в трясущихся руках пластиковую папку и какую-то непонятную кассету. При этом он словно всем своим видом говорил, что папку эту и кассету не отдаст никому и ни за что.
Офицер встал посреди дороги и закричал отчаянно:
— Стой, глуши моторы! Кто старший?
Боксёр спрыгнул с головной машины, посмотрел на трясущиеся руки офицера, хмыкнул и протянул ему флягу со спиртом:
— Ты, брат, не волнуйся. Прими. Сам-то кто и откуда?
Дрожащие пальцы офицера долго не могли отвернуть колпачок на фляге:
— Старший инструктор дивизии по спецпропаганде майор Луговой, — офицер наконец справился с флягой, отхлебнул, выдохнул и чуть спокойнее добавил: — «Хулет». Не слыхали?
Глинский уже соскакивал с брони — он узнал Виктора ещё до того, как тот официально представился. Боже, как он постарел!
— Витя! Луговой!
— Борька? Глинский, ты, что ли?
Они долго обнимались, пока Боксёр, скептически смотревший на всю эту сцену, не рявкнул командирским голосом:
— «Встретились два друга на дороге. Видимо, не виделись давно. Долго обнимались-целовались, пока член не встал у одного». Эй, вы, оба! Студент и, как тебя, Луговой? Что происходит? Кого там, в кишлаке, в заложники взяли? У меня вон по рации генерал с ума сходит!
— Сейчас, — сказал Витя и ещё раз отхлебнул из фляги, — сейчас. Там всё нормально. Я сейчас всё объясню. Никого в заложники не взяли…
И Луговой рассказал потрясающую «военную» историю…
…О спецпропаганде в Афгане слышали мало и немногие, а те немногие, которые слышали хоть что-нибудь, полагали, что толку от неё — «чуть-чуть и два напёрстка». Дескать, «спецпропагандоны» только листовки пишут, типа «Фриц, сдавайся», рассказывают крестьянам сказки про народную власть и ни на что дельное не способны. К тому же и подчинялась спецпропаганда «политрабочим», к которым спецназеры (да и не только они) относились сложно. Однако, как показывает практика, настоящие энтузиасты своего дела встречаются везде… А порой они ещё и умными бывают.
…Оказывается, Витя Луговой уже больше трёх месяцев «плотно работал», как он выразился, по этому самому «инженеру». Работал на предмет заключения мирного соглашения между его бандой и шурави. При этом деликатная тема взаимоотношений инженера с «зелёными» — то есть с правительственными войсками и вообще с бабраковцами в широком смысле, как бы тактично замалчивалась. Мол, бабраковцы — бабраковцами, у них с вами свои счёты, но шурави-то всё равно главные. А с главными — надо жить мирно и вообще находить общий язык. Для того чтобы язык этот был более понятен, чего только Луговой не делал! И две машины с галошами и полотенцами Насирахмаду отвёз. И полналивника горючки ему слил. И на свалку за дровами (то есть за ящиками от боеприпасов) его «людей» лично сопровождал. И даже врачей привозил.
— Что, прям в кишлак? — перебил в этом месте рассказа Лугового Боксёр, не знавший, как и с каким докладом закончить дурацкий рейд. Тут хоть время потянуть, а там, глядишь, что-нибудь само образуется.
А Витя, будто вторя Боксёру, пожал плечами:
— Ну да…
Боксёр кашлянул:
— И что, вот так просто — без сопровождения, без охраны — в банду Хекматияра.[48]
— Ну да. А какая охрана? Я, лейтенант — вон Мурад из агитотряда, да водитель. Но мы ж по договорённости. Под честное слово. А они в такой ситуации, если слово дали — уже можно не дёргаться. У них даже поговорка есть такая: «У мужчины — одно слово».
Боксёр только крякнул, не зная как ещё потянуть время.
— Смелые люди! Ну доктора — это понятно. Они — люди гражданские, потому тупые. А вот… — спецназовец запнулся, чтоб не обидеть Лугового, но тот и не собирался обижаться, видимо уже привычный к таким подколкам. Витя лишь хмыкнул и продолжил свой рассказ…
…Он даже гинекологиню привёз для Насирахмадовых жён. И лично, сидя за вонючей тюлевой занавеской, прилежно переводил русской докторше, что там у «инженеровых» женщин по гинекологической части. Дело, кстати, совсем непростым оказалось, в том числе и потому, что надо было суметь деликатно скрыть проблемы одной жены от другой — а они задавали такие вопросы «страноведчески» наивной докторше весьма и весьма настойчиво. Им же важно, кто из жён «инженера» ещё родит, а кто уже нет. И важно не только им. Такая интимная информация дорогого стоит и важна «для всесторонней оценки личности и намерений главаря».
— Да… — снова не выдержал Боксёр. — Я смотрю, ты действительно… глубоко… вошёл в оперативную обстановку…
Луговой кивнул, не обращая внимания на иронию — спецназёры-то сплошь бесбашенные, а ну как послушают-послушают, да и пошлют его куда подальше и рванут вперёд. Поэтому поддержал интерес Боксёра:
— Не то слово! А окончательно я сыграл на стопроцентной аденоме самого Насирахмада!
Витя от гордости даже нос задрал и посмотрел на Боксёра свысока, будто сам и освидетельствовал «инженера». Боксёр хрюкнул, пытаясь не заржать, а Глинский заинтересованно переспросил:
— А как сыграл-то, Вить?
— Ну как, как… Я его за примирение обещал в Союз на лечение отправить. Чтобы он заодно ещё в «священной Бухаре» помолился — у него вроде предки оттуда, если не врёт. Короче, ударили мы по рукам, осталось только скрепить договоренности письменным соглашением. Вот тут вся лажа и пошла…
Луговой вновь разволновался и закурил — пальцы у него всё ещё мелко подрагивали. Спецназовцы не торопили его…
…Насирахмад заранее предупреждал Витю, что соглашение, конечно, подпишет, но так, чтобы его подчинённые не знали об этом. А если, чтоб совсем не знали — нельзя, тогда чтоб знали, но без деталей. Потому что среди них есть совсем «отвязные», некоторые даже в Палестине успели повоевать, да и «агенты» Хекматияра в банде Насирахмада наверняка остались. Короче, когда Луговой с двумя своими ребятами прибыл в кишлак на подписание договора, выяснилось, что в ближнем кругу «инженера» грамотных нет вовсе. Да и в этом самом кругу особого доверия к главарю банды тоже нет — как раз из-за его неграмотности (инженер, однако!). Началась непонятка какая-то, стали искать хоть кого-нибудь грамотного, да заодно и «непредвзятого», чтоб остальным смог соглашение растолковать. Пока искали, в кишлак подтянулось почти всё «инженерово войско» — рыл за двести, если считать стариков с пацанятами. Что-то им подозрительным показалось. Ну с грехом пополам подписали-таки «пакт о ненападении». Витя не успел со лба пот отереть — в этот самый момент, откуда ни возьмись, над кишлаком прошло звено «крокодилов». Покружили эдак зловеще над кишлаком, встали в круг над соседней сопкой, а ещё двое на дозаправку ушли…
Витя докурил одну сигарету и тут же от окурка прикурил следующую:
— Что тут в кишлаке началось! Я уж думал, всё. «Отпели курские соловушки — отшелестела поспевающая рожь». Неужели, блядь, начальство «фишку не срубило», между собой не договорились, и теперь всё пойдет прахом? А соображалка-то варит… Нет, думаю, Хулет, есть ещё в запасе одно средство…
И Луговой «подвесил» интригующую паузу, преувеличенно долго затягиваясь сигаретой. Боксёр засопел, а Глинский на правах старого знакомого не выдержал:
— Какое средство, Вить? Ну не томи…
…Оказалось, под «средством» Луговой имел в виду телекамеру. Ну что тут поделаешь — любят афганцы покрасоваться перед камерами. Ради истории, так сказать. А Луговой телекамеру как раз припас. Хотя отвечал за неё Витя буквально головой — выцыганил её под честное слово у заезжей журналистской братии, предварительно подпоив её в гарнизоне. Мол, дайте, ребята, не пожалеете, сенсационные кадры будут, «централы»[49] умрут от зависти. Но самим вам, извините, нельзя…
Ну достал Луговой камеру. Расчехлил. Потом присоединился к собравшимся в истовой молитве. Дескать, видит Аллах, шурави теперь будут помогать… И этот исторический момент надо обязательно запечатлеть. «Духи» как камеру увидели — загалдели, залопотали, каждый норовил вперёд вылезти, на передний план… А на самом-то деле камера Луговому нужна была не только для того, чтобы зафиксировать трогательный момент начала «дружбы навек». Плёнку-то можно потом и другой банде показать: мол, смотрите, вот эти — настоящие патриоты, заботящиеся о мирном будущем своего племени и Афганистана в целом… А в случае чего можно «надоумить» и врагов этого самого племени — дескать, смотрите, эти ребята продались нам со всеми потрохами…
В общем, начал Витя снимать собравшуюся публику. Тут и возник перед камерой пацанёнок лет шестнадцати с обшарпанным «Калашниковым», хилый такой, обкуренный, но красноречивый, гад. Он вдруг начал орать, что шурави вот-вот разнесут кишлак — сам, мол, видел крадущихся авианаводчиков. Так что лично он — как убивал неверных, так и будет их убивать дальше. И никто ему не указ. Настроение толпы, известное дело, — штука переменчивая. И через минуту все двести только что «замиренных» уже вскидывали автоматы над головами и истошно орали: «Смерть неверным! Марг ба коферон! Коферон бэкошь!!!»
А в центре этой ревущей толпы стояли двое, по сути, безоружных офицеров — не считая водителя БРДМа, он сидел в машине на связи… Такая вот «политпросветработа» с местным населением…
Когда страсти совсем накалились, водитель «очканул», не выдержал и доложил по рации в гарнизон о неминуемом захвате заложников, если вообще хоть кого-то оставят в живых.
Но Насирахмад, лично мотивированный лечением в Союзе (аденома-то всё-таки, наверное, достала), старался кое-как сдержать соплеменников. А Луговой, снимавший весь этот митинг на камеру, между тем отмотал плёнку назад и резко выдернул из толпы того самого обкуренного пацанчика, с которого весь кипёж пошёл. Подтащил его прямо к камере, сунул носом в проекционный «прицел»-окошко — смотри, дескать, каким ты «войдешь в историю». Пацан от неожиданности даже не успел передёрнуть затвор. Но картинка ему, судя по всему, понравилась. Затем ему на смену вылез посмотреть ещё один горлопан, потом ещё двое… Потом уже уважительно подвели и самого «инженера». Лозунги насчёт неминуемости судьбы неверных стали потихоньку стихать. Ну тут уж Луговой решил, что пора брать ноги в руки и валить подобру-поздорову. Даже к накрытому по торжественному случаю столу не присел. Лишь пообещал назавтра ещё одну партию дров завезти. Только БРДМ выехал из кишлака — его всё равно обстреляли из автоматов. Правда, веерно. Видимо, от избытка «дружеских» чувств…
Витя докурил очередную сигарету и ещё крепче прижал к себе пластиковую папку «Охтален» с подписанным мирным соглашением и кассету:
— Ну, это уже были издержки, так сказать. Главное, что все вещдоки «интернациональной дружбы» — у меня. И «инженер», он хоть и не всё контролирует, но хоть часть «духов» своих будет придерживать. Вот… А потом мы на вас выскочили…
Некоторое время все молчали, а потом Борис спросил:
— Вить, а откуда эта кличка — Хулет? Я ж про тебя слышал, в разведотделе говорили, только я не понял, что это ты. Говорили, какой-то чудак Хулет чуть ли не в одиночку ходит по бандам, покупает их, даже посредничает между бандами. Я-то думал, что те «джеймсбонды», что по бандам ходят, они у чекистов служат… А это ты… Круто.
— Да ничего такого военного, — скокетничал явно польщённый Луговой. — А кликуху эту я из «Адиссы-бабы»[50] привёз. Я ж туда ещё до «спецухи»[51] успел скатать. Ты ж помнишь, я, когда оформлялся, ещё в «Хилтоне» ночевал, мы ж с тобой тогда виделись! А по-амхарски «хулет» — двойка, значит, я — двоечник… Знаешь, ведь у нас, виияковцев, всё «от противного»… Ты что, забыл — я ж с красным дипломом окончил?
— М-да, — сказал Боксёр и поскрёб пальцами бритый затылок. — Чудны дела твои, Господи.
Командир отряда спецназа махнул рукой и отдал команду:
— Глуши моторы!
Потом снова повернулся к Луговому, оглядел его с головы до пят, покачал головой:
— Надо же… Прям как в книжках про индейцев. У нас с полгода назад случай был — один солдатик из Кандагара в кабульском госпитале маленько задержался. Ну ему кто-то и напел, что ротный сердится, дескать, устроит ему «весёлую жизнь», если немедленно в часть не вернётся. Солдатик перепугался, покрутился-покрутился, на хвост упасть никому не получилось, никто его подвозить не хочет, всем на всё насрать… Обычное, в общем, дело. Ну было у него немного советских рублей — ещё с Союза, сменял он их на «афошки»[52] и поехал на попутных «барбухайках» до Кандагара. Вот… Так за несколько дней и добрался. В части аж охренели, когда его увидели. Прямо в форме ехал, естественно, без оружия. И никто ему ничего не сделал. Так на него, как на космонавта, всем Кандагаром ходили смотреть. А он что? Раз командир велел — поехал. Очень ротного боялся. Ну, дебил! Откуда-то с Молдавии, кажется. Так я думал, такое раз в сто лет бывает, а тут ты, майор, со своим «замирённым инженером». Это всё очень интересно, но вот что я генералу-то скажу? Ему-то нужна маленькая победоносная война. Штурм кишлака, блядь, где «засели главари бандформирований со всего Афгана»…
…Короче, поехали с нами, майор. Сам будешь с генералом объясняться. Кино ему своё покажешь, песенку про «эфиёп-твою-мать» споёшь. Если он раньше от злости не лопнет. Охо-хонюшки-хо-хо, и за что мне всё это, старому? Студент, хватит ржать, давай возьми пару бойцов, осмотрись тут для порядка. Мы ещё минут десять курим и — обратно на базу… С победой!..
…Вот так для Бориса начиналась афганская война. Настоящая и очень разная…
Через полгода после прибытия в Афганистан на его счету было уже шесть боевых «выходов». Правда, все они обошлись без боестолкновений. Всё было — и крутой «нервяк», и дикая, нечеловеческая усталость, и насквозь мокрая от пота тельняшка (так, что ее приходилось буквально выжимать), а вот стрельбы не было. Настоящим боевым крещением стал для Глинского лишь седьмой «выход»…
5
На этот самый седьмой «выход» Бориса просто не могли не взять. Кто-то же должен был сидеть на «многоголосом» радиоперехвате? Дело в том, что обстановка постепенно становилась всё более и более напряжённой. Всё чаще шла информация о караванах с оружием, и уже не раз по радиоперехвату выходило, что караванщикам поступают команды на английском языке. Это могло означать, что вместе с «духами» идут и западные инструкторы. Могло. Но «живьём» этих инструкторов в глаза никто ещё не видел. Хотя подтверждающая информация от «доверенных лиц» поступала. Однако эти «доверенные лица», честно говоря, не всегда заслуживали доверия. Часто они, заинтересованные, например, в процветании конкретно своих или «прикормленных» дуканов, могли через донесения-доносы так избавляться от конкурентов. Тем более что чисто «оружейные» караваны встречались редко; в основном смешанные — тряпки всякие, бытовая техника, посуда, парфюмерия, зелёный чай или красный — тот самый «каркадэ». Ну, и «Калашниковы», обычно китайские, калибра 7,62 мм. Именно этими трофейными автоматами спецназовцы, как правило, и вооружались на «выходы». Во-первых, ежели потеряешь или повредишь — с тебя не спросят. А во-вторых, они годились для «отмазки», если по ошибке «не тех духов» «вознесли к Аллаху»: все ж знают, что у шурави автоматы калибра 5,45, а тут в трупах дырки от 7,62 — спецназёры явно ни при чём…
…В тот раз капитан Ермаков получил распоряжение в составе усиленной группы отработать информацию, полученную от «доверенного лица», что идёт караван, чуть ли не со «стингером». К таким «информашкам-брехункам» (которые начальству на доклад носили, разумеется, «липоносцы»), очень часто не подтверждающимся, относились достаточно скептично, но отрабатывать их всё равно приходилось. Ермаков решил выйти сам, взяв группу Семченко, и усилил её ещё Глинским и сапером. Получилось девятнадцать человек. Лететь предстояло аж за Шахджой, что в юго-восточной провинции Заболь.
…Вертолёты привычно путали следы, нарезая зигзаги и выполняя ложные посадки. Наконец, «восьмёрки» снова окунулись в афганскую пыль, колёса коснулись земли, и Ермаков махнул рукой, скомандовав высадку.
Оглядевшись уже на месте, капитан понял, что командир Ми-восьмого лажанулся, «промахнувшись» километра на три западнее от намеченной точки. (Уже потом хорошо знакомый спецназовцам вертолётчик Женя Абакумов, испытавший в Афгане всё, кроме собственной смерти, рассказал, как там было дело. Сложный рельеф и похожие, как близнецы, горы сыграли со штурманом ведущей «восьмёрки» шутку, которая могла дорого стоить. На тот раз всё обошлось, но пара «двадцатьчетвёрок», прикрывая район спланированной высадки, обнаружила грамотно замаскировавшихся «духов». Они явно кого-то ждали. Если это была засада, то там можно было положить всю группу. При заходе на посадку вертолёт — очень лакомая мишень для гранатомёта или ДШК. Вот так… То ли «духи» угадали, то ли навёл кто, бывало и такое.)
…Группа прошла в быстром темпе несколько часов — и тут на тебе — подрыв на «родной» противопехотной мине-«лепестке». Такие советская артиллерия разбрасывала на потенциально «караваноопасных» направлениях, и их быстро заносило песком. Младшему сержанту, которому всего два месяца до дембеля оставалось, искромсало большой палец на правой ноге.
Как говорится, слава-те-яйца, что не всю лапу оттяпало. А делать-то нечего, всё равно идти дальше надо. Сержанту вкатили укол промедола, перевязали, разгрузили, и он поковылял дальше со всеми вместе. Настоящим мужиком оказался, не ныл, не скулил, только зубы крепко стискивал и потел сильно.
Потом шли ещё долго, правда, с частыми привалами. Когда тропки исчезали — шли по шакальим следам. Уже ближе к вечеру остановились у давно занесённого песком кишлака — жители ушли из него в Пакистан ещё году в восьмидесятом, если не раньше. Где-то в этом кишлаке находился замаскированный колодец, вот через него-то и должен был пройти караван, по крайней мере так утверждал агент… Караванщики же часто ходили по одним и тем же маршрутам. Они про колодец знали и знали, что он единственный на много километров вокруг.
Ермаков осмотрелся и дал команду окапываться. Он думал, что ждать придётся как минимум до утра. Но уже минут через сорок поднявшиеся на сопки «совы»-наблюдатели стали докладывать буквально наперебой:
— Вижу двух верблюдов!..
— Слышу моторы! Квадрат 1727.
Группа спешно залегла у входа в кяриз.[53] Глинский всё время облизывал враз пересохшие губы и несколько раз проверял, снял ли он автомат с предохранителя. Минуты вдруг стали очень-очень длинными.
Наконец, показались два верблюда со стариком-погонщиком. Их пропустили беспрепятственно, они прошли через безлюдный кишлак, не останавливаясь.
«Странно, — вдруг подумал Борис, — старик же, наверное, местный — должен знать про колодец. Почему он не остановился? Или это „головной дозор“? Или, может, колодец давно пересох? Верблюды вроде неделями могут не пить…» Неожиданно он вспомнил, как на первом курсе они с Новосёловым переводили с русского на арабский старую шутку: «Чем верблюд отличается от человека? Верблюд может неделями не пить и работать. А человек, наоборот, неделями пить и не работать».
Дальше всё произошло очень быстро. Еле слышное урчание моторов стало громче, и через несколько минут из-за слегка пробитой дёрном сопки медленно выползли три иранских «Симурга» — пикапы-«каблучки» с широкими шинами. Они въехали в кишлак и остановились у не самой разрушенной, но не очень заметной бывшей постройки — метрах в тридцати от исходного кяриза. Видимо, колодец, если он ещё функционировал, находился как раз там.
— Бей! — закричал Ермаков и тут же выпустил две очереди одну за другой. Кишлак наполнился грохотом выстрелов, которые совершенно заглушили крики людей. Несмотря на то что по машинам разом ударила вся группа, несколько «духов» уцелели и начали отстреливаться. Их поджали в полукольцо, не давая скрыться за пологим уже дувалом. Глинский, высадивший весь магазин, быстро перезарядил автомат, перебежал вслед за Ермаковым поближе к машинам и снова открыл огонь, целясь в заднее колесо джипа, откуда кто-то из «духов» ещё бил короткими очередями…
Через несколько секунд очереди из-за колеса угасли. Магазин в автомате Бориса снова опустел… Несмотря на то что «духи» больше не отстреливались, группа подошла к машинам вплотную, соблюдая все меры предосторожности, — короткими перебежками, поочередно страхуя друг друга. Правда, к машинам уже двигалась не вся группа — троих солдат «духам» всё же удалось зацепить, двух в ноги и одного в плечо — снайперов среди «духов» всегда было больше, чем среди шурави. Один из тех, кого пуля ударила в голень, бился в пыли, кусая от боли воротник гимнастёрки, — Глинский заметил это краем глаза, огибая за дувалом расстрелянные машины.
«Духов» было восемь. Пятеро погибли, не успев выскочить из машин, двое лежали, нелепо разбросав руки и ноги, лицами в землю, а один был ещё жив. Он полулежал-полусидел как раз за тем задним колесом пикапа, в который стрелял Глинский. Впрочем, туда, конечно, стрелял не он один.
Семченко, подбежав к раненому «духу», ногой отшвырнул подальше валявшийся рядом с ним китайский автомат и быстро руками ощупал набухавшую кровью одежду моджахеда.[54] Вытащив откуда-то из складок одеяния нож и убедившись, что документов у «духа» нет, он махнул рукой Глинскому:
— Боря! Побалакай с ним, может, он скажет чего… Только живей давай, он доходной совсем, в нём пули четыре сидит, видишь — хлюпает…
Глинский присел рядом с раненым, но ни на какие вопросы он не реагировал. Может, не понимал, а может, даже и не слышал Бориса. Непонятно, как он вообще ещё дышал. Но он дышал, жадно, с хриплым клёкотом, захлебываясь кровью. Глинский обратил внимание на его глаза: коричневато-зелёные, выразительные и на выкате — как у еврея. Они были невероятно широко распахнуты и лихорадочно впивались в Бориса, как будто что-то спрашивали или просили запомнить. Что-то вроде — «ты победил, но только не забудь, что я тебе скажу»… Губы «духа» вдруг зашевелились — тот явно хотел что-то донести, но Борис ничего не разобрал. Он даже встал на колени к чуть ли не к самим окровавленным губам приложился своим ухом.
— Ну что? — спросил подошедший Ермаков.
— Не знаю, — пожал плечами стоящий в позе прачки Глинский, — вроде шепчет что-то, а что — я разобрать не могу. Я даже не врубаюсь, что это за язык.
— Хуёво, дядя Лёва, — мрачно изрёк Ермаков. — И наши дела — говно. Троих зацепило, двоих — в ноги, сами идти не могут. И этот ещё со своим «лепестком»… Вот как с самого начала всё пошло через жопу… Ладно, бросай этого, пошли глянем, чего Аллах послал. Слышь, Студент! Брось его, говорю, он сам дойдет — видишь, дёргается уже…
Над заброшенным кишлаком быстро разливался сладковатый запах запекающейся свежей крови. Борис вдруг вспомнил, как однажды Лисапед рассказал ему, что у каждого только что убитого — свой, индивидуальный, запах. Глинского передёрнуло, он мотнул головой, отогнал тошноту, встал и пошёл за Ермаковым. Пикапы осмотрели быстро, и сначала лицо у капитана мрачнело всё больше и больше, потому что первые две машины были загружены «полным говном», как выразился Семченко Какой-то пакистанский галантерейно-парфюмерный самопал, кипы белья, какая-то мелочовка вперемешку со стопками расписок-«накладных» по расчётам с дуканщиками-оптовиками. У Бориса даже мысль промелькнула: «За что мы их, если они ничего такого не везли? Мы ж не грабители!»
В третьей машине, у колеса которой умирал «дух», оказалась целая кипа тяжёлых квадратных ковров. Эта машина, кстати, пострадала больше других, была буквально вся изрешечена пулями. Ермаков тусклым голосом приказал вытащить ковры. Двое бойцов полезли в фургон, стали отгибать ковры к задней двери…
— Чего это, товарищ капитан? — спросил один из солдат.
— Погоди, — сказал Ермаков. — Не двигайся… Ё-пэ-рэ-сэ-тэ… Замрите оба! Студент! Ну-ка глянь! Это то, что мне кажется?.. Или?..
Глинский заглянул в кузов, а там лежал «стингер»[55] в раскрывшемся заводском темно-сером тубусе. Дважды простреленный, с издевательской надписью на укладке House Heater. Made in China — китайский, мол, комнатный обогреватель. И больше никаких внешних ярлыков или клейма.
— Это ОНО, товарищ капитан, — сказал Борис севшим голосом, — оно самое… Как он ещё не рванул? И чего теперь?
Ермаков вытер рукавом мигом взмокший лоб.
— Так, погоди, дай соображу… Спокойно, спокойно…
Они так разволновались не случайно. Это был первый «стингер», захваченный в Афганистане. До этого о «стингерах» поступала лишь оперативная информация. Без, так сказать, фактического подтверждения. Ходили слухи, что было сформировано даже несколько специальных групп чекистов для охоты за этими самыми «стингерами». А может, само спецназовское начальство этими слухами стимулировало рвение своих подчинённых. Конкуренция между «боевиками» КГБ и ГРУ существовала всегда.
Для начала «стингер» сфотографировали со всех сторон, потом перефотографировали мёртвых «духов» и раненого, которого Ермаков приказал оттащить подальше за дувал.
— Так… — сказал капитан, поминутно вытирая всё время влажнеющий лоб. — «Следующая остановка — „Парк культуры“. Выходить будем?»
Контекстуальный смысл этой афганской офицерской присказки означал: потащим «домой» или будем взрывать на месте? Сомнения Ермакова были понятны — «стингер» прошит пулями, стало быть — взрывоопасен. К тому же ещё трёх раненых придётся тащить, да и четвёртый еле ковыляет… Жара, конечно, спадает к вечеру, но всё равно за тридцать градусов, а до безопасной для вертолета площадки почти столько же километров… А ещё дед этот с верблюдами — он же всё слышал, а может, и видел, значит, не исключено боевое воздействие, так сказать, вдогонку. Но если взрывать, то как докажешь, что ПЗРК был захвачен именно в Афганистане? Фотографиями? Откуда ж ему взяться, конечно? Но фотографии — это всего лишь картинки. Начальство потом скажет, мол, был муляж, был монтаж. Опытный спецназёр Ермаков хорошо знал, как оно бывает.
— Так, сапер, сюда быстро! Поковыряй его осторожненько, может — на детальки разобрать сможем. А ты, Студент, иди потряси ещё того полудохлого — чё-то он мне не нравится, какой-то он не местный, пахнет как-то не так… Может, он тебя за Аллаха примет…
Но раненый по-прежнему молчал, хотя, казалось, ещё был в сознании. Борис даже поить его пытался из своей фляги, но ничего не добился. «Дух» стонал еле слышно, ещё тише шептал что-то вроде «шей-шей» и, не мигая, смотрел своими выпученными глазами на Глинского. Как будто по-прежнему хотел сказать что-то важное, но то ли уже не хватало сил, то ли ещё сомневался, говорить или не говорить. Под этим взглядом Борису сделалось как-то не по себе. В этот момент его снова окликнул Ермаков.
— Студент! Глянь, что это?
Мокрый от напряжения сапёр, как оказалось, не напрасно мудрил с внутренностями «стингера» — он частично смог его разобрать, и на одной, ещё не отсоединенной детали явственно читалось длинное клеймо, обозначавшее латинскими буквами завод-изготовитель.
И клеймо это, черт побери, было Борису знакомо! Вот когда Глинский с благодарностью вспомнил научно-исследовательский центр военной разведки и занудливого майора Беренду с его постоянными «накатами» на молодёжь. За её слабое знание западного ВПК.[56] Всё правильно — клеймо на детали только потому и оставили, что ручной разборке эта часть ПЗРК не подлежала… Клеймо ещё раз сфотографировали, а потом Ермаков, взмокший ещё больше, чем сапер, тихо сказал ему:
— Ну, брат, на тебя вся надёжа. Демонтируй, что ещё?
Бог миловал. Серебристый цилиндр удалось извлечь из «стингера». Его быстро и бережно завернули в трофейное бельё, и командир спешно начал готовиться к отходу — «упаковывал» раненых, проверял ещё раз, всё ли «интересное» взяли с собой. Кстати, при повторном осмотре машины со «стингером» обнаружили ещё и рацию, новенькую, американскую и, как ни странно, целёхонькую. Даже непонятно было, как её пулями-то не зацепило.
Бойцы под командованием напряженно молчавшего Семченко спешно готовили машины к взрыву. Ермаков посмотрел на взводного, потом на Бориса:
— «Следующая остановка»… С «духом» недобитым что делать? Своих-то непонятно как тащить… И оставлять его нельзя…
(Любой спецназёр и под рюмку, и без рюмки всегда скажет: «В открытом бою не просто резал — мясо на зазубринах ножа оставалось. Но пленных пальцем не трогал, тем более раненых. Иначе бы мне просто руки никто не подал. И хватит об этом!» Всё так… Они не врут. Просто есть вещи, которые действительно никто не должен видеть и знать. И не стоит расспрашивать об этом. Ответ всегда один — кого ни спроси…)
Капитан махнул рукой в сторону пускающего кровавые пузыри «духа». И в контраст с мало к чему обязывающими словами остро посмотрел Глинскому в глаза:
— Студент, посмотри там… Может, он чего… скажет? Совсем напоследок…
Борису даже в голову не пришло переспрашивать или, тем более, не соглашаться с тем, что ЭТО предстояло сделать ему. С командиром-то и так не спорят, а уж в боевой обстановке… Он зашёл за дувал и посмотрел «духу» в глаза. Они по-прежнему ритмически мигали, как будто бы «дух» с чем-то соглашался.
Глинский пару раз глубоко вздохнул и спросил по-русски:
— Воды хочешь?
Наверное, ему показалось, что умирающий слабо качнул головой.
— Ну ладно… Зато ты в свой мусульманский рай попадешь… А нас туда не пустят…
На короткую, в два выстрела, очередь в лоб никто из группы даже не обернулся…
Ермаков торопился успеть до темноты, поэтому обратно шли на пределе возможностей, но темп был всё равно ниже среднего — слишком много приходилось переть на себе. Хотя командир приказал даже почти весь сухпай[57] оставить в подорванных машинах. Они, кстати, грохнули так, что аж сопки вздрогнули. На такой фейерверк «духи» точно слетятся.
В принципе, группа не успела ещё отойти далеко от заброшенного кишлака, когда вдруг «запела» трофейная американская рация. Борис машинально перевёл запоздалое предупреждение уже мёртвым «духам» о том, что в таком-то квадрате высадились русские коммандос, и лишь потом «врубился»: сообщение-то было на английском языке… Следовательно, один из «духов» был англоговорящим… Значит, в том караване был инструктор!
Глинский доложил свои соображения Ермакову. Тот, матерясь, послал Бориса с четырьмя бойцами обратно в кишлак…
В кишлаке они быстро и без особой брезгливости поснимали штаны со всех убитых. Необрезанным оказался тот самый, зеленоглазый, который прожил дольше всех…
…Группу они потом догоняли ещё долго, хотя шли быстро, — в кишлаке всё же парой минут не обошлось. Борису всё время мерещились «играющие» глаза убитого им «англичанина», не то чтобы он совсем расклеился и распереживался, но прекратить думать о нём не получалось. Глинский всё пытался понять, что чувствовал этот парень, умирая вот так, в одиночку, на чужой земле… Тоже небось в спецкомандировку поехал… Интересно, в каком он звании? Или просто наёмник? Ради чего он ехал с «духами»? Только из-за денег или было ещё что-то, очень важное для него? Важное настолько, что за это оказалось возможным заплатить жизнью… И почему он так ничего и не сказал перед смертью, хотя явно хотел… Теперь, наверное, будет считаться без вести пропавшим… «Интересно, — подумал Борис, — у них там такое же отношение к без вести пропавшим, как у нас, или?.. Знать бы ещё, где именно — „там у них“…»
Группу они нагнали, окончательно выбившись из сил. После «воссоединения» сделали короткий привал. Ермаков выслушал сбивчивый доклад Бориса и только рукой махнул:
— Ну да. Скажут, что мы — идиоты. Это как обычно. А он всё равно, доходной был. Помер бы в дороге — это к гадалке не ходи. У него ж всё брюхо… Ладно, забудь… Отбрешемся. Ну смертельно раненным он оказался. Сам помер. На глазах у всех! Все усекли?! «Стингер»-то всё равно наш…
Вертолёты забрали их уже в быстро сгущавшихся сумерках, а дух они перевели только в Кабуле.
…Ермаков как в воду глядел — в разведотделе, конечно, этому первому «стингеру» обрадовались, но и поворчать — поворчали. Задним умом выяснилось, что многое можно было бы сделать не так — и «стингер» целым взять, и инструктора — живым. Известное дело, в штабе всегда знают, как можно было сделать лучше. Старая истина. Такая же старая, как присказка про победу, у которой всегда много «отцов», в отличие от поражения, часто остающегося «сиротой»…
Тем не менее Ермакова, сапёра и всех раненых представили к «красным звёздочкам» — вот и после Толи Сошникова кто-то получит… Глинского и Семченко — к медали «За боевые заслуги». У Бориса это была первая медаль за всю службу, и она открыла старлею-«залётчику» путь в капитаны. Правда, у него до очередного звания ещё срок не вышел, но в Афганистане, где выслуга шла «год за три», досрочные звания присваивались чаще, чем награждали орденами-медалями. Впрочем, получали их куда реже, чем оформлялись представления.
Кстати, капитан Самарин, сидевший «дома» (то есть в разведотделе) на связи и поэтому в режиме реального времени докладывавший «наверх» об «историческом захвате западного ПЗРК», также был отмечен — он чуть позднее удостоился «подстаканника», то есть ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени. «Подстаканником» этот орден прозвали за то, что при обмывании он не помещался в стакан…
По правде говоря, Слава Самарин не только докладывал «наверх», он ещё и фотоплёнки оперативно проявил, да так, что фотографии получились — просто загляденье. Реквизиты читались, будто обведенные тушью.
Что ни говори, а в этом деле Самарин действительно разбирался… И «проявленные» им реквизиты завода-изготовителя срочно затребовала себе Москва ещё даже до итогового донесения. А в Москве этими реквизитами чуть ли не Политбюро озаботилось… Самарина же после такого «подвига» тоже в скором времени забрали в Москву.
Формально потому, что там срочно понадобился «аналитик с боевым опытом». Славу забрали в подразделение центрального аппарата, специально созданное под наглядно (наконец-то!) проявившееся «западное военное вмешательство в дела суверенного Афганистана».
Генерал Иванников не возражал против откомандирования Самарина. Профи «вполнюха» чуял, кто есть кто, и он никогда бы не отпустил того, кто был нужнее в Афгане. Нет, про Славу он ни одного дурного слова не сказал, и тем более, не написал.
В конце концов, Самарин свою замену ещё в Чирчике «вымучил» — четыре с лишним «туркестанских» года, да ещё с почти годовым «заходом» в Афган он всё же «положил на алтарь Отечества». Да и кое-какие свои выходы на Москву у него, видимо, появились. Просто по жизни этот «герой-фотограф» как-то не очень вписывался в общую атмосферу кабульского разведотдела. Во всяком случае, симпатии офицеров-спецназёров, знавших, конечно, в общих чертах о чирчикском ЧП, были на стороне Бориса, хотя прямо ему об этом никто никогда не говорил.
В общем, проводили Славу и вздохнули с облегчением. И повод нормальный, и букву соблюли — вот и ладушки, как говорится…
А на место капитана Самарина штабным спецназёром через некоторое время забрали Глинского, хотя жить он остался в родной роте. Поначалу этому переводу воспротивился «даставаль»[58] начальника разведки подполковник Челышев. Таким прямо-таки хайямовским титулом наделил Челышева самый крутой генеральский переводчик Гена Клюкин.[59]
Да-да, того самого Челышева, давнего знакомого майора Беренды ещё по отделу славянских рукописей, о чём Борис, конечно, не знал. Дело в том, что поначалу Челышев посчитал Глинского и его бывшего сослуживца Самарина парой, образуемой теми самыми двумя сапогами из известной русской присказки. Но потом получилось так: подполковник, удививший старлея какой-то «невоенной» вежливостью, поставил Глинскому задачу — обобщить в виде справки данные из «духовских» донесений о поступлении моджахедам оружия — и вручил ему целую стопку переводов этих «доносов». Уже через час старлей попросил оригиналы. И хотя Челышев, самоучкой — «по-уличному» — выучивший дари и даже кое-как пушту, не имел права показывать «почерки авторов», скрепя сердце, он всё-таки принёс Глинскому и оригиналы — «на вдруг». Старлей уже к вечеру доложил чуть ли не о тридцати ошибках-неточностях в переводах. А наутро представил справку, из которой следовало, во-первых, ранее не сильно подмеченная дифференциация поставок по партийному принципу.[60] Во-вторых — некая закономерность: оружие поступало прежде всего в те «духовские» банды, которые снижали боевую активность, а не наоборот, как считали раньше.[61] Да и язык документа поразил весьма искушённого в филологии подполковника грамотностью и по содержанию, и по стилистике. (Челышев ещё подумал, уж не Петра ли Станиславовича Беренды «уши торчат»?) Но свою оценку он до Глинского не довёл.
Уже потом он разговорился с Борисом (Знаете, о чём? Об оккупации Испании Наполеоном в 1808 году и художнике Франциско Гойе!), затем поговорил ещё и ещё — на отвлечённые, в общем-то, темы. Потом Челышев навёл уже подробные справки и мнение своё о старшем лейтенанте изменил кардинально. Даже обратил на Глинского внимание самого Профи, сказав генералу при случае: