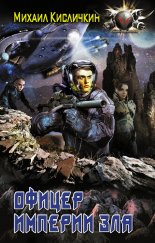Шкура Алексеева Ольга
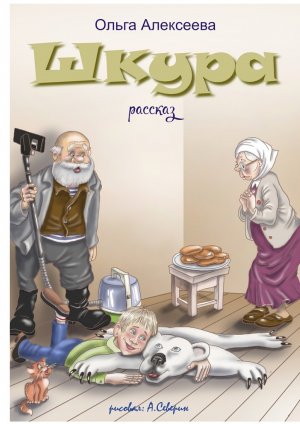
– Понятно, лучше христианин, чем американец. И потом… До свидания, синьоры, – сказал монах и направился к воротам своей церкви, сжимая в руках окровавленную метлу и бормоча что-то себе под нос.
Я устал видеть, как убивают людей. Я четыре года только и делал, что смотрел на убийства. Видеть, как люди умирают, – одно, а видеть, как убивают людей, – совсем другое. Тебе кажется, ты на стороне тех, кто убивает, что ты – один из убийц. Я устал и больше не мог. При виде убитого меня тянуло на рвоту, и не только от отвращения или ужаса, а от злости и ненависти. Я стал ненавидеть трупы. Жалость закончилась, начиналась ненависть. Ненавидеть мертвых! Чтобы понять, в какую бездну отчаяния может упасть человек, нужно понять вначале, что значит ненавидеть мертвых.
За все четыре года войны я ни разу не выстрелил в человека, ни в живого, ни в мертвого. И остался христианином. Но оставаться христианином в то время значило быть предателем. Оставаться христианином означало предавать Христа, потому что та мерзопакостная война была не против людей, а против Христа. За четыре года я повидал множество людей, рыскавших в поисках Христа, как охотники – в поисках добычи. В Польше, в Сербии, на Украине, в Румынии, в Италии, по всей Европе за четыре года я повидал людей с бледными лицами, обшаривающих дома, кустарники, леса, долины и горы, чтобы найти Христа в его прибежище и убить, как бешеную собаку. Но я остался христианином.
И вот теперь, когда по прошествии двух с половиной месяцев с тех пор, как в начале июня был освобожден Рим и мы бросились преследовать немцев по Кассиевой и по Аврелиевой дорогам (Джек и я должны были поддерживать связь между французами генерала Жюэна и американцами генерала Кларка через горы и леса Витербо и Тускании, через болота Гроссето, Сиены, Вольтерры), я начал чувствовать в себе зарождающееся желание убивать.
Почти каждую ночь мне снилось, что я стреляю и убиваю. Я просыпался мокрый от пота, вцепившись в приклад автомата. Такие сны никогда не снились мне раньше. Мне никогда не снилось до сих пор, что я убиваю человека. Я стрелял и видел человека, медленно оседающего на землю. Выстрела слышно не было. Человек тихо, мягко сползал на землю на фоне горячей удушливой тишины.
Однажды ночью Джек услыхал, как я кричу во сне. Мы спали на земле, укрывшись под «Шерманом» от мягкого июльского дождя в лесу у Вольтерры, где мы догнали японскую дивизию, точнее, дивизию американскую, но укомплектованную японцами с Гавайев и из Калифорнии, – она должна была атаковать Ливорно. Джек услыхал мои крики, плач и зубовный скрежет, как будто внутри меня матерый волк медленно освобождался от кандалов моего сознания.
Это безумие убийства, жажда крови стали жечь меня между Сиеной и Флоренцией, когда мы стали замечать, что среди стрелявших в нас немцев есть итальянцы. В те дни освободительная война против немцев стала понемногу превращаться для нас, итальянцев, в братоубийственную войну.
– Don’t worry, – говорил мне Джек, – то же самое творится во всей Европе.
Не только в Италии, но и во всей Европе беспощадная гражданская война, как гнойная опухоль, возникла внутри войны против гитлеровской Германии. Теперь, чтобы освободить Европу от фашистского ига, поляки убивали поляков, греки – греков, французы – французов, румыны – румын, югославы – югославов. В Италии сторонники Германии стреляли не в английских и американских солдат, а в итальянцев, воевавших на стороне союзников; точно так же воевавшие на стороне союзников итальянцы стреляли не в немцев, а в своих сограждан, воюющих на немецкой стороне. В то время как союзники подставляли себя под немецкие пули ради освобождения Италии, итальянцы убивали итальянцев.
Застарелая вражда между итальянцами вновь разгоралась в каждом из нас. Это была привычная война итальянцев против итальянцев под привычным предлогом освобождения Италии от иноземцев. Но больше всего меня ужасало и пугало то, что я чувствовал, как эта страшная болезнь заражает и меня. Я стал жаждать братской крови. За четыре года мне удалось остаться христианином, а теперь, Боже мой, и мое сердце замарано ненавистью, я сжимаю в руках автомат, бледный бледностью убийцы, и чувствую: меня насквозь, до самых печенок прожигает страшная жажда убийства.
Когда мы вели наступление на Флоренцию и от Порта-Романа через Беллосгвардо и Поджо-Империале вышли к Ольтрарно, я снял магазин с моего автомата и, протянув его Джеку, сказал:
– Помоги мне, Джек. Не хочу стать убийцей.
Джек, улыбаясь, посмотрел на меня, он был бледен, его губы дрожали. Он взял мой магазин и положил его в карман. Я вытащил обойму из своего маузера и тоже протянул ему, и он все с той же грустной и душевной улыбкой забрал у меня эту обойму и все остальные.
– Тебя убьют как собаку, – сказал он.
– Это прекрасная смерть, Джек. Я всегда мечтал быть однажды убитым как собака.
В конце Виа-ди-Порта-Романа, там, где она вливается в виа Маджо, нас встретили бешеным ружейным огнем с крыш и из окон. Нам пришлось выскочить из джипа и, согнувшись, пробираться вдоль стен под пулями, отскакивавшими от плит мостовой с кошачьим взвизгом. Джек и канадцы отстреливались, а майор Брэдли, командир канадцев, всякий раз удивленно оглядывался на меня и кричал:
– Почему не стреляете? Или вы стали conscience objector[358]?
– Нет, он не conscience objector, – отвечал Джек, – он итальянец, из Флоренции. Не хочет стрелять в своих, – и с грустной улыбкой смотрел на меня.
– Вы об этом пожалеете! – кричал мне майор Брэдли. – Такой возможности вам больше не выпадет в жизни.
Канадские солдаты тоже оглядывались на меня с удивлением, смеялись и кричали мне на своем французском со старинным нормандским акцентом:
– Veuillez nous excuser, mon Capitaine, mais nous ne sommes pas de Florence![359]
И, смеясь, палили по окнам. Я чувствовал в их словах и в их смехе сердечную симпатию и немного грусти.
Пятнадцать дней длилось сражение на улицах Ольтрарно, прежде чем нам удалось перейти реку и занять центр города. Мы забаррикадировались в пансионе Бартолини, на последнем этаже старого дворца Гвиччардини на набережной Арно, нам приходилось ходить по комнатам пригнувшись, чтобы не попасть под пули немцев, стрелявших из окон Палаццо Феррони, что прямо напротив нас, за рекой возле моста Святой Троицы. По ночам я лежал рядом с канадскими солдатами и партизанами дивизии имени Потенте, прижимаясь лицом к кирпичному выступу, хотя мне безумно хотелось вскочить и бежать по улицам, врываться в дома и стрелять в живот всем тем, кто прячется в погребах и дрожит в ожидании момента, когда минует опасность и можно будет выбежать на площадь с трехцветным бантом на груди и красной косынкой на шее и закричать: «Да здравствует свобода!» Мне была отвратительна моя ненависть, пожиравшая сердце, мне пришлось ногтями вцепиться в пол, чтобы не пойти по домам убивать всех фальшивых героев, тех, кто в тот день, когда немцы оставят город, выйдут из своих убежищ с криком «Да здравствует свобода!» и с презрительной жалостью и ненавистно посмотрят на наши небритые лица и оборванную форму.
– Ты чего не спишь? – тихо спрашивал меня Джек. – Думаешь о завтрашних героях?
– Да, Джек, я думаю о завтрашних героях.
– Don’t worry, – говорил Джек, – то же самое произойдет во всей Европе. Именно завтрашние герои окажутся спасителями Европы.
– Зачем вы пришли освобождать нас, Джек? Вы должны были оставить нас гнить в нашем рабстве.
– Я отдал бы всю свободу Европы за стакан холодного пива, – говорил Джек.
– Стакан холодного пива? – вскрикивал майор Брэдли, вдруг неожиданно проснувшись.
Однажды ночью, когда мы готовились идти дежурить на крыши, партизан из отряда Потенте подошел и сказал, что меня спрашивает итальянский артиллерийский офицер. То был Джакомо Ломброзо. Мы молча обнялись, меня била дрожь, когда я вглядывался в его бледное лицо, в его глаза, полные странного света, как у еврея, которому смерть садится на плечо, будто невидимая птица. Мы сделали длинный рейд по крышам, изгоняя стрелков, засевших за трубами и в слуховых окнах, а на обратном пути залегли на крыше пансиона Бартолини, укрывшись за каминной трубой. Мы лежали той летней ночью на теплой черепице под далекими вспышками молнии и тихо разговаривали, любуясь бледной луной, встающей медленно над оливами Сеттиньяно и Фьезоле, кипарисами на склоне Монте-Морелло и лишенной растительности Кальваной. Мне казалось, что внизу, в глубине долины, блестят в лунном свете крыши моего города. Я говорил Джеку:
– Это Прато, Джек, это мой город. Там дом моей матери. Дом, где я родился, стоит неподалеку от дома, где родился Филиппино Липпи[360]. Ты помнишь, Джек, ночь, которую мы провели, прячась в том кипарисовом леске, на холмах Прато? Помнишь, мы видели мигающие среди олив глаза мадонн и ангелов Филиппино Липпи?
– Это были светлячки, – сказал Джек.
– Нет, не светлячки, это были большие глаза мадонн и ангелов Филиппино Липпи.
– Ты смеешься надо мной? Это были светлячки, – сказал Джек.
Конечно, это были светлячки, но кипарисы и оливы под лунным светом были написаны Филиппино Липпи.
Несколько дней назад Джек, я и еще один канадский офицер отправились за линию фронта, чтобы разведать, правда ли, как утверждали партизаны, что немцы отказались оборонять Прато, ушли по долине реки Бизенцио на Болонью и оставили город. Я знал местность и был проводником, Джек и канадец должны были по радио сообщить командованию, нужно ли подвергать Прато новой жестокой бомбардировке. Жизнь и смерть моего города зависели теперь от Джека, канадского офицера и от меня. Мы шли к Прато, как ангелы к Содому. Мы шли спасти Лота и его семью от огненного дождя.
Перейдя вброд Арно возле Ластра-а-Синьи, мы пошли затем вдоль Бизенцио, реки моего детства, «счастливой Бизенцио» называли ее Марсилио Фичино и Аньоло Фиренцуола[361]. Возле Кампи мы отошли от реки, чтобы обойти селение, сделали большой крюк и вернулись к Бизенцио возле моста Капалле. Оттуда, продвигаясь вдоль реки, мы шли, пока не увидели стены Прато, поднялись к Кверче по берегу Ретайи, и, срезав наполовину путь, прошли выше моста Каппуччини, потом спустились к Филеттоле и уже там, спрятавшись в кипарисовой роще, провели ночь, любуясь бледными подмигиваниями светлячков меж оливковых ветвей.
Я сказал Джеку:
– Это глаза мадонн и ангелов с картин Филиппино Липпи.
– Ты хочешь меня напугать? – сказал Джек. – Это же светлячки.
Я рассмеялся и сказал:
– Мягкое мерцание там, внизу, возле поющего в тени фонтана, это отблеск накидки Саломеи с картины Филиппино Липпи.
– The hell with your Salomе![362] – сказал Джек. – Ты смеешься? Это светлячки.
– Надо родиться в Прато, – продолжал я, – надо быть земляком Филиппино Липпи, чтобы понять, что это не светлячки, а глаза ангелов и мадонн Филиппино.
Джек со вздохом ответил:
– Я, к сожалению, всего лишь бедный американец.
Мы надолго замолчали, я чувствовал глубокую нежность и признательность к Джеку и ко всем тем, кто – к сожалению, это были только бедные американцы – рисковал жизнью ради меня, ради моего города, ради мадонн и ангелов Филиппино Липпи.
Луна зашла, рассвет осветил небо над Ретайей. Я смотрел вниз на дома Кояно и Санта-Лючии за рекой, на кипарисы Сакки, обветренную вершину Спаццавенто и говорил Джеку:
– Это край моего детства. Там я увидел первую мертвую птицу, первую мертвую ящерицу и первого мертвого человека. Там я увидел первое зеленеющее дерево, первую травинку, первую собаку.
Джек мне тихо сказал:
– Тот мальчишка, что бежит там вдоль реки, это ты?
– Да, это я, – отвечал я, – а вон тот белый пес – мой бедный Белледо. Он умер, когда мне было пятнадцать. Он знает, что я вернулся, и ждет меня. По дороге, идущей от Кояно и Санта-Лючии, двигались колонны немецких машин, они поднимались к Ваяно, к Вернио, к Болонье.
– Они уходят, – сказал Джек.
И сколько мы ни разглядывали в наши бинокли холмы, долины и леса, мы не видели ни намека на заграждения, окопы, артиллерийские капониры, склады, танки или противотанковые точки. Казалось, город оставили не только немцы, но и сами жители. Ни одного дымка не вилось ни из фабричных труб, ни из каминных труб, Прато казался покинутым и потухшим. Наверное, и в Прато, как и везде в Италии, псевдозащитники, радетели свободы, завтрашние герои, дрожащие и бледные, попрятались по своим погребам. Только идиоты и сумасшедшие запятнали себя тем, что вместе с партизанскими отрядами сражались бок о бок с союзниками или болтались повешенные на фонарях, а дальновидные и осторожные, все те, кто, едва минует опасность, будут смеяться над нами, над нашими испачканными в крови и грязи мундирами, сейчас сидят в надежных убежищах и ждут, когда можно будет выйти на площадь и заорать: «Да здравствует свобода!»
Я со смехом сказал Джеку:
– Знаешь, я счастлив, что блондин женился на брюнетке.
– Я тоже счастлив, – сказал Джек и, улыбаясь, стал передавать по рации условный сигнал: «Блондин женился на брюнетке», что означало: «Немцы оставили Прато». Лошадь паслась на берегу Бизенцио, собака с лаем носилась по речной отмели, девушка в красном спускалась к фонтану в Филлетоле, обеими руками держа на голове кувшин из яркой, сверкающей меди. Я улыбался и был счастлив. Бомбы с «Либерейторов» не ослепят мадонн и ангелов Филиппино Липпи, не оторвут ножки у амуров Донателло, танцующих на балконе собора, не убьют ни Мадонну с Торговой площади, ни Мадонну с оливами, ни «Маленького Вакха» Такки, ни Деву Марию работы Луки делла Роббиа, ни Саломею кисти Филиппино Липпи, ни святого Иоанна в церкви Санта-Мария-делле-Карчери. Не убьют мою мать. Я был счастлив, но сердце щемило.
В тот вечер, когда мы с Джеком и Ломброзо лежали на крыше пансиона Бартолини и любовались восходом бледной луны, я тоже был счастлив, но сердце щемило. Запах смерти поднимался из преисподней темно-синих переулков Ольтрарно, из глубокой серебряной раны реки в бледно-зеленой летней ночи. Свесившись с крыши, я увидел внизу между мостом Святой Троицы и началом виа Маджо растянувшихся на мостовой мертвого немца, еще сжимавшего ружье, мертвую женщину, уткнувшуюся лицом в набитую помидорами и кабачками сумку, мертвого мальчика с пустой бутылкой в руке, мертвую лошадь между оглоблями повозки и мертвого возчика на облучке, сложившего руки на животе и упавшего лицом в колени.
Тех мертвых я ненавидел. Всех мертвых. Они чужие, они единственные настоящие чужаки на родине всех живых людей, на нашей общей родине – жизни. Американцы, французы, поляки и негры принадлежат моей расе, породе людей живых, моей родине, которая есть жизнь; они, как и я, говорят на горячем, живом, звонком языке, они двигаются, ходят, их глаза сверкают, губы открываются для вздоха, улыбки. Они живые, они живые люди. А мертвые – чужие, они другой расы, расы мертвых, у них другая родина – смерть. Мертвые – наши враги, враги моей родины, нашей общей родины – жизни. Мертвые наводнили всю Италию, Францию и Европу, они единственные чужаки здесь, в униженной, побежденной, но еще живой Европе, они единственные враги нашей свободы. Жизнь – наша истинная родина, мы должны защищать ее и от них, от мертвых.
Теперь я понял причину моей ненависти, жажды убийства, терзавшей нутро, прожигавшей кишки всех людей Европы: нам было необходимо ненавидеть что-то живое, горячее, человеческое, наше, нам подобное, принадлежащее нашей породе, нашей родине, жизни, а не чужакам, заполонившим всю Европу, недвижимым, холодным, посиневшим мертвым с пустыми глазницами, которые вот уже пять лет покушаются на нашу родину-жизнь, душат нашу свободу, наше достоинство, любовь, надежду и молодость всей неимоверной тяжестью своих застывших тел. То, что вынуждает нас волками бросаться на наших братьев, что во имя свободы стравливает французов с французами, итальянцев с итальянцами, поляков с поляками, румын с румынами, – это необходимость ненавидеть что-то, подобное нам, нечто наше, нечто такое, в чем мы могли бы увидеть и узнать себя, и возненавидеть.
– Ты помнишь, каким бледным был бедняга Тани? – вдруг сказал Ломброзо, нарушив долгое молчание.
Он тоже думал о смерти. Он уже знал, что через несколько дней, в утро освобождения Флоренции, он подойдет к своему дому после стольких дней, таких горестных дней отсутствия, постучит в свою дверь, а ему ответит выстрел из погреба соседнего дома, где прятался какой-то человек, – этот выстрел снизу вверх смертельно ранит его в пах. Он, наверное, уже знал, что умрет в одиночестве на тротуаре, как больной пес, под испуганные крики утренних ласточек. Наверное, он знал, ведь смертельная бледность уже тронула его чело, а лицо было белым и сияющим, как лицо Тани Мазьера.
В тот самый вечер мы возвращались с дежурства на крышах домов Ольтрарно и, когда пересекали переулок Санто-Спирито, что за набережной Гвиччардини, неожиданно попали под минометный обстрел и укрылись во дворе какого-то дома. Нам навстречу из темноты вышла белая тень, ласковая женская тень, улыбающаяся сквозь слезы. Это была Тити Мазьер. Не узнав меня, она пригласила нас войти в полуподвальную комнату, почти погреб, где на соломе лежало несколько человеческих тел. Это были тени людей, и я сразу узнал запах смерти.
Одна из теней приподнялась на локтях и позвала меня по имени. Это был прекрасный призрак, похожий на призраков юношей, попадавшихся древним грекам на пыльных, залитых полуденным солнцем дорогах Фокиды и Арголиды, или у источника Касталии в Дельфах, или в тени нескончаемых зарослей олив, спускавшихся от Дельф к Итее, – подобно реке из серебристых листьев, они тянутся от Дельф до самого моря.
Я узнал его, это был Тани Мазьер, неизвестно только, мертвый или еще живой; он окликал меня по имени на пороге ночи. Я чуял запах смерти, запах, похожий на поющий призывный голос.
– Бедный Тани, он не знает, что умирает, – тихо сказал Джакомо Ломброзо.
Но Тани знал, что смерть ждет его, прислонившись к дверному косяку на пороге его дома.
Высокий купол Брунеллески подрагивал над крышами Флоренции, от белой колокольни Джотто отражались отблески бледной луны, я думал о маленьком Джорджо, сыне моей сестры, тринадцатилетнем пареньке, уснувшем в луже крови за изгородью из лавра в саду моей сестры, там внизу, в Арчетри. Что им надо от меня, всем этим мертвецам, лежащим под луной на брусчатке, на черепичных крышах, в садах вдоль реки Арно, что им надо от нас?
Из лабиринта переулков поднимался запах смерти, похожий на призывный напев. Куда и зачем он звал? Может, мертвые хотели заставить нас думать, что лучше умереть?
Одним прекрасным утром мы перешли реку и взяли Флоренцию. Из помоек, погребов, с чердаков, из шкафов, из-под кроватей, из трещин в стенах, где они жили «в подполье» уже месяц, вылезали, как крысы, герои последнего часа, тираны завтрашнего дня. Героические крысы свободы, которым однажды доведется захватить Европу, чтобы возвести на развалинах чужеземного владычества царство собственной тирании.
Мы прошли Флоренцию молча, опустив глаза, как непрошеные гости и нарушители всеобщего счастья, под презрительными взглядами шутов свободы, украшенных кокардами, нашивками, галунами, страусовыми перьями – и даже лица их казались трехцветными. Преследуя немцев, мы углубились в долины Апеннин и поднялись в горы. На еще теплую летнюю землю падал по-осеннему холодный дождь, и еще долгие месяцы у Готской линии мы слушали бормотание дождя в дубовых и каштановых лесах Монтепьяно, в елях Абетоне, в белых мраморных скалах Апуанских Альп.
Потом пришла зима, и от Ливорно, где был командный пункт союзников, мы один раз в три дня поднимались к линии фронта, в сектор Версилия – Гарфаньяна. Иногда, застигнутые ночью, мы находили прибежище в расположении 92-й Черной дивизии американцев, в моем доме в Форте-деи-Марми, который в конце прошлого века построил на пустынном пляже между сосновой рощей и морем немецкий скульптор Хильдебранд с помощью художника Бёклина.
Мы оставались на ночь возле камина в большом холле, украшенном фресками Хильдебранда и Бёклина. Пули немецких пулеметчиков, засевших в Чинкуале, щелкали по стенам дома, ветер злобно терзал пинии, море волновалось под ясным небом, где Орион в красивых сапогах проносился со сверкающим мечом и луком.
Однажды ночью Джек тихо сказал мне:
– Смотри, Кэмпбелл…
Я посмотрел на Кэмпбелла, он сидел перед камином с офицерами 92-й Черной дивизии и улыбался. Вначале я не понял. Во взгляде Джека, устремленном в лицо Кэмпбелла, я прочел робкий привет и сердечное прощай, и в глазах Кэмпбелла, когда он поднял голову и посмотрел на Джека, тоже был робкий привет и сердечное прощай. Я смотрел на них, улыбающихся друг другу, и испытывал чувство нежной зависти и легкой ревности. Тогда я понял, у них был секрет, у Джека и Кэмпбелла, как и у Тани Мазьера, Джакомо Ломброзо и у моего маленького Джорджо, сына моей сестры, то был секрет, который они ревниво прятали от меня и улыбались.
Однажды утром партизан из Камайоре спросил меня, не хочу ли я встретиться с Маджи. Несколько месяцев назад, когда, преследуя немцев, мы дошли до Форте-деи-Марми, я втайне от Джека пошел проведать Маджи. Его дом был пуст. Партизаны сказали, что Маджи бежал в тот день, когда наши передовые части вошли в Виареджо. Если бы я застал его дома, если бы он выглянул из окна на мой стук, может быть, я выстрелил бы в него. Не в отместку за причиненное мне зло, не за преследования, которым я подвергся по его доносу, а за горе, причиненное другим. Это был Фуше городка. Высокий, бледный и худой, с мутными глазами человек. В его доме жил Бёклин, когда писал своих кентавров и нимф и знаменитый «Остров мертвых». Я постучал в дверь и поднял глаза, ожидая, что он выглянет в окно. Под окном в стену была вмурована доска, напоминающая о годах, проведенных Бёклиным в Форте-деи-Марми. Я читал выбитые на камне слова и ждал с автоматом в руках, пока откроется окно. Если бы он выглянул в тот момент, я, наверное, выстрелил бы.
Вместе с партизаном из Камайоре я пошел встретиться с Маджи. На лугу возле городка партизан указал на нечто, выступающее из земли.
– Маджи вон там, – сказал он.
Я почуял запах смерти, и Джек сказал:
– Пойдем отсюда.
Но я хотел увидеть вблизи торчащее из земли нечто, и, подойдя, я обнаружил, что это была обутая в ботинок нога. Короткий шерстяной носок прикрывал черную плоть, заплесневелый ботинок торчал, как надетый на палку.
– Почему вы не закопаете ногу? – спросил я партизана.
– Не, – сказал партизан, – так ему и суждено. Приходила его жена, потом дочь. Хотели труп. Не, этот труп – наш. Потом опять пришли с лопатой, хотели присыпать землей ногу. Не, нога тоже наша. Так ему и быть.
– Это страшно, – сказал я.
– Страшно? На днях два воробушка сели на ногу и стали любиться. Смешно было смотреть, как воробьи любятся на ноге Маджи.
– Пойди принеси лопату, – сказал я.
– Не, – сказал упрямец, – так ему и быть.
Я подумал о Маджи, воткнутом в землю, с торчащей ногой. Ему не позволили зарыться в могилу и спать. Его как будто подвесили за одну ногу над бездной. Чтобы он не мог кинуться вниз головой в преисподнюю. Торчащая между небесами и преисподней, выставленная на солнце, на дождь и ветер нога, птицы садятся на нее пощебетать…
– Сходи за лопатой, – сказал я, – прошу тебя, ради Бога. Он столько зла причинил мне, будучи живым, я хочу воздать ему добром теперь, когда он мертв. Ведь он тоже христианин.
– Не, – ответил партизан, – он не христианин. Если Маджи христианин, то кто тогда я? Мы не можем быть христианами оба, Маджи и я.
– Есть много способов быть христианином, жулик тоже может им быть, – сказал я.
– Есть только один способ быть христианином. Иначе слишком легко было бы быть христианином! – сказал партизан.
– Будь так добр, – сказал я, – принеси лопату.
– Лопату? – переспросил тот. – Хотите, принесу пилу? Чем закапывать, я лучше отпилю ногу и кину ее свиньям.
В тот вечер, сидя перед камином в моем доме в Форте-деи-Марми, слушая в тиши щелканье немецких пуль о стены и стволы пиний, я думал о Маджи, воткнутом в землю, с торчащей ногой, и начинал понимать, чего же хотят от нас мертвецы, все те мертвые, что остались лежать на дорогах, в полях и лесах.
Я начинал понимать, почему мертвые звали нас. Они хотели от нас чего-то такого, что только мы могли им дать. Нет, не жалости. Чего-то другого, более значительного, сокровенного. Не покоя, не мира праху, не прощения, не памяти, не любви. Чего-то совершенно чуждого человеку и жизни.
Потом наступила весна, мы двинулись на последний штурм, меня послали проводником японской дивизии, шедшей на Массу. После Массы мы вступили в Каррару, оттуда через Апеннины спустились к Модене.
И только когда я увидел бедного Кэмпбелла, лежащего в пыли на дороге в луже крови, я понял: то, чего хотели от нас мертвые, не имело отношения к человеку и к самой жизни. Два дня спустя мы перешли По и, отбивая атаки немецкого арьергарда, подошли к Милану. Война близилась к концу, начиналась резня, страшная итальянская резня в домах, на дорогах, в полях и лесах. И наступил день, когда умирал Джек, когда я наконец понял, что умирало во мне и вне меня. Джек умирал улыбаясь, он смотрел на меня. Когда его глаза потухли, я впервые в жизни отчетливо осознал, что за меня умер человек.
В тот день мы вошли в Милан и столкнулись с кричащей на площади толпой. Я встал в джипе и увидел Муссолини, подвешенного вверх ногами за крюк. Он был вздувшийся, белый, огромный. Меня вырвало прямо на сиденье. Война закончилась, и я ничего больше не мог сделать для моей страны и людей, кроме как сблевать.
Подлечившись в американском госпитале, я вернулся в Рим и нашел приют в доме моего друга, доктора Пьетро Марциале, гинеколога, жившего на виа Ламбро в доме № 9, в глубине нового, продуваемого и холодного квартала, раскинувшегося за Пьяцца Квадрата. Это была небольшая квартирка из трех комнат, мне пришлось спать на диване в кабинете хозяина. Вдоль стен тянулись шкафы с книгами по гинекологии, по краям полок располагался разный акушерский инструментарий: щипцы, ложки, вилки, ножи, пилы, базиотрибы, краниокласты, буравчики, разного рода пинцеты и множество колб с желтоватой жидкостью. В каждой колбе плавал человеческий плод.
Уже много дней я жил в окружении этого народца, и на меня находил страх. Человеческие зародыши – это трупы, но с чудовищной особенностью: им не довелось ни родиться, ни умереть. Когда я отрывался от книги, мои глаза встречались с приоткрытыми глазами кого-нибудь из этих маленьких монстров. Иногда я просыпался среди ночи, и мне казалось, что эти чудовища – кто стоя на ногах, кто сидя на дне колбы, а кто сгруппировавшись, как для прыжка, – медленно поднимали головы и смотрели на меня, улыбаясь.
На ночном столике, как ваза с цветами, стояла большая колба, в ней плавал царек этого странного народца – безобразный, но умилительно приветливый Трехглавый, плод женского пола о трех головах. Его маленькие круглые, воскового цвета головки униженно и стыдливо водили за мной глазами, улыбаясь печальной подловатой улыбкой. Когда я ходил по комнате, деревянныйпол слегка поблескивал, а три головки грациозно и зловеще покачивались. Остальные человечки были еще более грустными, отсутствующими и недобрыми.
Кто-то из них походил на задумчивого утопленника, а когда мне приходило в голову встряхнуть колбу, в которой fottaison blme et ravie[363], задумчивый зародыш медленно погружался на дно. У него был приоткрытый большой, как у лягушки, рот, маленькие морщинистые ушки, прозрачный нос, а лоб прорезали морщины еще не родившейся старости.
Кто-то развлекался, прыгая через скакалку, используя для этого свою длинную белую пуповину. Кто-то сидел, погрузившись в себя, но в напряженном, подозрительном ожидании выхода в жизнь. Кто-то висел в желтоватой жидкости, как бы медленно опускаясь в морозном воздухе с высокого неба. С того самого неба, думал я, что висит над Капитолием, над куполом Святого Петра, – римского неба. Странные разновидности ангелов водятся в Италии, не говоря уже об орлах! Кто-то спал, свернувшись клубком и погрузившись в грезы. Кто-то распахивал в беззвучном смехе лягушачий рот, сложив руки на груди и широко расставив ноги, закрыв взгляд тяжелыми, как у жабы, веками. Другой тянул свои маленькие, старой слоновой кости ушки, прислушиваясь к таинственным звукам. Почти все следили за каждым моим движением, за медленным скольжением пера по бумаге, сосредоточенной ходьбой по комнате, задумчивой дремотой перед горящим камином. Все выглядели людьми стародавних времен, людьми еще не родившимися, людьми, которые не родятся никогда. Они стояли перед закрытой дверью жизни, как мы стоим перед еще не открытой дверью смерти.
Был один, натягивающий стрелу на невидимом луке, этакий морщинистый купидон с лысой старческой головой и беззубым ртом. На нем я останавливал мой взгляд, когда меня разбирала грусть при звуке женских голосов, доносящихся с улицы. В такие моменты подлинным радостным образом молодости, весны и любви был для меня безобразный купидон, бесформенный монстр, извлеченный щипцами акушера из материнского чрева, маленький лысый беззубый старичок, выношенный в утробе молодой женщины.
Были такие, на кого я не мог смотреть без содрогания. Два зародыша циклопов, описанные Бирнбаумом и Сангалли, впивались в меня единственным круглым, потухшим и неподвижным в своей впадине рыбьим глазом. Было несколько двуглавых зародышей с качающимися на тоненьких шеях головками. Были два дипрозопа, чудовища с двумя ликами, как бог Янус: переднее лицо молодое и гладкое, заднее – морщинистое и крохотное, сжавшееся в злобной старческой усмешке.
Иногда, задремав у камина, я слышал – может, мне только казалось – их разговоры: слова таинственного, непонятного мне языка плавали в спирте и лопались, как воздушные пузырьки. Вслушиваясь, я говорил себе: «Может, это и есть первобытный язык, на котором говорят еще не родившиеся для жизни люди, язык, на котором говорят, рождаясь для смерти. Может, это древний потаенный язык нашего сознания». Иногда я думал: «Да, они свидетели и судьи наши, те, кто с порога жизни следят за нами, живущими, кто, спрятавшись в первозданном лоне, смотрят на нас, веселящихся, страдающих и умирающих. Они – свидетели бессмертия, предшествующего жизни, гаранты бессмертия, следующего за смертью, те, кто судят мертвых». Меня пробирала дрожь, я говорил себе: «Мертвые люди – это зародыши смерти».
Я был слаб после ранения и большую часть времени лежал в постели. Однажды ночью меня охватила сильная лихорадка. Мне привиделось, будто все зародыши вылезли из колб и разошлись по комнате, стали лазать по столу, по стульям, карабкаться по оконным шторам и по моей кровати. Потом все собрались на полу посреди комнаты, расположившись полукругом, как судейский трибунал, и, наклоняя головы вправо и влево, шептались друг с другом, смотрели на меня круглыми жабьими глазами, потухшими и неподвижными. Их плешивые головы ярко блестели под луной.
Трехглавый сидел в середине, по бокам расположились два двуликих дипрозопа. Уклоняясь от пронзающего иглой страха перед этим ареопагом чудовищ, я поднял взгляд к окну и стал любоваться зелеными небесами, где сверкал утренней росой холодный серебристый свет луны.
Неожиданно раздавшийся голос заставил меня опустить взгляд. Это был голос Трехглавого:
– Введите обвиняемого, – сказал он, обратившись к стоявшим в стороне уродцам, игравшим роль охранников.
Я посмотрел в угол, куда смотрели все, и остолбенел.
Из угла в сопровождении двух конвоиров шел огромный урод с дряблым животом, с ногами в белесых блестящих волосках, похожих на пух чертополоха. Сложенные на груди руки были связаны пуповиной, он шагал, колыхая в такт тяжелым размеренным шагам жирными ляжками, ступая мягкими, студенистыми ногами.
Огромная раздувшаяся белая голова, в которой сверкали два больших желтых, как у слепой собаки, водянистых глаза. Мина гордая и робкая одновременно, как если бы извечная спесь и новая боязнь необычного соперничали между собой и, не достигнув превосходства, смешивались и проявлялись в одновременно подлом и героическом выражении лица. Это было лицо плоти (плоть зародыша и вместе с тем старика, плоть зародыша старика), на котором отражались и сияли во всей своей никчемной славе величие, ничтожество, высокомерие и подлость человеческой плоти. Больше всего поражала смесь амбиции и разочарования, наглости и печали, свойственные человеческому обличью. Я впервые увидел, как отвратительно человеческое лицо, как мерзок материал, из которого скроены люди. Что за грязная горделивость, думал я, в этой плоти человечьей! Как жалок ее триумф, пусть даже на короткий миг любви и молодости! В тот момент огромный уродец посмотрел на меня, и его сизые набрякшие губы расплылись в улыбке. Освещенное робкой улыбкой лицо понемногу изменилось: оно стало женским, старушечьим лицом, на котором следы румян былого успеха подчеркивали старческие морщины прошедших лет, разочарований и измен. Я посмотрел на оплывшую грудь, на дряблый, растянутый родами живот, отвисшие, вялые бедра, и мысль, что этот человек, когда-то гордый и знаменитый, превратился в отвратительную старуху, заставила меня рассмеяться. Но я сразу устыдился моего смеха: если иногда в моей камере в «Реджина Коэли» или на пустынном берегу острова Липари в моменты отчаяния и грусти мне доставляло удовольствие проклинать, оскорблять и принижать его в своих глазах, как это делает любовник с предавшей его женщиной, то теперь, когда он стоял передо мной, этот голый отвратительный зародыш, я устыдился моего смеха.
Я смотрел на него, и что-то похожее на сочувствие зарождалось в моем сердце, чего я никогда не испытывал к нему живому; это новое чувство смущало и удивляло меня. Я попытался отвести глаза, уйти от его взгляда, но безуспешно. Все, еще недавно бывшее наглым, вульгарным и горделивым в его лице, превратилось в чудесную меланхолию. Я чувствовал себя глубоко взволнованным, почти виноватым, но не потому, что новое чувство могло унизить его, а просто потому, что прежде чем восстать против его дурацкой тирании, я, как и прочие, многие годы прогибался под тяжестью этого торжествующего человечьего мяса.
Тут я услыхал голос Трехглавого, назвавшего меня по имени:
– Так что же ты молчишь? Может, ты все еще боишься его? Смотри, вот из чего соткана его слава.
– Что вы хотите от меня? – спросил я, опустив глаза. – Чтобы я посмеялся над ним? Унизил? Думаете, вид его унижения меня оскорбляет? Человека оскорбляет не вид гнилой, источенной червями человеческой плоти, а зрелище человечьего мяса в час его триумфа.
– Значит, ты гордишься, что ты – человек? – сказал Трехглавый.
– Человек? – я засмеялся. – Человек – еще более печальная и страшная штука, чем эта куча разложившейся плоти. Человек – это гордыня, жестокость, предательство, подлость, насилие. Распавшаяся плоть – это печаль, стыдливость, страх, угрызения, надежда. Живой человек – такая малость в сравнении с кучей гнилой плоти.
Злобный смешок прокатился по адскому собранию.
– Чего смеетесь? – сказал Трехглавый, покачав сразу тремя морщинистыми голыми головами. – Человек – действительно ничтожная малость.
<>– Человек – создание подлое, – сказал я, – и нет зрелища более гнусного и грустного, чем человек или народ-триумфатор. Но разве есть что-то более прекрасное и благородное в мире, чем человек или народ побежденный, униженный, превращенный в кучу гниющей плоти?Пока я говорил, уродцы по одному поднялись и, качая большими белыми головами и пошатываясь на зыбких ножках, собрались в углу, окружив Трехглавого и дипрозопов. Я видел их сверкающие в полутьме глаза, слышал смех, хриплые кряхтения. Потом все замолчали.
Огромный урод остался стоять передо мной, он смотрел на меня глазами слепой собаки.
– Видишь, чем я стал? – сказал он после долгого молчания. – Никто не пожалел меня.
– Жалость? На кой она тебе, жалость?
– Они зарезали меня, повесили за ноги на крюк и всего заплевали, – сказал зародыш мягким голоском.
– Я тоже был там, на Пьяцца Лорето, – тихо сказал я, – и видел тебя, подвешенного за ноги.
– Ты тоже ненавидишь меня? – сказал уродец.
– Я недостоин ненавидеть, – ответил я, – ненавидеть может только чистый человек. То, что люди называют ненавистью, на самом деле подлость. Все человеческое – это грязь и низость. Человек – страшное создание.
– Я тоже был страшным созданием, – сказал уродец.
– Нет ничего более мерзкого на свете, чем человек во славе, – сказал я, – чем кусок человечины, восседающий на Капитолии.
– Только сейчас я понимаю, каким мерзавцем я был тогда, – сказал зародыш и замолчал. – Если бы в тот день, когда все покинули меня, если бы в тот день, когда все оставили меня одного в руках моих убийц, я просил бы тебя сжалиться надо мной, – добавил он после долгого молчания, – ты тоже причинил бы мне зло?
– Молчи! – крикнул я.
– Почему не отвечаешь? – спросил монстр.
– Я недостоин причинить зло другому, – тихо ответил я, – зло – святая вещь. Только чистый человек может сделать зло другому человеку.
– Знаешь, что я подумал, – сказал монстр после паузы, – когда убийца направил на меня ствол? То, что он собирался сделать со мной, – грязное дело.
– Все, что один человек дает другому, это грязная штука. Даже любовь, даже ненависть, даже добро или зло – все. Даже смерть, которую человек несет другому человеку.
Монстр опустил голову и замолчал. Потом сказал:
– Прощение – тоже?
– Прощение тоже грязная штука.
В тот момент подошли два зародыша, один положил монстру руку на плечо и сказал:
– Пойдем.
Монстр поднял голову, посмотрел на меня и заплакал навзрыд.
– Прощай, – сказал он, опустил голову и ушел с двумя конвоирами.
Уходя, он обернулся и улыбнулся мне.
XII
Мертвое божество
Каждый вечер мы с Джимми приходили к воротам порта взглянуть на график погрузки американских частей и даты отправления пароходов, увозящих из Неаполя в Америку войска Пятой армии.
– Наша очередь еще не пришла, – говорил Джимми и плевал в землю.
Мы шли посидеть на скамейке под елями на широкой площади, над которой нависал Маскио Анджоино.
Это я вызвался проводить Джимми до Неаполя, чтобы остаться с ним до последнего момента, сказать ему последнее прощай на мостике отходящего в Америку парохода. Из всех моих американских друзей, с кем я два года делил тяготы войны и болезненную радость освобождения, у меня не осталось никого, кроме Джимми – Джимми Рена из Кливленда, штат Огайо, офицера Корпуса связи. Остальные рассеялись по Европе – Германии, Франции, Австрии, – или вернулись в Америку, или погибли за меня, за нас, за мою страну, как Джек и Кэмпбелл. И день нашего прощания на трапе парохода должен был стать для меня последним прощанием с бедным Джеком и бедным Кэмпбеллом. Я должен был остаться один в своей стране. Впервые в жизни меня ждало абсолютное одиночество. Не успели густые вечерние тени исполосовать улицы, а могучее дыхание моря приглушить яркую зелень листьев и красные фасады домов, как беззвучная толпа оборванных людей медленно выползла из тысяч переулков квартала Толедо и заполнила площадь. Это была легендарная, вековая толпа горемык неаполитанцев, но их голодное веселье несколько поутихло, и даже их бедность стала блеклой и унылой. Вечер постепенно выходил из моря, толпа поднимала красные от слез глаза, глядя на Везувий, белым призраком возвышавшийся на фоне черной ночи. Из устья кратера не выходил даже легкий парок дыхания, ни одна искра не освещала высокое чело вулкана. Толпа молча стояла до глубокой ночи и так же молча расходилась.
Постояв одиноко на необъятной площади перед черными плитами моря, и мы с Джимми уходили, оборачиваясь на белый труп вулкана, медленно распадавшийся в ночи на краю горизонта.
В апреле 1944-го сотрясавший землю и извергавший потоки лавы Везувий потух. Потух не постепенно, а сразу: обернув свое чело повязкой из холодных облаков, он неожиданно испустил громкий вопль, и холод смерти превратил его вены из пылающей лавы в камень. Бог Неаполя, тотем неаполитанского народа умер. Необъятных размеров вуаль черной тенью опустилась на город, на залив, на холм Позиллипо. Люди ходили на цыпочках и разговаривали шепотом, как в доме, где лежит покойник. Мертвенная тишина давила на погруженный в траур город, голос Неаполя, благородный голос его славы, жалости, скорби, любви и счастья, голос громкий и веселый, звонкий и хрипловатый, торжествующий голос Неаполя затих. Когда солнечный пламень заката, или серебристый отблеск луны, или луч восходящего солнца, казалось, поджигали белый призрак вулкана, громкий крик, как крик роженицы, летел над городом. Все выглядывали из окон, бежали по улицам, обнимаясь и плача от радости, ликуя в надежде, что в потухшие вены вулкана чудом возвращается жизнь, что прикосновение кровавого солнца на закате, или отблеск луны, или робкий рассветный луч возвещают возрождение Везувия, мертвого божества, закрывавшего своим застывшим телом печальные небеса Неаполя. Но скоро за надеждой следовали разочарование и недовольство, глаза просыхали, и толпа, разведя сложенные в молитве руки, сжимала угрожающе кулаки, строила божеству козы, смешивая мольбы и стенания с упреками и оскорблениями: «Сжалься над нами, проклятый! Сукин сын, имей же к нам сочувствие!»
Потом пришла молодая луна. Когда она вставала над холодными плечами Везувия, гнетущая грусть опускалась на Неаполь. Лунный восход освещал погасшие пурпурные пепелища, мертвенно-бледные камни холодной лавы, похожие на осколки черного льда. Стоны и плач поднимались из глубин темных переулков, на берегу Санта-Лючии, Мерджеллины, Позиллипо заснувшие на теплом песке под килями своих лодок рыбаки пробуждались ото сна и, приподнявшись на локтях, оборачивались к вулкану-призраку, с дрожью вслушиваясь в жалобный стон волн и всхлипы чаек. На песке блестели раковины, а внизу, на берегу неба, усеянного серебристой рыбьей чешуей, Везувий смердел, как дохлая акула, выброшенная волнами на берег.
Однажды августовским вечером мы возвращались из Амальфи и заметили на склонах вулкана длинную вереницу красноватых огоньков, она поднималась к устью кратера. Мы спросили рыбака, что это могло быть. Это был крестный ход: люди несли дары Везувию, чтобы успокоить его гнев, умолить не покидать свой народ. Отслужив целодневный молебен в святилище Помпей, длинный кортеж женщин, детей и стариков – впереди священники в облачениях, по сторонам молодые люди с хоругвями, штандартами и большими черными распятиями – направился с плачем и молитвами вверх по автостраде, что ведет от Боскотреказе к самому кратеру. Кто размахивал оливковыми или сосновыми ветками, кто нес побеги лозы с виноградными гроздьями, кто амфоры с вином, короба с козьим сыром, фруктами и хлебами, медные подносы с пиццей и пастьерами, кто ягнят, кур, кроликов и корзины рыбы. Добравшись до вершины, оборванные босые люди с осыпанными пеплом головами вслед за поющими псалмы священниками вошли в огромный амфитеатр древнего кратера.
Красная луна поднималась из-за далеких гор Чиленто, сверкавших синеватым серебром в зеленом зеркале неба. Из толпы доносились стоны и плач, приглушенные крики, хрипы и вопли от страха и недоли. Кто-то становился на колени, совал пальцы в трещины окаменевшей холодной лавы, чтобы понять, горит ли еще древний пламень в венах вулкана, а, вынув пальцы, кричал хриплым от горя и презрения голосом: «Он мертвый! Он умер!»
При этих словах из толпы доносился плач еще более громкий, звуки бьющих себя в грудь и живот кулаков, крики верующих, терзавших свою плоть ногтями и зубами.
Древний кратер имеет форму чаши почти с милю в диаметре, с острыми, черными от лавы и желтыми от серы краями. Застывшие потоки лавы похожи на гигантские человеческие фигуры, сплетенные в молчаливой схватке, как тела борцов. Эти статуи из лавы жители окрестных селений называют «рабами», может, в память о рабах Спартака, которые в ожидании сигнала к восстанию долгое время прятались в виноградниках, покрывавших склоны и вершину мирного Везувия еще до первого извержения, разрушившего Геркуланум и Помпеи. Луна будила армию рабов, те неторопливо пробуждались ото сна, поднимали руки и шли навстречу процессии верующих сквозь красную дымку лунного света.
Посреди огромного амфитеатра древнего вулкана возвышается конус нового кратера. Сейчас молчаливый и холодный, он почти две тысячи лет блевал огнем и пеплом, камнями и потоками лавы. Взобравшись на крутые склоны конуса, толпа расположилась вокруг жерла потухшего вулкана и с криками и плачем стала бросать в черную пасть чудовища свои подношения: хлебы, фрукты и сыры, поливала застывшую лаву вином и кровью жертвенных ягнят, кур и кроликов, которых затем бросала, еще трепещущих, в ту же бездну.
Мы с Джимми взобрались на вершину Везувия, когда толпа уже закончила древний ритуал умилостивления божества, встала на колени и, рвя на себе волосы, царапая лицо и грудь, завела песнопения вместе с жалобами и молитвами чудотворной Деве Помпейской и жестокому, безжалостному Везувию. По мере восхождения луны, похожей на пропитанную кровью губку, плач и мольбы становились громче, голоса – резче и отчетливей, и охваченная отчаянным, первобытным ужасом толпа, выкрикивая упреки и ругательства, принялась швырять куски лавы и пригоршни пепла в жерло вулкана.
Тем временем подул сильный ветер, с моря поднялась густая облачность, принесенная сирокко, и быстро затянула вершину Везувия. На фоне желтых, разрываемых молниями облаков качающиеся под порывами ветра распятия и хоругви казались огромными, а люди – гигантами. Литании, упреки и плач как будто вылетали из неожиданно распахнувшихся врат преисподней. Наконец сначала священники, за ними хоругвеносцы, а потом и толпа верующих бросились сломя голову вниз по склонам под проливным дождем и рассеялись в серном мраке, наполнившем огромную впадину древнего кратера.
Мы с Джимми остались одни и направились к тому месту, где оставили наш джип. Мне казалось, что я иду по холодной потухшей планете. Мы будто были последними людьми на земле, единственными пережившими крушение мира. Когда мы дошли до края кратера, буря стихла, луна бледновато поблескивала в зеленой бесконечности.
Мы устроились в укрытии под скалой из лавы, среди толпы «рабов», превратившихся в холодные черные статуи, и долго созерцали безрадостную поверхность земли и моря, дома у подножия потухшего вулкана, покачивающиеся острова на краю далекого горизонта и Неаполь, лежавший кучей мертвых камней.
Мы были живыми людьми в мертвом мире. Мне уже не было стыдно быть человеком. Какое мне дело до того, что люди бывают невинными и виновными? На земле есть только люди живые и люди мертвые. Все остальное – не в счет. Все остальное – не что иное, как страх, отчаяние, раскаянье, ненависть, злость, прощение и надежда. Мы были на вершине потухшего вулкана. Тысячелетиями пожиравший внутренности горы и ее земли огонь вдруг потух, и теперь земля понемногу остывала под нашими ногами. А тот город внизу, на берегу покрытого блестящей коркой моря, под этим загроможденным грозовыми облаками небом был населен людьми отнюдь не виновными и невинными, не победителями и побежденными, а людьми живыми, блуждающими в поисках пропитания, и людьми мертвыми, погребенными под развалинами домов.
Там, внизу, куда доставал глаз, тысячи и тысячи трупов устилали землю. Эти мертвые были бы только гниющим мясом, если бы не было среди них пожертвовавших собой ради нас, ради спасения мира, ради того, чтобы всем, виновным и невинным, побежденным и победителям, выжившим в те годы среди крови и слез, не приходилось стыдиться быть людьми. Cреди этих тысяч и тысяч мертвых точно был труп нового Христа. Что случилось бы с миром, со всеми нами, если бы среди стольких мертвых не нашлось ни одного Христа?
– А зачем нужен еще один Христос? – сказал Джимми. – Христос уже спас мир однажды, раз и навсегда.
– Э, Джимми, почему ты не хочешь понять, что все эти мертвые были бы бесполезными, если бы среди них не оказалось Христа? Почему ты не хочешь понять, что среди всех умерших есть, наверное, много тысяч Иисусов? Неправда, что Христос спас мир раз и навсегда, и ты это знаешь. Христос умер, чтобы научить нас, что каждый может стать Христом, каждый человек может спасти мир своей жертвой. Смерть Христа была бы бесполезной, если бы после него каждый человек не мог стать Христом и спасти мир.
– Человек – не больше, чем человек, – сказал Джимми.
– О, Джимми, почему ты не хочешь понять, что совсем необязательно быть Сыном Божьим, воскреснуть из мертвых на третий день, сидеть по правую руку от Бога-Отца, чтобы стать Христом? Эти тысячи и тысячи мертвых, Джимми, это они спасли мир.
– Ты слишком большое значение придаешь мертвым, – сказал Джимми. – Только живой человек чего-то стоит. Мертвый – не более чем мертвый.
– У нас в Европе, – сказал я, – чего-то стоят только мертвые.
– Я устал жить среди мертвых, – сказал Джимми, – и рад возвращению домой, в Америку, к живым людям. Почему бы и тебе не поехать в Америку? Ты живой человек, а Америка – богатая и счастливая страна.
– Я знаю, Джимми, Америка богатая и счастливая страна. Но я не поеду, я останусь здесь. Я не подонок, Джимми. И потом, нищета, голод, страх и надежда – прекрасные вещи. Прекрасней, чем богатство и счастье.
– Европа – куча мусора, бедная побежденная страна, – сказал Джим, – поехали с нами. Америка – свободный край.
– Я не могу оставить моих мертвых, Джимми. Ваших мертвых вы отвезете в Америку. Каждый день в Америку отходят пароходы с мертвыми. Все покойники богатые, счастливые и свободные. А мои мертвые не могут оплатить билет до Америки, они очень бедны. Они никогда не узнают, что такое богатство, счастье и свобода. Они жили все время в рабстве. Всегда страдали от голода и страха. Они останутся рабами навсегда, всегда будут страдать от голода и страха, даже мертвые. Это их судьба, Джимми. Если бы ты знал, что среди них, этих несчастных мертвецов лежит Христос, ты покинул бы его?
– Не хочешь ли ты сказать, что Христос тоже проиграл войну?
– Постыдное это дело – выиграть войну, – тихо сказал я.
Автобиографические документы
(Строки, предшествующие «Автобиографическим документам» и выделенные курсивом, принадлежат Энрико Фальки и были опубликованы в приложении к изданию Валекки 1959 года.)
В объемной пачке неизданных оставленных Малапарте текстов мы нашли некоторые страницы, заметки и кое-какие записи из его «Journal d’un ntranger Paris» – «Дневника чужака в Париже», которые имеют некоторое отношение к роману «Шкура», поэтому нам показалось уместным воспроизвести их в качестве небесполезного автобиографического приложения к этому роману.
Первый отрывок под заглавием «Мой человек» датирован 1953 годом. Второй – весьма вероятно, отрывок из ответа беспристрастному рецензенту романа. Третий и четвертый – это выдержки из тайного дневника.
В своей совокупности эти заметки должны внести ясность в преследуемые автором цели в его широко обсуждаемом романе.
I
Не знаю, что труднее: быть побежденным или победителем. Но наверное знаю одно: человечность побежденных всегда выше человечности победителей. Вся моя христианская вера зиждется на этой уверенности, я попытался передать это в моей книге«Шкура», которую многие, несомненно, из-за избытка гордыни и глупого тщеславия не поняли или предпочли отвергнуть для успокоения собственной совести.
В последние годы я часто и подолгу бывал и в странах-победителях, и в странах побежденных, и мне всегда было лучше среди побежденных. И не потому, что мне нравится зрелище чужой нищеты и унижений, а потому, что человек всегда терпим и восприимчив только в бедности и унижениях. Человек удачливый, утоливший свою гордыню, пребывающий на вершине власти, достигший желанной цели, облаченный в мишуру и спесь победителя, восседающего на Капитолийском холме, используем этот классический образ, – зрелище всегда отталкивающее.
Все помнят, например, немцев в пору их триумфа. Они были отвратительны. Люди и народы испытывали к ним не страх, а скорее отвращение.
А ведь они были очень красивы. Молодые, атлетичные, все светлоглазые блондины, как герои Гёльдерлина.
У меня есть друг в Шамони, что у подножия Монблана. В мае 1940-го он был в отряде Chasseurs alpins[364] в арденнских лесах, за рекой Маас возле Сен-Гюбера. Уверенные в своих силах, они отшагали многие мили навстречу врагу, перешли границу с Бельгией, границу, которую красно-синие douaniers[365] Рембо раскалывали ударами топора. Звуки от тех ударов долетали в голубом воздухе до глубин арденнских лесов, самых поэтичных и зачарованных, самых холодных лесов Европы, прославленных четырьмя сыновьями Эмона, охотой Карла Великого, Роланда и колдовством Мерлина и Дженовеффы, бродившей по лесу в одеянии из своих волос; это леса, с которыми ни один другой лес в мире не сравнится ни поэтическим богатством, ни легендарностью. Французские солдаты устали, а жара стояла сильная, они шагали (совсем как солдаты Альдо Буццати[366], ну точно как солдаты Альдо Буццати, без имен, лиц и без возраста), согнувшись под весом вещмешков, упакованные в тяжелую шерстяную ткань мундиров и шинелей, они шагали в пыли, потные и изнуренные жаждой. Все были молоды, мальчишки, французские мальчишки, aux yeux bleus[367], звуки их смеющихся голосов вылетали из горла как звуки ручья среди камней, то были французские голоса, клокочущие в горле как вино или вода, как молодое вино и холодная вода. Обреченные, они шагали в своей тяжелой неуклюжей зимней форме (стояла жара, солнце плавило мозги, горячий удушливый воздух, как под шерстяным одеялом), в своем неудобном обмундировании, отягощенные устаревшей амуницией: винтовка Лебеля давила на плечи, два больших патронташа – на живот, ремни резали спину, грудь и ключицы, тугие обмотки до боли стискивали голени.
Это были солдаты ушедшего мира, буржуазного в самом глупом его смысле, мира министров и генералов, банкиров, депутатов и богатых промышленников, не сделавших ни одного шага вперед с 1918 года, в ответ на немецкую опасность удовлетворявшихся только руганью (и видевших в том свою правоту) и не заботившихся об «отражении» самой опасности. Они шумно протестовали (а вся Европа, увы, смеялась над этим протестом богатых упитанных и глупых людей) не потому, что преступлением было бы угрожать разрушить Европу войной скорее идиотской, чем преступной (не все войны идиотские, хотя многие – преступны), а потому, что им казалось оскорблением всему человечеству, когда кто-то осмеливается задумать войну против него. Война против меня! – говорили их протесты, им казалось оскорблением их авторитета, что «варварский» народ осмеливается на угрозы дать им пинка под зад. И вот так в то утро в арденнских лесах солдаты смеялись, в сердцах злясь на свою тяжелую устаревшую амуницию, на тупость своих генералов и министров, как вдруг в лесу послышался звук ясных голосов, он был как птичий крик среди ветвей.
В голосах животных, диких животных, есть что-то общее, не знаю, что это может быть, но точно голоса людей и животных, оленей, кабанов, птиц, косуль в лесу имеют что-то общее, может, это особый звук, особый окрас, звонкость, которую придает голосам лес.
Услышав звонкие голоса, французские солдаты удивленно остановились, эти звуки походили на голоса птиц, ланей, оленей, на такие разные и такие схожие голоса лесного населения. Здесь я хотел бы, чтобы не подумали, что я думаю о Зигфриде в лесах, который стоит за спиной Гейдельберга, о Зигфриде в Оденвальде, о Зигфриде, который в Оденвальде выучил язык птиц. Слыша его голос, люди думали, что это не голос человека, а пение птицы: зяблика, черного дрозда или зеленушки. Я не верю в легенду нибелунгов[368] о говорящем на птичьем языке Зигфриде, мне кажется, в лесу голос человека приобретает что-то общее с голосами диких животных, птиц, оленей и ланей. И я могу понять удивление французских солдат, когда они увидели возникших среди деревьев в зеленом лесном свете молодых светловолосых людей с обнаженным торсом, одетых в shorts[369] древесного цвета, в маленьких пилотках на светлых волосах. Рассредоточившись, они шли по лесу и перекрикивались голосами диких животных. В руках они сжимали автоматы, но были похожи на охотников, а не на воинов. В мелькании света и тени они выглядели обнаженными. До такой степени, что вначале французские солдаты заколебались стрелять из-за некоей сдержанности солдата на войне стрелять в голого человека, сама обнаженность которого дает видимость беззащитности и почти невинности. Потом началась схватка между отягощенными вещмешками и амуницией французами, несчастными неповоротливыми созданиями и молодыми полуголыми блондинами, для которых война была разновидностью спорта или игры. Потом пришел триумф…
(1953)
II
Мне не нравится спорить с людьми, не понимающими предмета спора или не умеющими рассуждать, или с теми, кто постоянно искажает факты и понятия. Как и с хулителями, недобросовестными в высказываниях, желающими казаться рассудительными, но без достаточной глубины. Но Вам, с такой любезностью отнесшемуся к некоторым эпизодам моей книги «Шкура» и к небывалому объявленному мне «моральному остракизму», почему я не могу учтиво высказать, в чем именно я не согласен с Вашим мнением?
В вопросе о моей книге я не вижу никакого морального аспекта. Что же, мы должны вернуться на сотни лет назад и приняться вновь дискутировать об искусстве, морали и так далее? Мораль, политика, вероятность – все это не имеет ничего общего с искусством, даже любовь к родине, если кому-то случится отрицать ее присутствие в моей книге. Оставим в стороне вопрос о Неаполе, по вкусу неаполитанцам моя книга как таковая или нет. Мне не кажется, что может найтись хоть одна написанная чужаком книга, которая могла бы понравиться жителям этого города. Даже если бы я написал книгу, полную чрезмерных и неискренних похвал в адрес неаполитанцев, она все равно не пришлась бы им по вкусу, как написанная чужим человеком. Словом, нравится книга или нет, это не то, что меня интересует. И не может интересовать. Что заставляет меня спорить с Вами, повторяю, с Вами, а не с остальными, это только один вопрос: искусство моя книга или нет. Вы говорите – нет, я не говорю ничего. Такие дискуссии могут интересовать критиков, но не меня, поскольку я – автор книги. Я считал, что создал нечто, относящееся к искусству, мои намерения, следственно, были честны и чисты. Удалось ли мне это? Судя по отзывам зарубежной критики, по которым судить, конечно, значительно трудней, чем по отзывам критики итальянской, думаю, что да. И суждение итальянской публики склоняется к тому, что это – «искусство». Но вы, вместе с Кайуми и Эмилио Чекки, – иного мнения. Но с Кайуми у нас имеются личные счеты по одному делу, он сектант и его мнение, о ком бы он ни судил, о Прусте, Жиде или обо мне, отражает это. Что касается Чекки, который в жизни своей всегда был человеком очень осмотрительным, чем и испортил свой ум, как я испортил свой неосмотрительностью, он мне советует…
III
On me reproche d’avoir ddi mon livre La peau aux soldats amricains «morts inutilement pour la libert de l’Europe». C’est le mot «inutile» qui frappe les critiques. On n’est plus accoutum au mot «inutile», au mot «inutilit», leur signification, qui me parat admirable. Tout, dans le sicle, est utile, ncessaire, avntageux, profitable etc. Le contraste entre le mot «utile» et le mot «ncessaire» me parat beaucoup moins important que du templs de Voltaire, qui disait des Jsuites: «Pour que les Jsuites soient utiles, il faut les empcher d’tre ncessaires». On pourrait renverser la phrase: elle irait parfaitement au sicle. Mon cher et dtestable et parfois ridicule Ren connaissait le mot «inutile», mme dans le sens o je l’ai attribu aux soldats amricains. Ne dit-il pas, de la mort du chevalier de La Baronnais, tomb devant Thionville: «Inutile et noble victime d’une cause perdue»? De nos jours, mme en France, tout est utile, voire mme ncessaire. Quand le peuple franais se rendra compte qu’il n’est plus utile en Europe, qu’il est inutile, alors il redeviendra ncessaire[370].