Три романа и первые двадцать шесть рассказов (сборник) Веллер Михаил
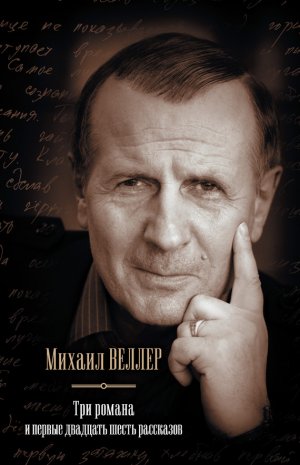
– Вы бы еще берданки предложили, – со светским укором вздохнул он.
– Можете взглянуть на год изготовления – новье. Безотказность, пробивная сила – вне конкуренции, патроны – без проблем, от ТТ.
– По одной, – скупо отвесил Ольховский.
– Что ж, – с ноткой горечи согласился мужчина, – где-то они могут стоить дешевле. Одиннадцать – за пятнадцать тысяч: согласны?
– А патроны? – поинтересовался Ольховский, поражаясь своему вхождению в роль, которой он не знал и сейчас.
– Конечно. По полста на ствол. Не китайские, а польские, это хорошее качество. Витек!
Пацан Витек выдвинулся, левой рукой поднял саквояж и, держа на весу, правой в ряд разложил вдоль стола одиннадцать маузеров. Перед центром этого арсенального строя, бликующего лосненым воронением, он построил штабелек из одиннадцати белых коробочек: по пятьдесят патронов 7,62 в каждой. Указанный на маузерах калибр 7,63 был им адекватен.
– Слонобои, – сказал мужчина. – Жалоб не поступало.
Необязательные уже по завершении сделки его слова воспринимались как премия в довесок.
Пацан позволил себе улыбнуться. Мужчина поднялся и протянул руку:
– Значит, по рукам.
– Простите, – сказал Ольховский, – руку подать не могу.
– Обойдемся без жестов. – Мужчина убрал руку. Лицо его ничего не выразило. – Значит, мы расстаемся без претензий.
– Без.
– Будьте здоровы.
– Будьте и вы. Шура, проводи.
– Есть проводить!
На палубе озабоченно сияющий Мознаим руководил четырьмя матросами, пыхтевшими над носилками с новым трансформатором.
Бригадир, лидер, пахан, авторитет или кто он там был, спустился в катер, пацан ему следовал, одновременно как бы прикрывая. Они были спокойны, ни на кого не смотрели и не прощались – ни одного лишнего жеста. В этой их обособленности чувствовалась своя этика и ничем не поколебленное самоуважение.
Шурка отметил, что саквояж оставили в каюте как нестоящую мелочь, тару.
Катер чихнул и пошел к берегу.
– К отходу по местам стоять! – загремела трансляция двойной дозой командирского металла. – Машине – самый малый! Поднять якоря!
Народ с преувеличенным усердием понесся по своим местам.
С железной выдержкой выждав час – убедиться в отсутствии погони и показать характер, пусть подергаются в ожидании, подлецы, – командир вызвал на разборку пятерых подчиненных, которые, судя по всему, делались все менее подчиненными.
– Я командовал дураками, дураки командовали мной, – начал он свою речь с констатации типовой карьеры, – но чтобы дураки делали меня еще большим дураком – это впервые. Спасибо за службу, товарищи матросы, старшины и мичманы. Кто мне изволит объяснить этот жест вопиющего меценатства, которому мы столь успешно подверглись?
Пятеро стояли «смирно». Кондрат шмыгнул носом, из которого неожиданно потекло, промокнул большим пальцем каплю и объяснил. Вероятно, примерно таким образом Аль Капоне объяснял большому жюри неуплату налогов исключительно бескорыстной любовью и милосердием к обездоленным, и милость к падшим призывал. При всей нелепости рассказа в происшедшем прощупывалась своя логика.
– Вор у вора дубинку украл, – потер щеку Ольховский. – Нас, стало быть, не за тех приняли. У них тут свои разборки и счеты, и вы, похоже, очень удачно вклинились со своей… акцией во внутренние отношения этих криминальных хозяев банков и прочих нефтепроводов. Военно-морской флот, значит, в качестве наемных бойцов, по договору напущенных на задолжавшую сторону с операцией устрашения. Крейсер на побочном заработке – мимоходом, значит, пригрозили им. Ну-ну…
– Ведь очень хорошо все вышло, товарищ капитан первого ранга! – предложил радоваться Шурка. – Ну прикиньте сами – сплошные выгоды для всех!
– Товар нам скинули, я думаю, неликвидный, – добавил сигнальщик. – Во дурынды какие! Испанская дешевка, «глоки», поди, не притаранили.
– А если они потом друг друга все перегрохают – только чище станет, – пожелал Кондрат.
– Вы рассуждаете прямо как министр внутренних дел. Государственные умы! – вздохнул Ольховский.
По совещании с Колчаком маузеры он решил раздать. Дальнейшие неприятности в рейсе не только не исключались, но были почти гарантированы – так уж спокойней иметь своих людей вооруженными, нежели беспомощными перед любой кучкой шпаны со стволами.
Обращаться с этим фольклорным оружием никто, конечно, не умел. Не сразу сообразили, как сверху набивается патронами магазинная коробка.
Проходя пустым берегом и убедившись по карте в отсутствии ближайших селений, вылезли на палубу пристреливать: Колчак дирижировал шеренге.
В столярке стали ладить коробки-кобуры из дерева и фанеры, припоминая и споря, как они выглядели на картинках и в старых фильмах. Запасные ремни порезали на узкие полоски и приладили к светло-желтым, пахнущим стружкой и лаком коробкам, которые стали болтаться на бедре с необыкновенной лихостью.
11 .
Лейтенанту Беспятых маузер достался, а доктору нет. По этому поводу доктор чувствовал себя несколько ущемленным. Строго говоря, маузер был ему ни за чем не нужен – как, впрочем, и лейтенанту, – но игрушки взрослых людей, каковыми в сущности являются все вещи сверх жизненно необходимых, расцвечивают и услаждают жизнь значимостью обладания: отсутствие их при наличии у другого портит нервную систему завистливой досадой.
Так что выпить по глотку спирта и сыграть в шахматы Оленев пригласил вечером Беспятых не совсем бескорыстно.
Проиграв ему первую партию и заботливо следя, чтобы гость пил больше, он предложил небрежно, изображая задетость проигрышем:
– Реванш?
– Неохота, – зевнул Беспятых.
– Ну, давай еще одну. На шпалер слабо?
– На шпалер не выйдет, – хмыкнул Беспятых и расставил фигуры.
Разыграли ферзевый гамбит, и внезапно, как это бывает при недостатке воли к победе, доктор почувствовал равнодушие и даже отвращение к игре. Сделав вид, что уже просчитал комбинацию, он спросил, стараясь увести мысли партнера в сторону:
– А знаешь, что меня бесит в нашей ситуации?
– Что выиграть у меня не получится.
– Нет. Вот я вдруг представил себе, что ничего этого всего с нами на самом деле нет – а так, игра воображения… с тобой такое бывает?
– Регулярно. Это с каждым бывает. Особенно в критических ситуациях. Вроде как во сне мужественно готовишься к неизбежной смерти, а в последний миг охватывает страх и умирать зверски неохота, ищешь способ спастись и с облегчением понимаешь, что все это опять только во сне, и тогда становишься очень храбрым и испытываешь огромное удовольствие от того, что реальная ситуация, в которой ты находишься, на самом-то деле тобою уже понята и лишь воображаема, но это знаешь только ты, а окружающая реальность этого не знает, и делается даже досадно, что ты так находчив и храбр только потому, что знаешь нереальность этой реальности.
– Интересная концепция храбрости, – протянул доктор. – Синдром активного страуса, я бы сказал. То есть, если реальность тебе круто в лом, ты от нее отрекаешься – и вперед на танки, которые есть лишь безвредная игра твоего воображения?
– Не исключаю, что именно так берсерки и полагали в трансе.
– Но на кой черт вообще что-то делать, если все – лишь игра твоего воображения?
– А вот тут уже ты подошел к концепции самоубийства как ухода от бессмысленных сражений с воображаемым окружающим.
– Хм. Надо подумать. Но все равно – это ты сам все воображаешь, это другое дело. А если это все кто-то другой навоображал? В том числе и тебя с твоим воображением?
– Пытливый ум у этих врачей. А какая тебе разница?
– Вот именно! А разница такая, что та сволочь, которая это все навоображала, сидит себе в комфорте и безопасности и ловит кайф на том, что мы тут дергаемся. А он нами за ниточки управляет и придумывает все эти шлюзы и маузеры. Достал – убил бы падлу!
– Да? А его кто придумал? И так далее. Старая шутка. Если истины в конечной инстанции не существует и познание бесконечно – то этот гипотетический «он» лишь на одну ступень истиннее тебя – что есть стремящаяся к нулю разница в бесконечной лестнице познания конечной истины.
– Ты у нас большой философ. Модные книжки читаешь.
– Есть один нюанс.
– Какой?
– Маузер сделан на оружейных заводах Толедо, а шлюзы построены в тридцатых годах энкаведешными зеками под управлением товарищей Бирмана и Ягоды. И это такая же реальность, как та, что после хорошей дозы твоего спирта у меня запор.
– Обезвоживание организма. Пей теплую воду по утрам.
– А этот воображаемый тобою лично автор наших дел если и существует, то лишь настолько, насколько его воображение способно создать нас, ибо только через нас и наше воображение проявляется его сущность. Ты на таком уровне понимаешь?
– Ну, в общем.
– Есть демиург или нет – хрен его знает, мы можем судить о нем только по реальным следствиям его воображаемых дел. А реальные следствия – это мы. Так что если он есть – тем хуже для него: это мы его придумали. Хотя он может думать, что наоборот – это он придумал нас.
Доктор подумал и разменял пешки, вскрывая вертикаль ладье. И тут же Беспятых перебросил коня на королевский фланг, усиливая давление на поле С7 так, что еще через ход там могло запахнуть явным разгромом.
– Со времен Платона, – сказал он, – весь диапазон мудрости, а также схоластики, казуистики и словоблудия между солипсизмом и объективным материализмом сводится к английскому анекдоту про официанта, который в ответ на жалобу клиента, что невозможно различить, чай ему подали или кофе, резонно возражает, какая тому в этом случае разница?
– Но знать-то хочется!..
– А знание поступков не отменяет. Можно знать, можно не знать, всего все равно знать не будешь – а действовать все равно надо.
– Зачем?
– А затем, что без этого жизни нет. Инстинкт. Ты жить хочешь? Ферзь Е5, шах!
Сметя второго и последнего докторского слона, Беспятых продолжал:
– Ты в Бога веришь?
– Вряд ли. Скорее нет.
– Откуда он взялся?
– По идее, он был всегда.
– Откуда ты это знаешь? Внимание: честный ответ.
– Гм. В общем, товарищи посовещались и решили.
– Именно! Посовещались и придумали. Занесли резолюцию в протокол: Бог есть. И что же они придумали? Они придумали, что Бог их придумал. Секешь поляну? Они придумали его, а он, в свою очередь, для этого придумал их, то есть нас. Так что мы с Всевышним квиты. Он – нас, мы – его. Это называется дуализм. Правда, невосточному человеку это понять трудно. А если вполне серьезные люди, нас с тобой образованнее и даже, возможно, умнее, вполне допускают, что Бог – сам Бог! – существует лишь в нашем воображении, нет ничего логичнее допуска, что и мы, в свою очередь, существуем лишь в воображении Всевышнего. Как эйдос, скажем. Это как минимум справедливое допущение. И если между нами и Ним затесался какой-то, как ты называешь, «автор», – это абсолютно ничего не меняет ни в картине мироздания в принципе, ни в нашей с тобой жизни в частности; это его, «автора», как ты выразился, личное горе и личные сложности. А нам и своих выше крыши хватает. На самом деле интереснее другое.
– Что?
– Да одна простая вещь. Что ничто не возникает само по себе и ничто не происходит изолированно. В линейный детерминизм Лапласа даже Бог встраивается, и Гейзенберг ничего тут по сути не отменял.
– Что?..
– Да взять хоть это приключение наших байстрюков в обменнике. В результате, вполне вероятно, две кучки бандитов перешлепают друг друга, произойдет какой-то передел владений, новые люди втянутся в бригады, поскольку свято место пусто не бывает, а какие-то пацаны поверят в действенность благородства и захотят, возможно, раздавать деньги пенсионерам, и кто-то из этих пенсионеров проживет дольше и чему-то научит внука, и так далее… Короче, круги по воде. Только вместо брошенного в пруд камня – не камень, а шесть тысяч тонн нашего крейсера, который движется сейчас с севера к сердцу огромной страны – и каждый сантиметр, который он преодолевает в сопротивляющемся пространстве, сопровождается все новыми и новыми расходящимися кругами следствий, хотим мы того или нет.
– Ясное дело, – сказал доктор. – Декабристы разбудили Герцена, и вот мы здесь. Вам мат, герр лейтенант!!! Гони шпалер!
– Отдыхай, – посоветовал Беспятых. – Я на него не играл.
– Как не играл?!
– Так не играл. Моего согласия не звучало. Это все ваши вздорные фантазии, герр доктор. Сидеть, клистирная трубка!
12.
– Товарищ капитан первого ранга, разрешите обратиться.
– Чур меня! Сгинь, нечистая сила!
– Старшина второй статьи Бубнов! Разрешите обратиться!
– Устал я от тебя, Шура!.. От твоих обращений я лысею и валерьянку пью. Что еще?
– Через полчаса, согласно речному атласу, проходим деревню Тюкавкино.
– Не препятствовать. Пусть живет деревня Тюкавкино, ее счастье.
– Там у матроса Бохана мать живет.
– Здоровья ей и многих лет жизни.
– Он ее два года не видел.
– Догадываюсь. Матросу Бохану передать мое сочувствие.
– Товарищ командир, судовой комитет обращается к вам с ходатайством.
– Отказать.
– На полчаса отпустить матроса Бохана в увольнение, на побывку.
– Мы на ходу. На месте отпустил бы на трое суток.
– На полчаса остановиться, товарищ командир.
– Да что за бар-рдак наконец!!! Налево кру-гом!
Комитет, он же Р.В.С., в составе свободных от вахты, собрался на любимом камбузе и стал думать: ставить ли дело на принцип, или хрен с ним, с Боханом, не больше других ему надо. Тихий и туповатый Бохан никого особенно не заботил, и когда он сказал ребятам, что вот бы на час остановиться здорово было, он отнюдь не надеялся, что ради него станут стопорить крейсер. Но ребятам захотелось сделать корешу приятное, и одновременно продемонстрировать не только свою человечность, но и возможности, власть. Всем идея понравилась. И вот их благой порыв пресечен на корню.
Присутствие здесь же обсуждаемого Бохана было психологической ошибкой комитетчиков. Вникая в доводы за и против, матрос Бохан возвышался в собственных глазах как фигура, заслужившая находиться в центре внимания и страстей. И размеры неправедно причиненной ему обиды возрастали по мере продолжительности речей.
– Пора уметь себя поставить, чтобы считались с комитетом! – настаивали одни.
– Да ладно, зря завели волынку… где это видано – на походе менять режим хода крейсера, чтоб моряк маму повидал, – справедливо возражали другие.
Резолюция: иди отдыхай, Бохан. Бохан теперь раздражал, как поле проигранной битвы.
Но отдыхать Бохан не стал. А пересчитал у койки свои семнадцать рублей, сунулся в пустой первый кубрик, украл из рундучка вестового две сотни и вылез на палубу, смотреть по левому борту, когда покажется родная деревня.
– Человек за бортом!
– Бохан, сука, убью!
До берега тут было метров двести, и проплыть их прямо в робе – как нечего делать.
– Стоп машина! Шлюпку на воду! Шлюпочная команда – в шлюпку! Вытащить и набить морду!
Но быстро только команды отдаются, выполняются они вовсе не так гладко, о чем свидетельствует вся история катастроф на воде.
Течение здесь было тихое. Бохан отмахивал энергичными саженками, поочередно выдергивая плечи и выбрасывая вперед руки. Синий берет, облипший дурную белобрысую голову, быстро близился к голым ивовым кустам, свисающим в бурую гладкую воду. Водица была октябрьская, но ничего, не Ледовитый океан, да и плыть недалече.
– Дезертира расстреляю лично!! Отдать якоря!
Все, что должно делаться особенно быстро, неизменно получается особенно медленно, как известно. Заело кормовой таль. Через пять минут – и так норматив неплох! – ял был спущен. Беглая падла матрос Бохан как раз в этот момент вылезал на берег, скользя коленями и цепляясь за ветви. Он оглянулся и скрылся в кустах.
– Вон он бежит! К домам! – показал с мостика лоцман.
– А куда ж ему бежать, в Америку? – пробурчал Ольховский.
Догонщики навалились на весла. Десяток гребков вырвали, как на гонках, так что звонко чмокали водовороты под вылетающими из воды лопастями. Потом опомнились и успокоились. Ладно, никуда не денется.
Деревня была ужасна. Это была даже не дыра, а скорее останки дыры, выбывшей по ветхости из конкурса дыр. Все прямые линии были кривыми и волнистыми, все прямые углы косыми, содержа любое количество градусов, кроме девяноста. Заборы застыли в падении. Деревянные стены и крыши напоминали цветом и общим пессимизмом слинявшую от старости и полудохлую ворону. Наиболее радостно и жизнеспособно в этом пейзаже после битвы выглядела настоящая ворона, сидевшая на ржавой телевизионной антенне. Удивительна была сочная грязь на единственной улочке, если можно назвать улочкой проход между двойным рядом хибар: при полном отсутствии видимых людей неясно оставалось, кто мог эту грязь замесить своими ногами либо колесами. Грязь выглядела естественным основанием и прародительницей всего, что возвышалось над ней и наводило на мысли о стихах Некрасова, крепостном праве и домотканых саванах.
– Да здесь лучше удавиться, чем жить, – пробормотал Габисония.
Казалось странным, чтобы урожденный обитатель этих мест, выросший с представлением о нормальности жизни здесь, мог бы быть человеком современного мира, служить на крейсере, иметь дело с механизмами и ничем не отличаться от прочих. Не то на корабле он должен был бы выделяться, как туземец в Лондоне, не то здесь – как белый среди бушменов.
Они постучались в крайнюю калитку. Тишина. Вошли во дворик, чувствуя себя нарядом эсэсовцев. На двери рыжел амбарный замок.
Единственным жилым духом была слабая сладковатая вонь отхожих мест. Но жизнь, однако, в деревне присутствовала. В третьем дворе из-под распавшегося крыльца на них блеснули два внимательных глаза.
– Кис-кис-кис!
Кошка зашипела и метнулась за угол.
В четвертой избе, с выбитыми окнами, дверь была заколочена наискось щербатым горбылем.
– Эй! Да есть тут кто живой?
Следующий дом был явно обитаем, потому что на окнах висели занавесочки, а у завалинки копались две голенастые рябые курицы, отмеченные кольцом синей изоленты на лапе. Наличие в природе хозяев косвенно подтверждалось и различимым, если прислушаться, фырканьем трактора за дальним увалом. Взгорбок ограничивал перспективу кочковатым и клочковатым лугом, на ближнем краю которого и помещался этот могильник, называвшийся, по утверждению беглого в настоящий момент матроса Бохана, деревня Тюкавкино.
Бохана они обнаружили в седьмой и предпоследней избе – по мокрым следам на крыльце. Здесь их встретила собака – тощая шавка, которая дважды неуверенно гавкнула и отскочила, поджав хвост и как бы извиняясь за то, что посмела выразить им неуважение лишь в силу кормящих ее обязанностей.
На стук не отозвались и здесь.
– Бохан, выходи! – заорал Шурка. – Не фиг прятаться, ну?
За дверью ощутилось движение.
– Еще пять минут, ладно? – попросил обреченный голос Бохана, и звякнуло железо: он поправил засов.
– Открывай, а то сейчас толкну дверь и развалю нечаянно дом, – гаркнул Кондрат. – Ладно, даем тебе еще пять минут…
Дверь отворилась. В темных сенцах – если считать сенями метровый тамбур – стоял матрос Бохан в неуставных трусах в цветочек.
– Заходите, – пригласил он тоном пусть и стыдящегося своей нищеты, но все же хозяина, – словно не пятиминутный интервал отделял его от настигшей погони, а успело за прошедшее время восстановиться его единство с этим домом, и теперь он встречает давно не виденных приятелей. На миг представилось, что Бохан уже пару лет как демобилизовался, и нынче принимает старых друзей-сослуживцев.
Шесть пар прогаров были по возможности обтерты от грязи о траву сбоку крыльца. Под притолокой приходилось наклоняться.
– На побывку едет молодой моряк, – глупо сказал Габисония, стукаясь головой.
Поздоровались и встали неловкой толпой.
– Познакомься, мама, это мои друзья, – сказал Бохан, снял с веревки отжатую робу и стал надевать.
Стоявшую у стола женщину трудно было назвать старухой, но и женский ее век был выработан намного раньше предусмотренного календарем срока. Волосы ее были наполовину седы, а когда она открыла рот, зубов там желтело не больше половины комплекта. В секунды скованного молчания Шурка успел представить, что если волосы постричь и покрасить, зубы вставить, лицу сделать массаж и положить косметику, одеть нормально, то и получится нормальная сорокалетняя баба: сбросившая лет двадцать с тех, что висели на ней сейчас, пробивая морщины и сутуля плечи. Правда, с тяжелыми, разбитыми и опухшими крестьянскими руками маникюр, наверное, поделать бы ничего не смог.
– Спасибо вам большое, – сказала она.
– За что?..
– За помощь…
Одевающийся Бохан переместился так, чтобы заслонить собой стол, на котором лежали эти паршивые две влажные сотни и семнадцать рублей мелочью.
– Потом объясню, – быстро и тихо попросил он. – Не надо сейчас ничего, ладно?
– Вы садитесь, – сказала мать. – Стульев всего три… вы вот сюда, на Женину кровать садитесь.
Сели. Вся сцена была тягостной и вызывала желание покончить скорее. Было бы нормальное жилье, нормальный, пусть бедный, достаток – естественно было бы поулыбаться хозяйке, а прямо за дверью дать дезертиру по шее, чтобы не хрен, все служат, у всех матери, шустрый больно. А тут просто какая-то душераздирающая постановка «Напрасно старушка ждет сына домой». Что скажешь?.. Не то пристрелить, чтоб не мучались и себя не мучить, не то печенку из себя вынуть и отдать на прокорм.
Бохан, с трудом шнуруя набухшие прогары, выстраивал оправдания.
– Телефона-то нет, – сказал он. – А на почту далеко ходить, ездить не на чем. Я перед отходом как раз получил письмо, что болеет, дома часто лежит, вот и решил… и застал.
– К счастью случилось, – сказала мать.
– И вообще трудно сейчас, света вот нет опять полгода.
– А куда ж он девался? – спросил Кондрат, и все дружно подняли глаза к лампочке в оранжевом пластиковом абажуре, словно обрадовавшись, что есть повод не смотреть на хозяев.
– А солярки для движка нет. Хозяйство выморочное, одни долги.
Понятным образом напрашивалось сравнение положения его матери с пенсионерами Вытегры, встреча с которыми подвигла на решительные действия, и из этого сравнения те стали выглядеть благополучными и наслаждающимися благами цивилизации. Здесь не от кого было ждать ни немецкого супа, ни русского милосердия.
– Свет-то ладно, – махнула хозяйка и промокнула глазницы. – Вот без телевизора плохо.
– Что, и телик не работает?
– Так он работает, но электричества-то нет.
– А чем болеете-то?
– А кто ж его знает. Неможется иногда совсем.
– А врачи?
– А что врачи. Рентген сделали, анализы сделали. Таблетки принимаю. Говорят – пройдет.
Она поставила на стол бутылку водки с незнакомой аляповатой этикеткой «Онежская» – явно полуподпольный продукт местного снабжения по ценам ниже керосина. Лук, чеснок, в сенях набрала из ведра миску соленых огурцов. «Погодили бы – я картошки сварю».
В избе пахло кащеевой смертью, кислой кашей и пыльными занавесками. От этого гостеприимства хотелось удрать. Нищета даже не трогала – она оставалась чем-то нереальным, из параллельной жизни, не имеющей никаких точек пересечения с жизнью нормальных людей. Единственной точкой пересечения, как гвоздик на ножницах, был матрос Бохан, который вдел наконец пуговки брючных клапанов в мокрые петли и теперь стоял в ожидании.
– Что ж ты мать небогато содержишь? – неискренне осудил Кондрат, пытаясь изобразить, словно в воле Бохана было изменить это положение.
– Так, – положил в воздухе черту кулаком Шурка. – Двое – в ял, стрелой – на борт и обратно, соберите там сколько можно, только рублями, тысяч несколько.
А пока тяпнули сивухи и с решительностью и размахом людей молодых, вкусивших власти денег и оружия, стали выдвигать планы. Своим словам сами мало верили – скорее следовали потребности выразить отношение к увиденному.
– Можно купить корову, – предложил Габисония, кот Матроскин.
– А чем ее кормить? – спросила Лидия Петровна, мать. – И так у нас всех коров порезали.
– Электричество надо провести, – сказал Кондрат.
– Откуда?
– Как откуда. Оттуда, где оно есть.
– Да говорят, в районе своя электростанция почти не работает, не на чем стало.
Шурка натужился и решил вопрос глобально:
– Землю надо вам всем раздать.
– И хотели раздать. Не взяли. А ее как обрабатывать? Я разве могу. А трактор, а солярка, а техника разная. Где деньги на все взять. Да ну… А кому что продавать потом? Нет, в колхозе все же лучше было.
– Так что, восстановить колхоз?
– А его уже не восстановишь. Начальство все себе разобрало, построили дома, купили машины.
– Так что ж – ложись и помирай?
– Примерно выходит так. Вот Жени дождусь, может чего придумаем.
– Валить отсюда! – гортанно закричал Габисония.
– Куда? В Израиль? Нас нигде не ждут.
– Да, – сказал Шурка. – Пора вам идти в партизаны. Склады грабить.
– Да уж у этих партизан без нас все поделено.
Эту скучную аграрную материю прервало тяжелыми шагами командора явление следующее. Командором был капитан первого ранга Колчак, обрамленный и подпираемый двумя клешниками в кожанках и с маузерами, кобуры которых распространяли запах свежей фанеры.
– Под арест всех! – прогремел в дверях Колчак. – Встать, выходи строиться, руки за спину!
Лидия Петровна оробело примолкла. Члены скороспелой партии «Земля и воля» хмуро поднялись. Одного хорошего каперанга, подкрепленного парой стволов, всегда хватит, чтобы подавить любую аграрную революцию в зародыше. Особенно если этому зародышу все равно не грозит превратиться в гидру, опустошающую окрестности и дали в размашистом наведении справедливости.
Но революция есть не цепь случайностей, как учил классик, а целая сеть и даже, можно сказать, кольчуга, в которую эти случайности, высыпаемые объективным историческим периодом, сцепляются. Так сцепляются стальные кольца, и так сцепляются репьи на собачьем хвосте. В подтверждение какового тезиса из-за спины разъяренного старпома возник на диво радушный и дурашливый, явно нетрезвый голос:
– Петровна! Это чё тут у тебя? Женька вернулся? Здорово! А это кто?
И в комнату пропихнулся замечательно деревенский тип, знакомый каждому по картофелеуборочной страде, вытягиванию трактором засевшей в проселке машины и по непревозмогаемой надоедливости при даче или рыбалке. Основными чертами типа являются грязные сапоги, ватник, щетина, запах алкоголя и выраженная этим обликом готовность за бутылку сделать все вплоть до харакири.
– Так а это чё у вас здесь? – огляделся он и жестом блюдущего свою цену гегемона подал старпому ладонь, немытость которой принимается интеллигентными ценителями села как классовая принадлежность пейзанина.
– Я там, мля, значит, на тракторе, мля, а ребятишки, мля, прибежали, говорят – линкор пришел, мля, матросы ходят, что, думаю, блин, за ерунда, пойду посмотрю, мля.
Посмотрев, мля, на свою протянутую в пустоте руку, он деловито повернул ее к другому, подержал и необидчиво опустил.
– Кто такой?
– Я? Санька я. Живу здесь. А вы кто? Чего у вас тут?
Пользуясь заминкой, Шурка в двух словах пояснил старпому ситуацию, достаточно ясную и так. Тот сел к столу, повел носом и сдвинул граненые стопки.
– У вас непьющие в деревне есть?
– Это смотря кто сколько не пьет, – ответила Лидия Петровна. – В общем, откуда им взяться.






