Три романа и первые двадцать шесть рассказов (сборник) Веллер Михаил
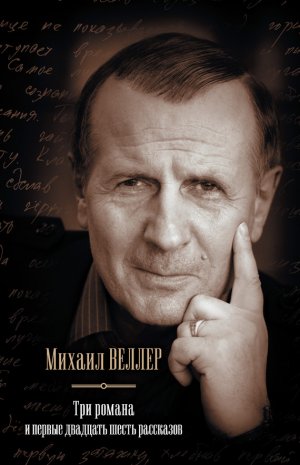
Шурка с сомнением взглянул на темно-русый пробор.
– Петр Ильич, да ничего такого, – успокоил он.
– Да? Чудо. Ты прелесть. А не такого?
– Петр Ильич, как вы относитесь к женщинам?
Ответ был лаконичен, циничен и преувеличен. Беседовать по душам после него было трудно. Шурка раскрыл красную папку и положил документ. Ольховский прочитал и вкось угла наложил на резолюцию свою резолюцию. По легенде, это была любимая резолюция государыни Екатерины. По первым буквам адреса, указанного в резолюции, пункт ссылки в этот адрес подданных был в 1785-м году наименован Кемь.
– Петр Ильич… Ну всего-то: пустить ребят на несколько часов в увольнение. Ну, проведут время с девушками.
– Читать умеешь? Читай. Неси и читай всем вслух.
– Ну, и денег немного выдать. Сами понимаете…
– Матросы денег не берут! – Ольховский подумал, что пошлость ответа на уровне пошлости ситуации. – Крошка сын к отцу пришел: папа, дай денег на бордель.
Шурка принес революционерам несколько вариантов командирского решения проблемы, и если одни из них оскорбляли нравственность, то другие были сопряжены с непоправимым вредом для здоровья, третьи же были неисполнимы в силу своей трудновообразимой противоестественности.
Здесь уместно будет рассмотреть эвфемизм народной поговорки «нашла коса на камень». Если принять во внимание косу как активное начало, с учетом ее формы, размера и твердости, камень же – как олицетворение начала пассивного и неподатливого, сопротивляющегося агрессивному воздействию косы, то аналогия с известным природным актом будет вполне исчерпывающей. Поскольку активное начало воплощается как правило в командире, воздействию же он норовит подвергнуть подчиненного, сам факт приведения здесь этой поговорки указывает, что в продекларированной командиром программе прошли не все номера.
Реввоенсовет принял удар, утер плевок, поднял перчатку и постановил: на коммунистов плевать, но баб не уступим. Или к чертовой матери стопорим машины, съезжаем на берег и сдаемся в ближайшую комендатуру – или играем заход в Углич и получаем полста баксов на рыло и четыре часа увольнения всем желающим. А Ольховский может играть на своем рояле Бетховена вплоть до полной победы справедливости в масштабах всей страны, при этом свободной рукой предаваясь любому пороку.
– Вот и бунт, – въехал в перспективу Ольховский.
– А чего еще ждать от демократии при единоначалии?
Колчак отнесся к народным волнениям на удивление трезво.
– Зачем брызгать против ветра, если есть благоустроенные гальюны? – рассудил он. – Чтобы тебе подчинялись в главном, надо знать меру и идти навстречу в мелочах. Мы сейчас в положении пиратского корабля, где офицеры должны ладить с командой и оставаться единомышленниками.
– Ты представляешь, что такое отпустить их сейчас на берег к бабам? В лучшем случае они разнесут город.
– Да уж… есть такая морская традиция. В хороших портах это всегда знали.
– В хороших портах есть бордели и вышибалы.
– С борделями проблем нет, а вот вышибал наши мальчики сами вышибут теперь.
– Что ты предлагаешь?
– Принять девок на борт.
Лицо Ольховского уподобилось роялю с открытой крышкой, где музыка застряла меж бессмысленно белеющих клавиш.
– Швартуемся, покупаем местную газету с объявлениями, звоним, через полчаса привозят столько путан, сколько нам надо – и дело с концом. Что? Все приличные военачальники всегда учитывали сексуальные потребности войска. Все эти солдатские дома терпимости, повозки с маркитантками, раздача презервативов нижним чинам на позициях и так далее.
– Но это… разложение!
– Разложение – это анархия. Вот когда они станут трахать друг друга или прятать девок по трюмам, а нас посылать на фиг – это будет разложение. А пока – не гневи Бога: стравим пар.
Дернули доктора.
– Можешь им влить побольше брому в компот, что ли, Оленев? Или что там у тебя есть – чтоб яйца на уши не давили?
– Убьют, – честно отвечал Оленев. – А потом – ну хорошо, придавим физиологию, но психология-то останется та же. А это стресс: еще хуже будет.
До Углича оставался час хода. Атмосфера на корабле приобрела все черты взрывоопасности. Срок ультиматума истекал. Офицеров пригласили в кают-компанию на совет.
– Проституция есть клапан социальной напряженности, – сказал Беспятых и углубился в экскурс о храмовых жрицах, отдававшихся путникам. Глаза же Мознаима сделались узкими и маслеными.
В Угличе встали.
На взлобке солнце пыталось красить нежным светом стены древнего кремля. Стены оставались непорочно белыми. Ольховскому представилось, как из них в шеренгу по две спускаются жрицы и в ногу направляются сюда для культовых актов. Видение было кощунственным.
Колчак проверил бумажник и сошел на берег договориться о подключении телефона. Беспятых добежал до киоска и принес пачку местных газет за последние дни. Господа офицеры углубились в их изучение.
Гордая достижением договоренности команда посмеивалась и подрагивала. Судком стриг бумажки и надписывал на них фамилии: уточнял процедуру.
– Думал ли я, чем буду заниматься… – вздохнул Ольховский, обводя красным фломастером очередное объявление: «Девушки для сопровождения, массажные услуги, сауна, выезды на природу. Тел. 560-997».
– «Твоя мечта ждет тебя! Выбери девушку или мужчину! 545-578», – откликнулся доктор. – Тернист путь к святой цели, Петр Ильич.
– Так может закажем им мужика поздоровее?
Судя по количеству объявлений, Углич был центром секс-туризма и мог бы конкурировать с Бангкоком и Тенерифом. Учитывая отсутствие урбанистического размаха в скромном пейзаже, половина его женского населения должна была работать на холдинг «Мамона и Афродита».
Выбрали самые краткие и неброские объявления: у тех, кто экономит на рекламе, и цены могут быть пониже.
– Алло! – начал переговоры лейтенант: он чувствовал приятную раскованность от того, что звонит в столь интимный адрес по сугубо казенной надобности. До сих пор бедность и молодость сводили Беспятых только с бесплатной любовью. – Вы оказываете интимные услуги?
– Что вас интересует? – прошелестел приятный женский голос.
– Э-э… э-э… а что вы можете предоставить?
– Очаровательных девушек, чтобы провести время.
– Так. Хорошо. И… какие условия?
– Акт только с презервативом. Без анального секса. Без группового секса и без однополого. Одна девушка проводит время с одним мужчиной. – (Ласка, легкость, деловитость.)
– Это все?
– Оральный секс в это входит. А вы хотели что-нибудь еще?
– Так. Хорошо. И… сколько стоит… это?
– Два часа – пятьдесят долларов. Один час – тридцать пять. Если на всю ночь – это будет сто. Вы делаете заказ?
– Да.
– Ваш адрес?
– Так. Хорошо. Сколько у вас есть девушек?
– У вас компания?
– Да.
– И сколько девушек вам нужно?
– Сорок.
Ольховский наложил на трубку ладонь, слегка треснул ею Беспятых по лбу и велел:
– Тридцать пять.
Лоб потер, однако, Мознаим. Доктор двусмысленно улыбнулся. Колчак хмыкнул и кивнул командиру.
– Тридцать восемь, – сказал Ольховский и отдал трубку.
– Что вы сказали? – терпеливо повторил голос в ней.
– У нас корабль, – сказал Беспятых. – В порту стоим.
– Понятно. Нет, столько у нас нету. Мы можем прислать вам четверых. Где вы будете встречать? Какой корабль?
Во втором месте нашлось пятеро, в третьем телефон не отвечал, в четвертом извинились, что как раз сегодня свободных девушек нет.
– Русский вариант бардака, – саркастически сказал Колчак. – Даже бардак наладить не могут.
Беспятых перестал заикаться и утомился ролью диспетчера.
– Здравствуйте, – рубил он, – у вас свободные девушки есть?
– Что вы имеете в виду? – осведомились на том конце.
– С презервативом, без анального, без группового, пятьдесят долларов за два часа.
Там помолчали и ответили:
– Это учительская.
Беспятых побагровел и быстро нажал рычаг. «Вот зараза! В учительскую попал». Захохотали.
Перечитав, внимательно набрал номер и услышал тот же голос:
– Учительская.
С третьего захода он сказал:
– Извините, ради Бога, тут просто ошибка… ваш номер 476-178?
– Совершенно верно.
– Ну так ваш номер дан в объявлении газеты «Двое»… в интимном объявлении. Вы учтите.
– Мужчина, – раздраженно ответил голос, – надо читать внимательнее. Там же указано – после девятнадцати часов. А сейчас сколько?
– Я на корабле, – растерялся Беспятых, – мы скоро отойдем.
– Но вы понимаете, что сейчас у нас уроки? Что за люди, я просто не понимаю! Подождите, не кладите трубку.
Мембрана донесла дальний стук каблуков, хлопанье дверей, звонок, краткую перебранку: «Еще раз в рабочее время повторится – выгоню по статье! – Да? А кто вам работать будет? – Так надо же работать, а не… надо же как-то разделять! – Да? А кто нам платить будет?» – и тот же голос сказал в трубку:
– Мужчина! Вы еще слушаете? Ну что у вас?
– Я спросил про свободных девушек… – неуверенно произнес Беспятых.
– Я слышала. Сколько, куда, когда – не задерживайте меня.
– А… сколько у вас есть?
– Только совершеннолетние женщины.
– Да, конечно, разумеется.
– Что «разумеется»? Вы звоните днем в учительскую, ничего не разумеется, выражайтесь точнее – да или нет?
– Да.
– Так сколько?
– Ну… десять у вас есть?
– Есть. Но это если только вы согласны старше сорока пяти лет.
– Нет!
– Что – «нет»? Мужчина, вы вообще трезвый?
– Трезвый! Надо не старше, ну, тридцати пяти.
– «Ну» – или тридцати пяти?
– До тридцати пяти.
– Как хотите. Тогда вам будет только четыре девушки. Вы мне адрес скажете или нет? И условие: сейчас рабочее время, вы дополнительно оплатите такси в оба конца.
В некотором раздрызге от результата переговоров Беспятых повертел трубку, облизнул верхнюю губу. Пот был горьким и пах одеколоном «Эгоист», купленным себе в подарок на день рождения.
«Ну что?» – «Четырех учительниц пришлют». – «Откуда?» – «Из школы». – «Зачем?» – «Затем же». – «Вот как? И почем берут?» – «По столько же». – «Ну-ну. Браво, лейтенант!.. Давай, давай, время идет!»
После массажного кабинета и сауны он попал на проходную завода.
– Заря! – произнес мужской голос, как пароль.
– Аврора! – автоматически вылетело из Беспятых.
– Как дела, Аврора?
– Хорошо, Заря. – Находясь уже в остраненном состоянии, Беспятых не испытывал никакого замешательства. – Как у вас, девушки свободные есть?
– Девчата? А куда ж они денутся. Есть, любые на выбор. Сами подъедете, или как?
– А прислать можете?
– А вот прислать – это тебе надо в транспортный цех звонить. Да они сами приедут, чего там усложнять. Сейчас я в цех позвоню. Тебе сколько?
– Вообще-то надо семнадцать.
– Не понял – это лет или штук?
– Штук.
– Понял, Аврора, – семнадцать штук. Я тогда прямо на сборочный позвоню, там народу полно. А то семнадцать если лет, так лучше все же восемнадцать было бы, ты меня понимаешь. Значит, Аврора, у тебя адрес какой?
– В порту стоим.
– Понял, а в порту где?
– У второго причала.
– Есть. А там что?
– Как что. А там я.
– Я понял, что ты, а приметы? Ну – автобус, павильон, машина, или ты на теплоходе?
– Крейсер «Аврора». Серый. Военный. Не спутать. На корме написано.
– Аврора, ты что, крейсер «Аврора»? Ну здорово! Ну, ты молодец, что нам позвонил.
– Заря, а ты кто?
– Как это кто? Часовой завод «Заря», ты что, не знаешь? А знаешь – так чего спрашиваешь? Ну ты даешь – сам звонишь, и сам спрашиваешь. Ладно, ты давай, встречай девчат. Смотри, чтоб не обижали, девчата у нас хорошие, рабочие.
Первой прибыли в бежевой «девятке» массажистки.
– О ё, – разочарованно протянул Кондрат, дежуривший на причале меж двух веселых кожаных маузеристов. – Страшнее пленных румын.
Высокий спортсмен вылез из-за руля и улыбнулся ему приятно и даже застенчиво.
– Что-то вас тут много, – с сомнением сказал он, оглядывая борт. – Помещение можно осмотреть?
– Тут, браток, помещений – до завтра не обойдешь. Не бойся, все по уговору. Матрос дитя не обидит.
– М-да? Ну вы смотрите только, чтобы все в порядке было. Давайте, я получу.
– Деньги, что ли?
– А что же еще.
– А им?
– С ними мы уже сами.
Его проводили к Беспятых, который расчертил ведомость для расчета.
По такси и отсутствию сопровождения Беспятых в иллюминатор определил учительниц. Они отличались от массажисток тем, что были дешевле и строже одеты; впрочем, понял он, сейчас ведь идут уроки. Одна была с гладко стянутым конским хвостиком и в очках; лейтенант ощутил неожиданное возбуждение, порождаемое близостью запретного плода – примерно так выглядела его школьная учительница географии. Эту четверку направили в офицерский коридор: какая-то социальная субординация подспудно проявлялась сама собой, – хотя такое решение первоначально имело в виду скорее возрастное соответствие. Правда, если говорить о возрасте, «девушки для сопровождения» выглядели ничуть не моложе.
Веселее всех подкатил скрипучий и всхлипнувший дверью заводской «пазик», из него высыпалась пестрая смешливая экскурсия петеушного вида и с шуточками полезла по трапу. Длинная девица с соломенными волосами, торчащая поверх подруг, оступилась и чуть не свалилась в воду, что вызвало взрыв смеха.
Вытягивание свернутых бумажек с фамилиями из бескозырки в вахтенном тамбуре дало новый повод к веселью:
– Га-би-со-ни-я!.. Ой, а это что? Кто? Так у вас свои есть?
– Мы с девочками не играем! Ха-ха-ха!..
Покрасневший Габисония протолкался к своей толстушке.
– Ой, а ты ничего-о!..
– Одичали мальчики на службе… бе-едные!..
Но вот непродуманное отсутствие угощения и условий для прелюдии гостий разочаровало.
– А посидеть? Поговорить, выпить?
– А в ванне вместе помыться? Или у вас нету?
Двое из фабричных девочек, похожие, как близняшки, выделялись миниатюрной щупленькостью и азиатскими лицами. Это были застрявшие здесь когда-то китаянки. Одну звали Ли, а вторую Ци. Поскольку Кондрат, покраснев и надувшись, вдруг заявил, что он уважает свою семью и «этим» не интересуется, его высокоморальный приступ высвободил одну лишнюю кандидатуру. Быстро решили (не пропадать добру, уплачено) китаянками почтить Шурку, как секретарь-председателя: во-первых, они были страшненькие, а во-вторых «по весу и объему как раз на одну потянут», аргументировал Серега Вырин.
…Есть такой один из бесконечных американских телесериалов под названием «Корабль любви». Там все ходят по шикарному белому лайнеру в шикарных белых тропических костюмах, пьют цветные коктейли, падают в голубые бассейны и с трогательным юмором крутят романы с изящно эстетизированной эротикой. Ну так в железных и плохо освещенных закоулках крейсера все было не совсем так или даже вовсе не так.
Хотя, если бы шкодный бес, наскучив толканием в ребро и охромев от усилий, приподнял в этот час палубу крейсера, он мог бы обнаружить и сцены примечательные.
Учительница в очках и с «конским хвостиком», войдя с Беспятых в каюту, внимательно посмотрела на него и сделалась строгой и даже суровой.
– Ах ты гадкий мальчик! – воспитательным тоном сказала она. – Ты что это вздумал – вые ..... ть взрослую тетю, свою учительницу?! А ну-ка снимай штанишки!
Лейтенант побагровел, брызнул счастливым потом и стал расстегиваться.
– Вот сейчас я тебя отшлепаю прямо по пипке! – грозила учительница. – А эт-то еще что у нас такое?.. Ах бесстыдник, и еще стоит! У меня нету такой пипки, откуда еще это у тебя взялось? – она задрала юбку. – Получай! Получай! – шлепнула его ладонью. – А что ты с ней умеешь делать, ну-ка показывай немедленно! А потом мы ее спрячем. Посмотрим, куда лучше спрятать, и туда всунем.
– Откуда ты знаешь… – прошептал умирающий в экстазе лейтенант своей реализованной фантазии.
– Учительница все знает! – погрозила пальчиком учительница и, повернувшись к нему голой попкой, достала из портфеля линейку.
В это же время в медизоляторе Ли и Ци преподносили задыхающемуся Шурке изыски китайской цивилизации. Возможно, в принципиальных моментах она не отличается от западной, но восточные тонкости присутствовали. Внешне девушки были небогаты, но богатство ощущений превосходило мыслимые неискушенным европейцем пределы. Когда они поменялись снизу и сверху, Шурка испугался, что у него остановится сердце: недосягаемый и однако досягаемый пик блаженства показался соседствующим с дуновением смерти.
Мознаим же, забравший себе, к неудовольствию кубрика, белобрысую дылду, и надутый, как трехбунчужный паша, заставлял ее пищать детским голосом: «Ой, дяденька, не надо…» и размахивать при этом фундаментальным бюстом.
Самые сильные впечатления, возможно, остались у Иванова-Седьмого. Страдая по ночам бессонницей, он устроился добирать несколько часиков днем, и был разбужен стуком в дверь: его не забыли.
«Эта несчастная молодая женщина была некрасива, но по-своему очень мила. Я угостил ее чаем с печеньем и по-отечески поинтересовался, какая же жизненная трагедия привела ее на стезю порока. Оказалось, что она учится на заочном отделении юридического факультета Московского университета, и не имеет средств для существования и оплаты учебы. Она мечтает стать прокурором и беспощадно карать в первую очередь тех, кто эксплуатирует труд несчастных женщин. Поистине – через тернии к звездам.
(Продумать, следует ли упоминать о том, что она настояла на близости. Если я поддался на это, то прежде всего руководствовался солидарностью с командой и отзывчивостью. Обязательно отметить, что я не мог удержаться от скупых мужских слез.)
Ах ты Катя, моя Катя, толстоморденькая!..»
Из прочих последствий праздника любви можно перечислить лишь такие мелочи, как обращения к доктору по поводу вывиха колена, ушиба локтя, потертости на копчике и один случай разрыва уздечки. Проклятая проза.
20.
Пост коитус омниа анимал тристиа эст. Поскольку латынь не входит в программу обучения высших военно-морских училищ, не говоря об учебных отрядах, и лишь доктор, выходя за пределы профессионального «пер ос» и «летальный», способен осмысленно произнести: «Фортуна нон пенис, ин манус нон тенис», то логично будет дать русский перевод этой древней и не всем, хотя и многим, известной поговорки: «После совокупления всякое животное печально».
Матросы отнюдь не были печальны, что свидетельствует в пользу теории о божественном происхождения человека, а отнюдь не от обезьяны. Задумчив и печален был командир, который счел несовместимым со своим достоинством встать на одну доску с распущенной матросней и прибегнуть к скупым и кратким радостям платной любви. Возможно, от этого он и был печален, и истинную причину своей печали пытался замаскировать перед самим собой возвышенными и интеллигентными мыслями: так часто бывает. Но поскольку недельное воздержание сорокалетнего семейного мужчины не идет ни в малейшее сравнение с годовым воздержанием мужчины двадцатилетнего и холостого, у нас есть основания считать печаль Ольховского нелицемерной и не имеющей сексуального происхождения. Повод же к ней явился тяжел и скорбен, как крест на любимой могиле. Вернее даже, поводов было три.
Когда тщательно пересчитали сходящих по трапу девиц, отмечая номера в списке посещения, когда рассчитались с «сопровождающими», когда прозвенели звонки, отдали швартовы и корабль отвалил от исторического берега, ширя полоску воды меж бортом и мимолетной любовью, вот тогда Ольховский, подытожив некоторые размышления, исподлобья посмотрел на Колчака и хмуро сказал:
– Лучше бы мы этого не делали, Никола.
– Вопрос был обсужден, решен, решение выполнено. Что за нравственные угрызения? У нас и альтернативы-то особенной не было.
– На шлюх плевать. Хотя и они люди. Не в этом дело. Я про деньги.
– Подумаешь. Кинули пару штук. Деньги есть. Пусть пацаны поживут, пока живы… раз приспичило. Ну – не Мулен-Руж. Зато теперь вертятся в охотку.
– Я не про то!
– А про что?
– Можно было вообще не платить.
Веселая искра зигзагом продернула морщины Колчака.
– Замечание, характерное для русского моряка. Отбираешь деньги – она в экстазе. Вот за это нас во многих портах так любят.
– Ты не понял. Принять всех этих сутенеров и охранников на борт, отоварить и скинуть вон. Они же на бедных девках паразитируют, отбирают восемьдесят процентов. А мы бы заплатили половину прямо им. Заметь: справедливость и выгода всегда вместе.
– Это и есть причина твоей печали? Расслабься. После нашего отхода они бы отобрали у баб все. А куда тем деться? Кто-то должен охранять от маньяков, отморозков, конкуренток. Свой рынок.
– Есть и другая причина. Если мы не можем навести справедливость в такой малости – куда ж мы вообще полезли? Что мы тогда можем? Мерещилось-то: идем, значит, – и везде устраиваем порядок по ходу. А на деле-то – все везде само собой утряслось, сложилось, организовалось, хрен перековырнешь. Вот в чем ужас!..
– Предложения? Идти назад?
– Еще бессмысленнее…
– Ясно, – сказал Колчак тем тоном, что когда-то долгими годами был у него наготове для ответа на приказ – вскрыть красный пакет из командирского сейфа и поднимать с палубы в воздух штурмовики с ядерными бомбами на борту. – А как бы ты экипажи на смерть посылал? – спросил он. – А как бы сам шел с кораблем на смерть? Что, гвозди делать не из этих людей? Вот из-за таких мелихлюндий и не было в России Френсиса Дрейка и Наполеона, а был семнадцатый год и девяносто первый.
Тяжелые носогубные складки и змеиный изгиб рта придавали в зыбких сумерках каюты его лицу выражение прямо-таки дьявольское.
Плеснул спирта, плеснул воды, стукнул стаканом:
– Наше дело правое – победа будет за нами! Больше наглости, каперанг!
– Чашу эту мимо пронеси… – произнес Ольховский и выпил, подперся кулаком.
– Устав надо читать, а не Евангелие, товарищ офицер.
– Почему?..
– Душу все равно не спасешь, а дело делать надо.
– Это Пастернак.
– Терпеть не могу Пастернака.
– Что ты имеешь против Пастернака?
– А он как-то всю жизнь очень ловко увиливал от всех несчастий эпохи, только под конец вделся. Что-то тут не так. Я вообще не люблю тех, кто умеет устраиваться.
– Не так уж он устраивался. Хотя один момент был. Это он подарил Цветаевой обвязать чемодан веревку, на которой она потом повесилась.
– Экая самурайская заботливость.
– Я не про то.
– Трудно с тобой, командир. Что тебе ни скажешь – все ты не про то. А про что?
– Вот в этом плаче Иисуса в ночь перед арестом что-то есть, конечно. Знаешь – а плачешь. Плачешь – а идешь.
– Поплакал – и вперед. У него была своя задача, а у тебя – своя. Почитай газеты – не захочешь Пастернака.
– А что захочешь?
– Наставление по совершению государственных переворотов. Кстати о газетах: ты не обратил внимания, чего это они здесь с ятями и твердыми знаками? Местная журналистская мода, или областные правила русского языка?






