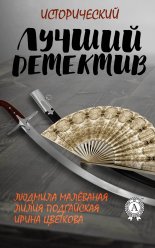Они и я Джером Джером

Хокер был силен; у меня на глазах выступили слезы. Таким образом, принцесса за свое излечение дракона взяла с него обещание измениться.
Они вместе вернулись к принцу, и дракон обещал служить им обоим. Принц увез принцессу домой и женился на ней, а дракон умер и был похоронен. Другим сказка понравилась больше в таком виде, но я ее возненавидел; ветер только вздохнул и замер.
Мальчуганы превратились в читающую публику, Хокер сделался издателем; он постоянно скручивает мне руки, хотя и другим способом.
Кто не уступает, того только сшибают с ног и спешат на поезд, Но, кнесчастью, большинство из нас рабы Хокеров. Ветру под конец это надоедает; он перестает нам нашептывать сказки, и мы принуждены уж сами придумывать их. Может быть, выходит не хуже. Зачем существуют двери и окна, как не для того, чтобы не допускать к нам ветра?
Опасный малый — этот странствующий ветер; он отнес меня в сторону.
Ведь я говорил о нашем архитекторе.
Уж самое первое его появление уронило его в глазах Робины: он вошел через кухонную дверь. Робина, в большом фартуке, что-то мыла. Он извинился, что так ворвался в кухню, и предложил выйти обратно и направиться к парадной двери. Робина ответила с строгостью, вызвавшей мое изумление, что архитектору, лучше чем кому-нибудь, должна быть известна разница между передним и задним фасадом дома, но высказала предположение, что молодость и неопытность могут всегда служить извинением глупости. Я не могу постигнуть причину такой досады Робины. Всего несколько дней тому назад она объяснила Веронике, что работа возвышает женщину.
В прежние времена дамы — самые знатные — гордились своим умением исполнять домашние обязанности, а не стыдились того. Теперь я напомнил об этом Робине. Она ответила, что в старинные времена юнцы, называющие себя архитекторами, не врывались в дома через черный ход, не постучавшись, или постучавшись так тихо, что никто не мог слышать.
Робина вытерла руки о полотенце за дверью и провела посетителя в приемную, где холодно доложила о нем, как о «молодом человеке, занимающемся у архитектора». Он объяснил — очень скромно, — что он собственно не один из служащих у господ Спрейтов, но сам также архитектор и младший компаньон фирмы.
Для удостоверения он подал свою визитную карточку, где значилось «Мистер Арчибальд Т. Бьют, архитектор». Собственно говоря, все это бы было излишне. Через дверь я, конечно, слышал каждое слово. Старик Спрейт сообщил мне о намерении прислать ко мне одного из своих наиболее способных помощников, который мог бы вполне посвятить себя моей работе. Я уладил дело, представив молодого человека формально Робине. Они поклонились друг другу довольно холодно. Робина попросила извинения, что вернется к работе, на что Бьют ответил, что «очень приятно», и он ничего не имеет против. Как я старался объяснить Робине, молодой человек конфузился. Он, очевидно, хотел сказать, что очень рад знакомству с нею, а не желанию ее вернуться в кухню. Но Робина, видимо, почувствовала к нему антипатию.
Я предложил ему сигару, и мы направились к нашему дому. Он лежит ровно в миле от коттеджа, за лесом.
Я открыл скоро одну хорошую черту в своем спутнике: он умен, хотя и не всезнайка.
К стыду своему, должен сознаться, что молодой человек, все знающий, приводит меня в смущение. Это очевидное доказательство моей собственной умственной ограниченности. Умственно разносторонний человек ищет общества людей, стоящих выше его. Он желает идти вперед, учиться. Если бы я любил знание, как его следует любить, я бы окружил себя исключительно молодежью. Бывал у нас один приятель Дика. Одно время я, кажется, возбуждал в нем надежды; я это чувствовал. Но он был слишком нетерпелив. Он желал подвинуть меня слишком быстро.
Надо же принимать во внимание индивидуальные способности. Прослушав его час-другой, я чувствовал, что мысли у меня начинают путаться. Я ничего не мог с собой поделать. До меня доносился беззаботный смех неученых джентльменов и леди с крокетной площадки или из бильярдной, и у меня являлось желание присоединиться к ним. По временам я пытался бороться против своих низменных инстинктов.
Что знают эти господа? Чему они могут научить меня? Но все же чаще всего я не мог устоять против искушения. Случалось даже, что я вставал и внезапно уходил от своего просветителя.
Во время нашей прогулки я рассуждал с Бьютом об архитектуре домов вообще. Он сказал, что может определить в современной архитектуре домов тенденцию к угловатости. Английская публика желает жить по углам. Одна дама, для мужа которой его фирма строила дом в Сэррее, поставила ему задачу в этом роде. Она согласилась, что дом очень мил: ни в одном сэррейском доме нет столько углов, а это значило очень много. Но она не предвидела, как в будущем ей разместить детей. До сих пор она наказывала их при случае, ставя в угол; стыд такого наказания всегда оказывал благотворное влияние на них. Но в новом здании углам отведено первое место. В угол помещают самого почетного гостя.
У отца — угол, принадлежащий исключительно ему, где высоко над его головой помещается замысловатого устройства шкаф, в котором, добравшись туда с помощью приставной лестницы, он может прятать свои трубки и табак, благодаря чему постепенно отучится от курения. У матери есть также свой уголок, где стоит прялка на тот случай, если ей вздумается приняться за тканье простынь и белья. Тут же приделана полка для книг с тринадцатью томами, расположенных в наклонном положении, чтобы все имело естественный вид; последняя книга поддерживается под углом в сорок пять градусов пивной кружкой старинного синего китайского фарфора. Дотрагиваться до книг не полагается, потому что это нарушило бы их расположение.
Да кроме того, разбирая их, нетрудно было бы опрокинуть кружку.
Результатом всего этого является то, что угол теряет свой заброшенный характер. Родитель или родительница уже не могут сказать провинившемуся чаду:
— Скверный мальчишка! Ступай сию минуту в угол.
В доме будущего местом наказания сделается середина комнаты. Рассердившись, мать крикнет:
— Ты не отвечаешь, упрямец! Ступай сию минуту на середину комнаты и стой, пока я позову тебя!
Разместить восемь человек в доме, выстроенном по художественному плану, представляется задачей очень трудной. В художественно отделанной комнате на картинах никого никогда не видно. На столе лежит полоса художественной вышивки рядом с букетом роз в вазе. С высокой спинки старинного кресла свешивается такая же работа, неоконченная, оставленная ею — жилицей этой комнаты. В «кабинете» — открытая книга, корешком кверху, оставлена на стуле. Это была последняя книга, которую читал он, и ее никто не трогал после того.
Остывшая трубка причудливой формы лежит на подоконнике окна с переплетами. Никто не будет больше курить из этой трубки: из нее, должно быть, было трудно курить когда бы то ни было.
Вид такой комнаты, изображенной в мебельном каталоге, всегда вызывает слезы у меня на глазах. Когда-то в этих комнатах жили люди, читали эти книги в кожаных переплетах, курили — или пытались курить — эти неудобные трубки; белые ручки вертели эти неоконченные антимакассары или начатые туфли, и затем исчезли, а вещи остались, где лежали.
Получается впечатление, что люди, жившие в этих художественно убранных комнатах, все умерли. Вот здесь была их «столовая». Они сидели на этих красивых стульях; только этим сервизом на буфете в елизаветинском стиле они вряд ли пользовались, потому что в таком случае пришлось бы лишить буфет его убранства: вероятно, у них была запасная посуда или они обедали в кухне.
«Вестибюль» — комната незапятнанной чистоты. В каком-нибудь половичке здесь не могло быть нужды, надо предположить, что посетитель с грязными сапогами должен был обходить кругом.
За дверью висит дорожный плащ, именно такой, какой можно ожидать встретить здесь, — декоративный плащ.
Зонтик или ватерпруф испортили бы весь эффект.
Изредка иллюстратор художественной комнаты допускает присутствие в ней молодой девушки.
Но и девушка эта тщательно подобрана под общий стиль. Начиная с того, что она одета так, будто родилась триста лет тому назад. На ней такое платье и причесана она так же.
Она должна иметь грустный вид: веселая девушка нарушила бы художественное впечатление комнаты. Можно представить себе разговор художника с гордым обладателем дома:
— Нет ли у вас несчастной дочери? Прелестной девушки, но разочарованной в своей любви… непонятой. Вы могли бы одеть ее по образцам местного музея и снять среди обстановки. Такая фигурка придает рисунку правдоподобность.
Дотрагиваться до чего-либо она не должна…. Все, что ей дозволяется делать, это читать книгу, то есть не читать в действительности — это внесло бы слишком много жизни и движения. Пусть она сидит с книгой на коленях и смотрит в огонь, если это в столовой, или в окно, если она в будуаре, и архитектор желает привлечь внимание на местечко в нише окна.
Мужчины не допускаются — насколько я мог заметить — ни в одну из этих комнат. Однажды мне показалось, что я вижу мужчину, проникшего в собственную «курилку»; но при более внимательном рассмотрении оказалось, что это только портрет.
Иногда дают «перспективу». Двери открыты, и вы смотрите прямо через «уголок» в сад. Нигде ни одной живой души. Вся семья отослана на прогулку или заперта в подвальном этаже. Это кажется вам странным, пока вы не поразмыслите хорошенько. Современные мужчина и женщина нехудожественны. И я нехудожествен, то есть в том смысле, как я это понимаю. Я не подходящая фигура для гобеленов и грелок. Я чувствую это.
И Робина нехудожественна в том же смысле. Я однажды попробовал посадить ее на стул римского образца за клавикорды, купленные по дешевой цене. Оказалось что-то совершенно несообразное. Пианино с фотографиями и папоротником на нем — вот какой обстановки требует Робина.
Дик нехудожествен. К Дику не подходят павлиньи перья и гитара. Я вообще не могу себе представить, как может семья жить в подобных домах пятнадцатого столетия, если она не готовится в трубадуры и рыцари. Современная семья — отец в широких панталонах и смокинге, который не мог бы застегнуть, если бы пожелал; мать — сколок с королевы Виктории; мальчики в фланелевых костюмах и воротничках до ушей, дочери в автомобильных капорах… Такой семье так же не место в средневековом жилище, как партии куковских экскурсантов на улицах Помпеи, где они распивают пиво.
Рисовальщик художественных комнат хорошо делает, придерживаясь «nature morte». В художественном доме все, перефразируя Уатса, красиво, один только человек нехудожествен. На картине художественная спальня с зеленой мебелью, кроватью из вишневого дерева и драпировкой, чуть-чуть тронутой красным, очаровательна.
А положите кого-либо на постель из вишневого дерева, как бы художествен он ни был, и очарование исчезнет. У художественного владельца спальни должна быть комнатка позади, где он спит и одевается. Он только заглядывает в дверь своей артистической спальни или, может быть, иногда заходит, чтобы переменить розы.
Представьте себе виды художественной детской пять минут после того, как в нее впустили ребенка. Я знаю даму, истратившую сотни фунтов на устройство «художественной» детской. Она с гордостью показывала ее знакомым.
Детей пускали туда в воскресенье после обеда. Я сам сделал недавно подобную глупость. Прельщенный каталогом мебельного магазина, я вздумал подарить Робине в день ее рождения будуар. Мы оба потом пожалели об этом. Робина говорила, что она могла бы получить велосипед, брильянтовую браслетку и мандолину, и я притом все бы еще сэкономил некоторую сумму. А я выполнил свое намерение добросовестно. Я сказал мебельщику, что все должно быть как на картинке: «Рисунок спальни-будуара для молодой девушки, меблировка тикового дерева, занавесы серовато-голубые». Тут было все: приспособление для зажигания огня, обращаться с которым, может быть, умела древняя весталка; подсвечники — сами по себе картинки, пока мы не пробовали вставить в них свечи. Библиотека-бюро была настолько мала, что на ней невозможно было писать; а достать книгу было возможно, только оставив мысль о писании и закрыв крышку. С умывальника, имевшего вид старинного бюро с неизменной вазой цветов на нем, надо было перед употреблением снимать и крышку и вазу. Туалет был снабжен зеркалом таких размеров, что в нем можно было рассмотреть только собственный нос. Кровать помещалась за ширмочкой, за которую нельзя было пролезть, чтобы оправить постель. Более изящной комнаты трудно было себе представить, пока Робина не переночевала в ней. Она сделала эту попытку. Подруги, которым она похвасталась своей комнатой, просили показать им ее, Робина ответила: «Подождите минуту» и побежала, захлопнув дверь. Вслед за тем до нас целые полчаса доносился звук закрываемых шкафов и передвигаемых вещей. И все время она сердилась и раздражалась. Теперь она желала бы передать свой будуар Веронике, но Вероника протестует против его положения между ванной и кабинетом. Ей хочется иметь комнату более отдаленную, где ей можно бы запираться и работать, как она выражается — не боясь быть прерванной.
Бьют сообщил мне, что один из его состоятельных знакомых вздумал отделать свою квартиру в стиле римской виллы. Конечно, каминов не было; комнаты согревались горячим паром из кухни. В ноябрьские вечера они имели безотрадный вид, и никто не знал где сесть. Свет по вечерам давали греческие лампы, ясно объяснявшие, почему древние римляне рано ложились спать. Обедали, вытянувшись на ложе. Это было возможно, взяв тарелку в руки и кушая пальцами; но при применении вилки и ножа получались все удобства пикника с горячими кушаньями. Вы не наслаждались роскошью стола и даже не сердились: вам только досадно было за ваше платье. Хозяин не мог претендовать, чтоб его знакомые являлись кнему в римских тогах, и даже его собственный слуга не согласился облечься в одежду римского раба. Такое несоответствие очень портило общее впечатление. Не можете вы превратиться в римского патриция времен Антония, когда живете в Пиккадилли в начале двадцатого столетия. Единственное, чего вы достигнете, — это лишить ваших знакомых всяких удобств и испортить им обед.
Бьют добавил, что лично для себя он предпочитает провести вечер со своими маленькими племянниками, играя в лошадки. По его мнению, это куда забавнее.
Он сказал, что, конечно, как архитектор, он восхищается художественными памятниками старины. Но для греческого храма необходимы гречанки и греческое небо. Даже Вестминстерское аббатство во время сезона — для него бельмо на глазу. Декан и хор в белых стихарях еще куда ни шло, но прихожане в черных смокингах и парижских шляпах производят на него такое же впечатление, как если бы на банкет в зале Каннонстритского отеля собрались босоногие францисканцы.
Я не мог не согласиться, что в его замечаниях был смысл, и решил не упоминать о своем намерении вырезать над входом число 1553.
Бьют сказал, что не понимает мании теперешних домостроителей играть в крестоносцы или кентерберийские богомольцы. Один его знакомый берлинский сапожник, ликвидировавший свои дела, построил себе близ Гейдельберга небольшой замок в романском вкусе. Играли на бильярде в башенке на крыше и пускали в день рождения кайзера фейерверк с платформы дозорной башни.
Другой его знакомый, суконный торговец, выстроил себе ферму, окруженную рвом. Ров наполнялся из водопровода особым приспособлением, и электрические лампочки имели вид свечей. Он все воспроизвел до мельчайших подробностей, даже устроил голубую комнату с привидениями и миниатюрную часовенку, которую употреблял вместо телефонного шкафа.
Бьют был приглашен туда охотиться осенью. Он имел при этом сильное поползновение запастись луком и стрелами.
Между тем в моем молодом собеседнике произошла перемена. Пока мы говорили о других вещах, он был застенчив и молчалив. Как только речь зашла о кирпичах и цементе, он все объяснял с замечательным знанием дела.
Я попытался замолвить несколько слов в пользу дома эпохи Тюдоров. Он сказал, что дом эпохи Тюдоров годен для жилья людей той эпохи — для рыцаря, жена которого ездит сидя за ним на вьючном седле и который ведет свою переписку с помощью разбойников. Камины тюдоровской эпохи предназначались для времени, когда каменный уголь был неизвестен и трубы могли дымить сколько угодно. Он утверждал, что такой дом будет смешон с автомобилем, стоящим перед подъездом, и электрическими звонками, каждую минуту напоминающими о комфорте.
— Выстроить вам, писателю двадцатого века, дом в стиле Тюдоров было бы совершенно несообразно, — возразил мой собеседник.
Он был отчасти прав. И когда Бьюту дом, до которого мы тем временем дошли, понравился, я решил не упоминать о своих планах изменить каминные трубы и сделать остроконечные крыши.
— Дом хороший, — решил мой архитектор. — В нем владелец в смокинге и модных панталонах может сидеть, не чувствуя себя пришельцем из другой эпохи. Он выстроен для человека в современном костюме, и разве только допускает изредка охотничий наряд и гетры. Вы можете наслаждаться здесь игрой на бильярде, не испытывая чувства, которое испытываете, играя в теннис под сенью пирамид!
Мы вошли в дом, и я изложил архитектору свои соображения, т. е. те, которые, как я чувствовал, он одобрит. Это взяло у нас довольно времени, и когда мы взглянули на часы, оказалось, что последний поезд, с которым Бьют мог уехать, ушел.
У нас еще оставалось многое обсудить, и я предложил архитектору вернуться со мной в коттедж и переночевать у нас. Я уступлю ему свою комнату, а сам помещусь у Дика.
Я рассказал ему о корове, но он заявил, что он спит очень крепко, и просил только одолжить ему ночную сорочку. Впрочем, он справился еще, не коснется ли перемещение мисс Робины. Я уверил, что для Робины его посещение будет очень полезно: нежданый гость ей дает полезный урок в хозяйстве. А если б мы даже при этом ее потревожили, так и то невелика беда.
— Конечно, для вас невелика, — ответил он, улыбаясь, — на вас она не будет негодовать.
— Все устроим, мой милый, и всю ответственность беру на себя, — успокоил я его.
— А мне достанется, — решил он.
Я еще раз повторил, что не важно, кого стала бы винить Робина.
После этого мы заговорили о женщинах. Я высказал свое сложившееся убеждение, что лучший способ обращения с женщинами — смотреть на них как на детей.
Он ответил, что это, может быть, и хороший метод, но что же делать, если они обращаются с вами как с ребенком…
Архитектор снова исчез, и Бьют на обратном пути к коттеджу превратился опять в застенчивого молодого человека. Когда я взялся за ручку двери, он спросил:
— Не кухонная ли это дверь, сэр?
Это была действительно кухонная дверь, я не заметил того.
— Все равно… — начал было я.
Но мой спутник исчез. Я последовал за ним, и мы вошли в парадную дверь. Робина стояла у стола и чистила картофель.
— Я привел мистера Бьюта обратно с собой, — объяснил я. — Он будет ночевать у нас.
Робина сказала:
— Если мне когда-нибудь придется жить в коттедже, у него будет один вход. — Она взяла картофель и ушла наверх.
— Надеюсь, мы не займем ее комнату? — спросил Бьют.
— Не беспокойтесь, мы не потревожим ее; а если б и так, то она должна привыкать. Уступать свое место — один из уроков жизни.
Я повел его наверх, намереваясь показать ему комнату, где он будет спать.
Двери спален приходились одна против другой. Я ошибся я отворил не ту дверь. Робина сидела на постели и чистила картофель.
Я объяснил, что мы ошиблись.
Робина ответила, что это не важно и, взяв картофель, снова спустилась вниз. Взглянув в окно, я видел, как она направилась в лес. Картофель она уносила с собой.
— И зачем это мы отворили не ту дверь, — с глубоким вздохом произнес Бьют.
— Как вы сами себя мучаете, молодой человек! — сказал я ему. — Взгляните на вещи с юмористической точки зрения. Ведь, право, выходит смешно, когда поразмыслишь. Куда бы ни направилась бедная девочка, надеясь спокойно дочистить свой картофель, мы нападаем на нее. Теперь нам следовало бы отправиться в лес. Лесок хорошенький. Мы бы могли объявить, что пришли за цветами.
Но мне не удалось убедить Бьюта. Он сказал, что ему надо написать несколько писем, и, если я ничего не имею против, он останется наверху, пока не будет готов обед.
Дик и Вероника вернулись несколько позднее. Дик побывал у мистера Сен-Леонара и переговорил об уроках сельского хозяйства. Он говорил, что старик, вероятно, мне понравится, и что он вовсе не похож на фермера.
Вероника тоже вернулась в хорошем расположении духа: она встретилась там с осликом, и он покорил ее сердце. Дик поверил мне, что, не взявши на себя никаких обязательств, он намекнул Веронике, что, если она будет долгое время «умницей», может быть, я и соглашусь купить ей ослика. Это сильное животное и может быть нам полезно. Во всяком случае, у Вероники окажется цель жизни, что-нибудь, к чему она станет стремиться — а это именно ей и надо. По временам Дик бывает предусмотрителен.
Обед оказался удачнее, чем я ожидал. Робина подала к закуске дыню, а затем сардины, дичь с картофелем и пюре из зелени. Ее кулинарное умение удивило меня.
Я предупреждал Бьюта, что на этот обед следует скорее смотреть как на шутку, чем на вечернюю еду, и сам готовился скорее почерпнуть из него забаву, чем утоление голода. Меня постигло приятное разочарование.
Мы закончили обед холодным пирожным и прекрасным кофе, сваренным Робиной на спиртовке, пока Дик и Вероника убирали со стола.
Это был один из самых приятных обедов, в каких мне приходилось принимать участие, и по вычислениям Робины стоил всего шесть шиллингов четыре пенса на всех пятерых. Так как не было слуг, то мы говорили не стесняясь и весело. Это заставило меня вспомнить один происшедший со мной случай. Однажды за обедом я начал было рассказывать историю об одном шотландце, как хозяин взглядом дал мне понять, чтобы я замолчал. Позднее он за десертом объяснил мне, что его столовая горничная была шотландка и притом очень обидчивая. Затем разговор перешел на гомруль, и снова хозяин попросил меня замолчать. По-видимому, буфетчик был ирландец и завзятый приверженец Парнелля. Многие могут разговаривать, как будто прислуга — какие-то машины, но для меня слуги такие же люди, как все другие, и их присутствие стесняет меня. Например, я знаю, что мои гости не слыхали какого-нибудь анекдота, а от собственной плоти и крови можно ждать некоторого самопожертвования. Но мне жаль прислуживающей горничной, которая слышала анекдот уже десять раз. И я не могу заставить ее выслушать свой рассказ в одиннадцатый раз.
После обеда мы отставили стол в угол, и Дик извлек что-то вроде вальса из мандолины Робины. Яуже много лет не танцевал; но Вероника объявила, что готова бы танцевать каждый день со мной, вместо тех «мальчишек», которым учительница танцев поручает вертеть своих учениц. Может быть, я и действительно опять стану отплясывать. В конце концов, мужчине столько лет, сколько он сам чувствует.
Бьют оказался прекрасным танцором и мог даже делать повороты, для чего требуется немалое искусство в комнате, имеющей четырнадцать футов в квадрате. Когда он ушел, Робина доверила мне, что во время танцев он еще сносен. Я положительно не понимаю, что может Робина иметь против него. Он не красив, но и не дурен, а улыбка у него очень приятная. Робина говорит, что именно этой улыбки она не выносит. Дик согласен со мной, что Бьют не глуп, а Вероника, не любительница хвалить по-пустому, говорит, что она не видала никого, кто бы так хорошо представлял живого или мертвого краснокожего.
Мы закончили вечер пением.
Обширность репертуара Дика удивила меня; очевидно, он не так лентяйничал в Кэмбридже, как казалось. У Бьюта очень порядочный баритон. Только в четверть двенадцатого мы вспомнили, что Веронике следовало бы быть в постели в девять часов, и все удивились, что стало уже так поздно.
— Зачем нам нельзя всегда жить в деревне и делать что вздумается! — проговорила Вероника, целуя меня на прощание. — Это куда забавнее!
— Затем, что мы идиоты, Вероника, по крайней мере, большинство из нас, — ответил я ей.
V
На следующее утро я отправился к Сен-Леонару. Недалеко от дома мне повстречался юноша Опкинс верхом.
Он размахивал над головой вилами и декламировал «Выступление легкой кавалерии», что, по-видимому, доставляло удовольствие его лошади. Он сказал мне, что я найду «хозяина» у хлевов. Сен-Леонар вовсе не «старик». Дик, вероятно, видел его при плохом освещении. Мне он показался скорее мужчиной в расцвете лет, разве только на самую малость старше меня. Но Дик был прав, говоря, что он не похож на фермера, — начиная с того, что имя его, Губерт Сен-Леонар, вовсе не фермерское.
Можно представить себе человека с таким именем автором книги о сельском хозяйстве, теоретически знакомым с предметом, но вообще фермерского в нем нет ничего. Нельзя определить, что именно, но только в каждом фермере что-то указывает вам на сельского хозяина.
Например, как он облокачивается о калитку. Существует столько различных способов облокачиваться о калитку. Я перепробовал их все и никогда не мог найти настоящего. Это, должно быть, уж в крови. У фермера особенная манера стоять на одной ноге и смотреть на вещь, которой нет.
Кажется просто, а вот в том-то и есть загадка.
Губерт Сен-Леонар показался мне в очень возбужденном состоянии. Он никак не может привыкнуть к спокойному отчаянию — уделу сельского хозяина.
Он высок и худ, с впечатлительным, подвижным лицом и имеет курьезный жест: он схватывает по временам голову руками, как бы для того, чтобы убедиться, действительно ли она на месте. Когда я подошел к нему, он собирался в обход своего хозяйства, и я вызвался сопутствовать ему. Он рассказал мне, что не всегда был сельским хозяином: еще недавно он был маклером. Но он всегда ненавидел свое ремесло и, сделав кое-какие сбережения, решил, как только ему исполнится сорок лет, позволить себе редкую роскошь, — жить самостоятельною жизнью. Я спросил его, окупаются ли его труды. Он ответил:
— Как во всем, это зависит от того, к чему вы стремитесь. Ну как посторонний наблюдатель скажите: какое жалованье мне стоило бы дать в год?
Вопрос был затруднительный.
— Вы боитесь, что, ответив откровенно, вы обидите меня, — высказал он свое предположение. — Ну, хорошо. Чтобы объяснить вам мою теорию, предлагаю взять примером вас. Я читал все ваши книги, и они мне нравятся. В качестве почитателя я бы сказал, что вы можете заработать фунтов пятьсот в год. Вы, может быть, зарабатываете две тысячи и считаете, что вам следовало бы получать пять.
Загадочная улыбка, сопровождавшая эти слова, обезоружила меня.
— Большинство из нас стремится к слишком высоким заработкам. Джон Смит, которому красная цена сто фунтов, ценит себя, по крайней мере, в двести. Результат: трудность добавочного заработка, переутомление, вечная неудовлетворенность, вечный страх, что другой тебя обгонит. Возвращаюсь к вашей работе: мне кажется, вы были бы счастливее, зарабатывая пятьсот фунтов, чем можете быть, добившись двух тысяч. Чтобы получить такой доход, то есть довести его до двух тысяч, вам приходится работать над вещами, не приносящими вам удовольствия при создании их. Довольствуясь пятьюстами, вы бы могли делать только то, что вам нравится. Мы должны помнить, что свет, на котором мы живем, не совершенство. В совершенном мире мыслителю была бы цена выше, чем романисту. В нем фермер ценился бы дороже маклера. Переменив свое положение, я должен был спуститься. Но, зарабатывая менее денег, я получаю от жизни больше удовлетворения. Я имел возможность пить постоянно только шампанское, но у меня болела печень, и я не мог пить его. Теперь я не в состоянии покупать шампанского, но с удовольствием пью пиво.
Моя теория такова: все мы имеем право на вознаграждение по нашей рыночной ценности — ни больше ни меньше. Вы можете все это получать чистоганом. И я получал так же в прежнее время. Или вы можете получать меньше денег, но иметь больше удовольствия, и это теперь происходит со мной.
— Приятно повстречаться с философом, — заметил я. — Конечно, слышишь о них, но я, лично, полагал, что они уже все вывелись.
— Люди смеются над философией, — сказал он, — но я никогда не мог понять почему. Философия — наука, научающая нас, как вести свободное, мирное, счастливое существование. Я готов бы отдать половину оставшейся мне жизни за то, чтобы стать философом.
— Я не смеюсь над философией, — возразил я, — и чистосердечно полагал, что вы философ. Я вывел это заключение из ваших рассуждений.
— Из рассуждений? Всякий может рассуждать. Вы говорите, я рассуждаю, как философ.
— Не только рассуждаете, но и поступаете, — настаивал я. — Вы жертвуете доходом ради того, чтобы жить, как вам приятно. Разве это не философия?
Я желал поддержать его в хорошем расположении духа. Мне предстояло переговорить с ним о трех вещах: о корове, осле и Дике.
— Нет, — возразил он мне. — Философ остался бы маклером и был бы не менее счастлив. Философия не зависит от окружающей обстановки. Философ может жить где угодно. Ему все равно, раз его философия остается при нем. Можешь сразу сообщить ему, что он сделается императором или отправится на вечную каторжную работу. Он продолжает быть философом, как будто ничего не случилось. У нас есть старый кот. Дети ужасно отравляют ему существование: запирают его в рояль, предполагая, что он наделает там шум и кого-нибудь испугает; а он вместо того, чтобы кричать, преспокойно укладывается спать. Когда час спустя кто-нибудь откроет рояль, бедняга лежит, вытянувшись на струнах, и мурлычет про себя. Его одевают в платье ребенка, укладывают в детскую колясочку и везут гулять; он лежит смирнехонько, оглядываясь по сторонам, и пользуется свежим воздухом. Его таскают за хвост. Видя, как он раскачивается, вися головой вниз, можно подумать, что он благодарит за новое получаемое впечатление. Он, очевидно, смотрит на все происходящее с надеждой, что этот опыт поведет к чему-нибудь хорошему. Прошлой зимой он лишился ноги, попав в капкан; теперь он весело попрыгивает себе на трех ногах. Как будто даже доволен, что обходится с тремя — одной меньше мыть. Вот этот кот истинный философ; что бы с ним ни случилось, он всегда доволен и невозмутим.
Я начинал раздражаться. Я знаю человека, с которым невозможно было вступить в спор. Несколько членов клуба — новички — предложили пари, что они сумеют стать на противоположные точки зрения с ним, о каком бы предмете под солнцем ни заговорили. Они назвали Ллойд Джорджа изменником отечеству. Этот человек встал и потряс им руки, находя слова слишком слабыми для выражения восхищения выказанным ими бесстрашием. Затем они начали поносить Бальфура, доходя до диффамации. Он чуть не бросился им на шею, как будто мечтой его жизни было услышать поношение Бальфуру. Я сам говорил с ним подолгу и вынес впечатление, что он человек, ищущий мира во что бы то ни стало. Очень бывало забавно, когда около него случалось собраться человекам шести. В это время он напоминал комнатную собачку, которую шесть человек зовут с разных концов дома. Ей хочется бежать ко всем за раз.
Вот и теперь я понял своего собеседника и перестал раздражаться. Я сказал ему:
— Нам предстоит быть соседями, и мне кажется, мы сойдемся. То есть если мне удастся ближе узнать вас. Вы начали с восхищения философией: я спешу согласиться с вами. Это благородная наука. Когда моя младшая дочь вырастет, старшая станет благоразумнее, Дика сбуду с рук, а английская публика научится ценить хорошую литературу, я надеюсь сделаться сам в некотором роде философом. Но прежде чем я успел изложить вам свои мнения, вы изменили свой взгляд и сравнили философа со старым котом, у которого, по-видимому, мозги слабоваты. Говоря кратко, собственно, кто вы?
— Дурак, — быстро ответил он, — несчастный сумасшедший. У меня ум философа в соединении с чрезвычайно раздражительным темпераментом. Философия говорит мне, что я должен стыдиться своей раздражительности, а раздражительность заставляет видеть в философии чистую нелепость в применении ко мне. Философ во мне говорит, что не велика беда, если близнецы упадут в прудок. Прудок неглубок, не в первый и не в последний раз они попадают в него. Такие вещи вызывают у философа только улыбку. Человек, сидящий во мне, называет философа идиотом за то, что он относится небрежно к тому, к чему нельзя относиться свысока. И вот отрываешь людей от работы, чтобы выловить упавших. Мы все промокаем насквозь. Я промокаю и волнуюсь, а это всегда отзывается на моей печени. Платье детей испорчено в конец. Черт их побери, — кровь бросилась ему в голову, — непременно отправляются к прудку в лучшем платье! Что-то есть несуразное в близнецах. Почему? Почему близнецам быть хуже других детей? Все мы знаем, что каждый ребенок не ангел. Вот взгляните на мои сапоги; они мне служат больше двух лет. Я в них делаю по десяти миль в день; сотни раз им приходилось промокать насквозь. Вы покупаете мальчику сапоги…
— Почему вы не огородите прудок? — спросил я.
— Вот вы опять спрашиваете. Философ во мне — разумный человек — спрашивает: «Какая польза от прудка? В нем только грязь да тина. Вечно кто-нибудь в него свалится: не дети, так свинья. Почему его совсем не уничтожить?»
— Конечно, было бы самое благоразумное, — высказал я свое мнение.
— Верно, — согласился он, — Нет человека, одаренного здравым смыслом в большей степени, чем я; но если б я только мог слушаться самого себя. Знаете, почему я не закидываю этот прудок? Потому что жена посоветовала это сделать. Такова была ее первая мысль, когда она увидала его. И она повторяет это каждый раз, когда кто-нибудь свалится туда. «Если бы ты послушался моего совета»… ну и так далее в том же роде. Никто так не раздражает меня, как человек, повторяющий мне: «Ведь я говорил тебе». Фонтан посредине прудка — это живописная развалина, и на нем даже являлись привидения. Все это, конечно, прекратилось с нашим приездом. Какая уважающая себя нимфа может появляться на прудке, куда вечно плюхаются дети или свиньи?
Он засмеялся; но прежде чем я успел присоединиться к нему, он уже опять рассердился.
— Зачем мне заваливать исторический прудок, служащий украшением саду, из-за того, что пара дураков не может держать калитку взаперти? Детей следует отстегать хорошенько, и как-нибудь…
Его прервал голос, приглашавший нас остановиться.
— Не могу, — крикнул он. — Я делаю обход.
— Нет, остановись, — продолжал голос.
Сен-Леонар обернулся так быстро, что чуть не сшиб меня с ног.
— Черт побери их всех! — проворчал он. — Почему ты не взглянула на расписание? Никто здесь не признает порядка. Вот именно беспорядочность и губит хозяйство.
Он шел дальше, ворча. Я следовал за ним. На середине поля мы встретили особу, которой принадлежал голос. Это была миловидная девушка, нельзя сказать, чтобы хорошенькая — не из тех, на которых заглядываешься в толпе — но, раз увидав ее, было приятно продолжать смотреть на нее. Сен-Леонар представил мне ее как свою старшую дочь, Дженни, и объяснил ей, что, если бы она только потрудилась, они могла бы найти дневное расписание в кабинете за дверью…
— И именно по этому расписанию ты должен был находиться в сарае, — ответила мисс Дженни, улыбаясь. — Там-то ты мне и нужен.
— А который час? — спросил он, ощупывая в жилетном кармане часы, которых там, по-видимому, не оказалось.
— Без четверти одиннадцать, — сказал я.
Он схватился руками за голову.
— Да не может быть!
Мисс Дженни сообщила нам, что привезли новую сноповязалку, и было бы желательно, чтобы отец взглянул, как машина работает, прежде чем возчики уйдут.
— Иначе, — добавила она, — старый Уилькинс будет уверять, что все было в исправности, когда он доставил ее, и мы с ним ничего не поделаем.
Мы вернулись к дому.
— Говоря о деле, — начал я, — я пришел поговорить с вами о трех вещах. Прежде всего о корове.
— Ах да, о корове, — повторил Сен-Леонар и обратился к дочери: — Ведь это Мод?
— Нет, — ответила она, — Сюзи.
— Это та, что ревет всю ночь и три четверти дня. Ваш мальчик Гопкинс думает, что она тоскует.
— Бедняжка, — сказал Сен-Леонар. — У нее взяли теленка… Когда у нее взяли теленка? — обратился он к Дженни.
— В среду утром, — ответила та. — В тот самый день, как ее отправили.
— Им это бывает так тяжело сначала, — сочувственно проговорил Леонар.
— С моей стороны может показаться черствостью, — начал я, — но я хотел спросить, не найдется ли у вас другой, не такой чувствительной. Я предполагаю, что и между коровами найдутся так же, как между людьми, такие, которые даже рады бывают избавиться от теленка.
Мисс Дженни улыбнулась. Когда она улыбалась, являлось сознание, что готов отдать многое, чтоб снова вызвать эту улыбку.
— Но почему же вы не поместите ее на скотном дворе при вашем доме? — спросила мисс Дженни. — За молоком можно бы посылать туда. Там есть прекрасный хлев, и до вас не дальше мили.
Ведь это в самом деле идея! Она мне не приходила в голову. Я спросил Сен-Леонара, сколько должен ему за корову. Он предложил тот же вопрос мисс Дженни, и та ответила, что цена корове шестнадцать фунтов.
Меня предупреждали, что, имея дело с фермерами, всегда следует поторговаться, но в тоне мисс Дженни ясно слышалось, что раз она сказала шестнадцать фунтов, так и будет шестнадцать фунтов. Я начинал видеть карьеру Губерта Сен-Леонара в лучшем свете.
— Отлично, — сказал я, — будем считать вопрос о корове решенным.
Я занес в книжку заметку:
«Корова — шестнадцать фунтов. Надо приготовить коровник и купить большой кувшин на колесах».
— А вам не потребуется молока? — спросил я мимоходом у мисс Дженни. — Сюзи, по-видимому, будет давать галлонов по пяти в день. Боюсь, что если мы станем выпивать его одни, то чересчур разжиреем.
— По два пенса полпенни за кварту с доставкой на дом можно брать сколько угодно, — ответила мисс Дженни.
Я записал и это в книжку.
— Не знаете ли какого-нибудь порядочного мальчика-работника? — спросил я затем у мисс Дженни.
— А что вы скажете о Гопкинсе? — предложил отец.
— Как же можно отпустить единственного мужчину на ферме, кроме тебя, отец? Гопкинса нельзя отдать.
— Единственный недостаток Гопкинса, по-моему, — это его болтливость, — продолжал Сен-Леонар.
— Что меня касается, я предпочел бы деревенского мальчика, — сказал я. — Присутствие Гопкинса нарушает иллюзию, что находишься в деревне. Можно вообразить себя разве в городе-саду. Мне хотелось бы иметь нечто более простое — чисто деревенское.
— Кажется, я могу указать вам такого малого, — с улыбкой сказала мисс Дженни. — У вас вообще добрый характер?
— В большинстве случаев, я могу ограничиться сарказмом, — ответил я. — Это мне нравится и, насколько я мог заметить, не приносит ни вреда, ни пользы кому бы то ни было.
— Я пришлю вам мальчика, — сказала мисс Дженни. Я поблагодарил ее и затем заявил:
— Теперь мы дошли до осла.
— Натаниеля, — объяснила мисс Дженни в ответ на вопросительный взгляд отца. — Он нам лишний.
— Дженни, — авторитетным тоном заговорил Сен-Ленар. — Я требую честности…
— Я и хочу быть честной, — ответила мисс Дженни обиженно.
— Дочь моя, Вероника, — начал я, — дала мне понять, что, если я куплю ей этого осла, это будет для нее началом новой и лучшей жизни. Я вообще мало доверяю разным условиям, но кто знает. Обстоятельства, под влиянием которых происходят изменения в человеческом характере, неуловимы и неожиданны. Но, как-никак, не следует пренебрегать случаем. А кроме того, мне пришло в голову, что осел может быть полезен в саду.
— Он жил на моем иждивении больше двух лет, и я не вижу, чтоб он внес какое-либо нравственное улучшение в мою семью, — заявил Сен-Леонар. — Какое влияние он может иметь на ваших детей, я, конечно, не знаю. Но если вы ожидаете от него пользы в саду…
— Он возит тележку, — прервала мисс Дженни.
— Пока около него идет кто-нибудь и кормит морковью. Мы пробовали привязывать морковь на шест так, чтобы он не мог достать ее. Выходит прекрасно на картинке, а нашего осла заставляет брыкаться. Ты очень хорошо знаешь это, — продолжал он, с возрастающим негодованием обращаясь к дочери. — В последний раз, как мать ездила с ним, она истратила всю свою морковь по пути туда, а назад пришлось и его и тележку тащить на буксире за тачкой.
Мы дошли до двора. Натаниель стоял, наполовину высунувшись из двери своего стойла. Мне бросилось в глаза какое-то сходство между ослом и самой Вероникой; на его морде как будто выражалась покорность судьбе, непонятой, страдающей добродетели; в глазах читалось то же задумчивое, печальное выражение, с которым Вероника стоит у окна, смотря на алый закат, между тем как ее зовут откуда-то издали, чтоб она убрала свои вещи.
Мисс Дженни, нагнувшись к ослу, попросила его поцеловать себя. Он исполнил просьбу, но с нежным укоризненным взглядом, как бы говорившим: «Зачем призывать меня обратно на землю».
Этим он окончательно покорил мое сердце. Напрасно я сначала нашел мисс Дженни некрасивой. Она обладает тем типом красоты, который ускользает от внимания благодаря собственному совершенству. Только эксцентричное, негармоничное привлекает на себя в толпе блуждающий взор. К гармонии надо привыкнуть.
— Мне кажется, этого осла можно бы научить всему, — сказала мисс Дженни, отирая глаза.
Очевидно, она считала согласие поцеловать себя признаком особенной сообразительности.
— Можно научить всему, только не работать, — дополнил отец. — Вот что я вам скажу: если вы возьмете этого осла от меня и обещаете не возвращать мне его, я отдам его вам.
— Даром? — с грустным предчувствием спросила мисс Дженни.
— Даром, — подтвердил отец. — И если я могу иметь голос, то прибавлю также тележку.
Мисс Дженни вздохнула и пожала плечами. Было решено, что Гопкинс на другой день передаст Натаниеля в мое владение. По-видимому, Гопкинс был единственным человеком на ферме, обладавшим секретом заставить осла идти.
— Не знаю как, но он умеет справляться с ним, — сказал Сер-Леонар.
— Ну, теперь остается только Дик… — начал я.
— Молодой человек, которого я видел вчера? — спросил Сен-Леонар. — Красивый молодой человек.
— Он славный малый, — сказал я. — Я, кажется, не знаю мальчика добрее; и не глуп, когда научишься понимать его. В нем есть один только недостаток: я не могу его заставить работать.
Мисс Дженни улыбнулась. Я спросил ее, почему.
— Я только думаю о большом сходстве между ним и Натаниелем.
Правда, сходство существовало. Только я не подумал о нем.
— Ошибка в таких случаях с нашей стороны, — сказал Сен-Леонар. — Мы предполагаем, что в каждом мальчике живет дух профессора, и каждая девушка — природный музыкальный талант. Мы заставляем сыновей рыться в греческих и латинских классиках, а девочек засаживаем за рояль. В девяти случаях из десяти получается только потеря времени. Меня отправили в Кэмбридж и там называли лентяем. Между тем я вовсе не был ленив. Только у меня не было никакой охоты к сухой книжной премудрости. Мне хотелось быть сельским хозяином. Если бы способных молодых людей обучали сельскому хозяйству как науке, это приносило бы доход. Во имя здравого смысла…
— Я склонен согласиться с вами, — прервал я его. — Я больше желал бы, чтоб из Дика вышел хороший фермер, чем третьестепенный адвокат. Сельское хозяйство, по-видимому, интересует его. У него еще десять недель впереди до возвращения в Кэмбридж: время, достаточное для опыта. Не примете ли вы его учеником?
Сен-Леонар схватился руками за голову и крепко держал ее.
— Если я соглашусь, я должен поступить честно, — сказал он.
Снова я увидал в глазах мисс Дженни то же выражение разочарования.
— Мне кажется, пришла моя очередь быть честным, — сказал я. — Я получил осла даром; но за Дика я хочу платить. Вас ждут в сарае. Мы уговоримся с мисс Дженни.
Он взглянул на нас обоих подозрительно.
— Обещаю быть честной, — со смехом заявила мисс Дженни.
— Если вы назначите цену, превышающую мое умение, я отошлю его обратно, — заявил Сен-Леонар. — Моя теория…
Он споткнулся о свинью, которой по расписанию не полагалось быть здесь в это время. Оба удалились поспешно — свинья впереди, он за ней — и оба крича.
Мисс Дженни сказала мне, что покажет мне кратчайшую дорогу через поле, и мы переговорим по пути. С минуту мы шли молча.
— Не думайте, — начала она, — что я люблю вмешиваться во все дела. Мне это даже бывает тяжело. Но ведь надо же кому-нибудь взять такие дела на себя, а бедный папа…
— Сколько вам лет? — спросил я.