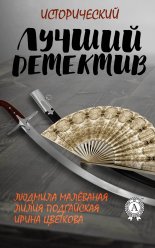Они и я Джером Джером

Джером Клапка Джером
Они и я
I
— Дом невелик, — сказал я. — Да нам и не нужно большого дома. Две спальни и маленькая треугольная комнатка, отмеченная на плане, рядом с ванной, как раз годная для молодого человека, — вот все, что нам нужно, по крайней мере, до поры до времени. Впоследствии, если я разбогатею, можем прибавить флигель. Кухню придется немного перестроить в угоду маме. И о чем только думал строивший…
— Ну, что там кухня, — сказал Дик, — а как насчет бильярдной?..
Привычка, приобретенная в настоящее время детьми, прерывать родителей скоро превратится в национальное бедствие. Хотелось бы мне тоже, чтобы Дик не садился на стол, болтая ногами. Это очень непочтительно. Я как-то сказал ему:
— Когда я был мальчиком, мне так же мало могло прийти в голову сесть на стол или прерывать отца, как…
— Что это за штука посреди комнаты, точно какой-то трап? — перебила меня Робина.
— Это она про лестницу, — пояснил Дик.
— Отчего же она не похожа на лестницу? — настаивала на своем Робина.
— Человек с мозгами в голове сейчас увидит, что это лестница, — отвечал Дик.
— Вовсе нет, трап, да и только, — не сдавалась Робина.
Робина, держа развернутый план на коленях, сидела, покачиваясь, на ручке кресла. Право, я часто задаю себе вопрос: зачем покупать кресло для такого народа?
Кажется, никто не знает их настоящего назначения — разве какая-нибудь из комнатных собак вспомнит. А людям теперь надо жерди — нашесты, как курам.
— Если бы удалось выбросить гостиную в переднюю и уничтожить эту лестницу, можно бы иногда устраивать танцевальные вечера, — подумала вслух Робина.
— Может быть, самое лучшее было бы вынести все из дому и оставить только голые стены, у нас тогда стало бы просторнее. А для житья мы могли бы устроить навес в саду, или… — начал было я.
— Я говорю серьезно, — возразила Робина. — Какая польза от гостиной. Она нужна только для того, чтобы принимать таких людей, которых вовсе не желательно принимать нигде. Где их ни посади, одинаково неприятно и для них и для себя. Если бы мы могли только избавиться от лестницы…
— Отчего же нам и не избавиться, — предложил я, — конечно, в первое время было бы немного странно, когда наступала бы пора ложиться спать. Но, я думаю, мы скоро бы привыкли. Мы могли бы завести приставную лестницу и влезать в комнату через окна. Или устроить постоянную лестницу по норвежскому образцу — снаружи, — предложил я.
— Зачем говорить глупости, — заметила Робина.
— Я вовсе не шучу и стараюсь вас также заставить смотреть на дело серьезно, — начал я оправдываться. — Вы теперь помешаны на танцах. Будь ваша воля, вы бы превратили весь дом в танцевальный зал, а спали бы в койках, подвешенных к потолку. Ваше увлечение продержится с полгода. Затем вам захочется превратить дом в купальный бассейн, скэтинг-ринг, в площадку для хоккея… Моя мысль, может быть, неудобоприменимая. Я и не требую, чтобы вы ей сочувствовали. Я желаю иметь обыкновенный дом, где можно устроиться по-христиански, а не гимнастическое заведение. В этом доме будут и спальни, и ведущие в них лестницы. Может быть, вы найдете это крайне сумасбродным, но будет также и кухня. Собственно говоря, строя дом, следовало бы и для кухни…
— Не забудь бильярдную, — заметил Дик…
— Если бы ты больше думал о своей будущей карьере и поменьше о бильярде, ты, может быть, поскорей бы справился с своими учебниками, — возразила Робина. — Если бы папа был благоразумен, то есть если бы он так не баловал тебя, он совсем бы изгнал бильярд из дому.
— Ты только потому так рассуждаешь, что сама не умеешь играть, — ответил Дик.
— А тебя все же обыгрываю, — огрызнулась Робина.
— В кои-то веки — раз, — согласился Дик.
— Нет, два, — поправила Робина.
— Ты вовсе даже не играешь, — продолжал Дик. — Ты только ходишь вокруг, надеясь на судьбу.
— Вовсе я не хожу, а всегда на что-нибудь нацеливаюсь, — спорила Робина. — Когда ты ударяешь, и у тебя ничего не выходит, ты говоришь, что тебе не везет, а когда я промахнусь — значит, я зеваю. Вот ты какой.
— Вы оба приписываете слишком много значения счету, — сказал я. — Когда вы стараетесь сделать карамболь с белым шаром и посылаете его не в ту сторону, куда надо, но прямо в лузу, а ваш собственный шар продолжает катиться и случайно натыкается на красный, так вместо того, чтобы сердиться на себя…
— Когда у нас будет настоящий хороший бильярд, папа, я научу тебя, как играть на бильярде, — заявил Дик.
Мне кажется, Дик в самом деле воображает себя хорошим игроком на бильярде. То же самое и с гольфом. Начинающим всегда везет.
«Мне кажется, я стану хорошим игроком, — говорят они. — Я, так сказать, имею к тому природные способности». Понимаете?
Есть у меня приятель — старый капитан-моряк. Он любит, когда все три шара лежат по прямой линии, так как тогда он знает, что может сделать карамболь, и красный будет там, где он захочет. У нас гостил молодой ирландец Мэлони, товарищ Дика. Как-то после обеда шел дождь, и капитан предложил Мэлони показать ему, как молодой человек должен играть на бильярде. Он научил его, как держать кий, и объяснил, как расположить шары… Мэлони был ему благодарен и упражнялся около часу. Здоровый, крепкий молодой человек был, по-видимому, не из многообещающих. Он никак не мог понять, что играет не в крокет. Каждый раз, как ему приходилось нацелиться слишком низко, результатом была потеря шара. Для сохранения времени и мебели, мы с Диком стали следить за шаром вместо него. Дик стоял у продольного конца, а я у поперечного. Однако это было скучно, и после того, как Дик два раза подхватил его шар, мы согласились, что он выиграл, и повели его пить чай. Вечером никто из нас не пожелал снова пробовать счастья — капитан сказал, что ради забавы он дает Мэлони восемьдесят пять вперед и будет играть до ста.
Откровенно говоря, игра с капитаном не доставляла мне особенного удовольствия.
Для меня игра состояла в хождении вокруг бильярда, в бросании ему обратно шаров и произнесении слова «так!». Когда наступал мой черед, мне казалось, что все идет против меня. Он милый старичок, и намерения у него самые лучшие, но тон, которым он говорит: «Промах!» — когда я промахнусь, раздражает меня. Я чувствую желание швырнуть ему шаром в голову и весь бильярд выбросить за окно. Может быть, это происходит оттого, что я нахожусь в возбужденном состоянии, но его манера записывать очки раздражает меня. Он носит с собой мелок в жилетном кармане — как будто наш мелок не достаточно хорош для него — и, окончив запись, сглаживает большим и вторым пальцем кончик мелка, а кием постукивает по столу. Мне хочется сказать ему: «Продолжайте же игру, к чему все эти ужимки».
Капитан начал с промаха, Мэлони схватил кий, глубоко перевел дух и пустил шар. В результате получилось десять: карамболь, и все три шара в лузе. Конечно, он дважды повторил карамболь, но второй раз, как мы ему объяснили, в счет не шел.
— Хорошее начало, — сказал капитан.
Мэлони был, по-видимому, доволен собой и снял куртку. При первой прогулке вверх по столу шар Мэлони пробежал мимо красного, на расстоянии около фута; но потом он поймал его и послал в лузу.
— Девяносто девять, — сказал Дик, записывая. — Не лучше ли капитан, назначить сто пятьдесят?
— Может быть и лучше назначить сто пятьдесят, если мистер Мэлони ничего не будет иметь против…
— Совершенно как вам угодно, сэр, — сказал Мэлони.
Мэлони окончил игру на двадцати двух, загнав свой шар в лузу, а красный оставив на месте.
— Записать? — спросил Дик.
— Когда мне понадобится записать, — возразил капитан, — я попрошу.
— Извините, — сказал Дик.
— Не люблю шумной игры, — заметил капитан.
Не долго задумываясь, капитан послал свой шар к борту на шесть дюймов от шаров посредине.
— Что вы теперь сделаете? — спросил Мэлони.
— Что вы будете делать, не знаю, — ответил капитан. — Посмотрим.
Благодаря положению шара, Мэлони не мог применить всей своей силы. На этот раз он ограничился только тем, что послал шар капитана в лузу и сам остался у борта, в четырех дюймах от красного. Капитан сказал крепкое словцо и опять промахнулся. Мэлони толкнул шары в третий раз. Они разлетелись в разные стороны, сталкиваясь, вернулись и безо всякого повода начали гнать один другого. Особенно красный шар, по-видимому, совершенно обезумел. Вообще говоря, наш красный шар — глупый шар — и теперь ему пришло в голову спрятаться под борт и оттуда следить за игрой. Он, очевидно, решил, что на столе нигде не будет в безопасности от Мэлони. Его единственной надеждой оставались лузы. Я, может быть, ошибся, может быть, не совсем ясно рассмотрел при быстроте игры, но мне казалось, что красный и ждать не стал, чтоб в него попали. Когда он увидал, что шар Мэлони несется на него со скоростью сорока миль в час, он преспокойно отправился в ближайшую лузу. И так он обежал вокруг всего бильярда, отыскивая лузы. Когда в своем волнении ему случалось пробежать мимо пустой лузы, он возвращался и все же забирался в нее. Бывали минуты, когда в своем ужасе он соскакивал со стола и укрывался под диван или за шкаф. Становилось жаль красного шара.
У капитана были записаны законные тридцать девять, и Мэлони дал ему двадцать четыре, когда действительно стало казаться, что час торжества для капитана настал.
— Сто двадцать восемь. Теперь игра в ваших руках, капитан, — сказал Дик.
Мы обступили бильярд. Дети бросили игру. Получилась хорошенькая картинка: свежие молодые личики, все превратившиеся в напряженное внимание, старый ветеран, опустивший кий, как бы опасаясь, что наблюдение за игрой Мэлони причинит ему судороги.
— Ну, следите, — шепнул я молодому человеку, — да не только замечайте, что он делает, а старайтесь понять — почему. Каждый дурак, конечно, после некоторой практики сумеет попасть в шар. Но почему вы целитесь в него? Что бывает после того, как вы его толкнули? Ну что…
— Тсс… — сказал Дик.
Капитан потянул кий к себе и осторожно вытянул его вперед.
— Красивый удар, — шепнул я Мэлони. — Вот таким образом…
Мне кажется, что в эту минуту слишком много крылатых слов теснилось на языке капитана, чтоб он мог справиться с своими нервами и урегулировать движения. Медленно катясь, шар прошел мимо красного. Дик говорил потом, будто он прошел так близко, что нельзя бы было вставить между ними даже листа бумаги. Иногда, сказав такую вещь, можно утешить человека, а, впрочем, бывают случай, что можно привести в бешенство. Шар покатился дальше и прошел мимо белого, на этот раз между ними можно бы вставить целую стопу бумаги — и с довольством плюхнулся в левую лузу на верхнем конце.
— Зачем он это делает? — шепотом спросил Мэлони. У него был удивительно пронзительный шепот.
Дик и я как можно скорее удалили наших дам и детей, но Вероника, конечно, зацепилась за что-то по дороге — Вероника, я думаю, даже в пустыне Сахаре нашла бы за что зацепиться, — и через несколько дней я за дверью детской услыхал такие выражения, что у меня волосы стали дыбом. Когда я вошел, я увидал Веронику стоящей на столе, а Джумбо сидящим на стуле с музыкой. У бедного пса вид был самый растерянный, хотя ему, вероятно, в своей жизни приходилось слыхать немало милых словечек.
— Вероника, — обратился я к ней, — и тебе не стыдно? — Ах, ты дурная девочка, как ты смеешь…
— Ничего в том нет дурного, — ответила Вероника. — Он моряк, и если я с ним стану говорить иначе, он не поймет.
Я плачу старательным, добросовестным особам, чтоб они учили девочку тому, что ей следует знать. Они рассказывают ей умные вещи, которые говорил Юлий Цезарь, замечания, какие делал Марк Аврелий, раздумывая над которыми, можно извлечь очень много пользы для своего характера. Она жалуется, что иногда у нее в голове от всего этого начинает как-то странно шуметь, а мать ее предполагает, что, может быть, у Вероники творческий ум, который не в состоянии многого запомнить. Вообще мать полагает, что из девочки что-нибудь выйдет. С дюжину крепких словечек успело вылететь у капитана прежде, чем нам с Диком удалось удалить многообещающую девицу из комнаты. Я предполагаю, что она впервые слышала такие живописные выражения, и вот сразу запомнила их!
Капитан, постепенно успокоившись в нашем отсутствии, овладел собой и к нашему приходу, несмотря на все упорство Мэлони, продолжал игру. Она завершилась тем, что шар Мэлони, загнав красный в лузу, остался на столе, где исполнил танец solo и в конце концов пробил окно. Так закончилась «удивительная игра» способного молодого человека.
Капитан не мог удержаться, чтоб не сказать:
— Да, такой игры долго не увидишь. Я бы на вашем месте никогда не взялся бы больше за кий. Отчасти я сам виню в такой игре наш бильярд, и Дик прав, что надо переменить хоть лузы: шары попадают в них и снова выскакивают, точно увидали там что-то, что испугало их. Они выпрыгивают, дрожа, и держатся потом борта. Надо будет также купить новый красный шар. Должно быть, наш уж очень состарился. Кажется, будто он вечно утомлен.
— Мне кажется, бильярдную довольно легко устроить, — сказал я Дику. — Отняв футов десять от теперешней молочной… мы получим комнату в двадцать восемь футов на двадцать. Думаю, это удовлетворит тебя и твоих друзей. Гостиная слишком мала, чтобы из нее можно было что-нибудь сделать. Я, может быть, решусь — как советует Робина — перенести ее в сени. Но лестница останется. Для танцевальных вечеров, домашних спектаклей и тому подобных вещей, способных удалить вас, детей, от каких-нибудь глупых выдумок, у меня есть идея… Я вам объясню ее после. Кухня же…
— А у меня будет отдельная комната? — спросила Вероника.
Вероника сидела на полу, уставившись в огонь, положив подбородок на руку. В те минуты, когда Вероника не занята какими-нибудь выдумками, у нее бывает удивительно святое выражение — будто она унеслась мыслями далеко от здешнего мира — выражение, способное ввести в заблуждение незнакомого человека. Учительницы, занимающиеся с ней недавно, в эти минуты начинают колебаться, следует ли возвращать ее мысли к числам и таблице умножения. Знакомые мне поэты, случайно заставшие ее в такой позе у окна, смотрящей вверх на вечерние звезды, думали, что она в экстазе, пока, подойдя ближе, не убеждались, что она сосет мятную лепешку.
— Как бы мне хотелось иметь отдельную комнату, — прибавила Вероника.
— Воображаю, какой вид имела бы эта комната, — заметила Робина.
— Во всяком случае, у меня головные шпильки не были бы натыканы по всей постели, как у тебя, — задумчиво возразила Вероника.
— Вот фантазия!.. — отвечала Робина. — Отчего же…
— Мне хотелось бы устроить тебе отдельную комнату, — перебил я Робину, — только боюсь, что тогда в доме, вместо одной комнаты, которая вечно в беспорядке… Я каждый раз содрогаюсь, когда мне приходится проходить мимо отворенной двери — а дверь, несмотря на все мои настояния, вечно отворена…
— Я вовсе не беспорядочна, — защищалась Робина. — Совсем нет: я в темноте могу найти каждую вещь… если бы только оставляли мои вещи в покое.
— Ну, нет, такой беспорядочной барышни я еще не видывал, — заметил Дик.
— Глупости! Ты не бывал в комнатах у других барышень, — настаивала Робина. — Ты лучше взгляни на свою комнату в Кембридже. Мэлони сказал, что у тебя был пожар, и мы сначала было поверили ему…
— Когда человек работает… — начал Дик.
— Его должен окружать порядок, — докончила Робина.
Дик вздохнул.
— С тобой не сговоришься. Ты и своих недостатков не видишь.
— Нет, вижу их лучше всякого другого. Я только требую справедливости и больше ничего.
— Докажи мне, Вероника, что ты достойна иметь комнату, — сказал я. — Теперь ты, кажется, смотришь на весь дом как на свою комнату. Я нахожу твои гамаши на площадке для крокета. Часть твоего костюма, которую не принято показывать всему свету, висит через перила на лестнице…
— Я вывесила, чтобы починить, — объяснила Вероника.
— Ты отворила дверь и выбросила вещь; ведь я еще тогда заметила тебе это, — сказала Робина. — То же бывает и с башмаками…
— Ты думаешь о материях слишком высоких по твоему росту, — объяснил сестре Дик. — Попытайся не возноситься так высоко…
— Желал бы также, чтобы ты внимательнее относилась к своим гребням, или, по крайней мере, знала, где их бросаешь. А что касается твоих перчаток, так, кажется, погоня за ними станет нынешней зимой нашим главным спортом.
— Вольно людям искать их в самых невозможных местах, — оправдывалась Вероника.
— Положим, что так. Но будь же справедлива, Вероника, — убеждал я ее, — ведь случается находить их именно в этих невозможных местах. Ища твои вещи, научаешься никогда не отчаиваться. Пока в доме или вокруг дома, по крайней мере, на полмили расстояния остается хотя один не обшаренный уголок, нельзя оставлять надежды.
Вероника продолжала задумчиво смотреть в огонь.
— Вероятно, это следственность, — наконец проговорила она.
— Что такое? — переспросил я.
— Это она, глупышка, хочет сказать «наследственность», — объяснил Дик. — Удивляюсь, как это ты позволяешь ей так говорить с тобой…
— А я, кроме того, постоянно объясняю ей, что папа литератор: стало быть, ему это так полагается, — заметила Робина.
— Тяжело приходится нам, детям, — заключила Вероника.
Мы все за исключением ее самой решили, что Веронике пора спать. И я, как председатель, решил считать спор законченным.
II
— Как же, папа, ты в самом деле купишь дом, — вопросил Дик, — или мы только так разговариваем?
— На этот раз, конечно, купил, — ответил я.
Дик сделал очень серьезную физиономию.
— Подходящий? — спросил он.
— Нет, не совсем, — ответил я. — Я желал приобрести старомодный, живописный домик с высокой крышей, стрельчатыми окнами, весь увитый плющом.
— Ты спутываешь вещи, — возразил Дик, — стрельчатые окна и высокая крыша — одно к другому не подходит.
— Извини, Дик, — поправил я его, — в моем доме они бы подошли. Дом такого типа можно видеть в рождественских номерах журналов. Кроме как там, я такого дома никогда не видал; но он мне сразу понравился. Дом стоит недалеко от церкви, и ночью приятно видеть его огни. Когда я был еще мальчиком, я говорил себе: «Когда вырасту, стану жить точь-в-точь в таком доме». Это была моя мечта.
— Ну, а на что похож тот, что ты купил? — спросила Робина.
— Агент говорит, что его можно переделать, — объяснил я. — Я спросил его, как он определяет стиль дома? Он мне ответил, что, по-видимому, дом служил приходской школой, но что теперь таких домов не строят, и это, по-видимому, правда.
— Река близко? — спросил Дик.
— Если ехать дорогой, так в нескольких милях, — ответил я.
— А тропинкой? — продолжал свой допрос Дик.
— Дорога — кратчайший путь, — объяснил я. — Через лес идет хорошенькая дорожка, но по ней будет мили три с половиной.
— Но мы ведь решили, что река должна быть близко, — вставила Робина.
— Мы также решили, что почва должна быть песчаная и фасад должен выходить на юго-запад. А в этом доме только одна дверь на юго-запад, — черный ход. Я спросил агента насчет песка. Он посоветовал мне, если песок мне понадобится, обратиться к железнодорожной компании. Мне хотелось, чтобы дом стоял на холме. Дом и стоит на холме; только другой холм повыше. Этого холма мне вовсе не нужно. Я желал, чтобы был далекий вид на южною часть Англии. Мне хотелось иметь возможность вывести гостей на крыльцо и втолковать им, что в ясные дни мы можем видеть Бристольский канал. Мне, может быть, не поверили бы, но без этого холма никто не мог бы с уверенностью утверждать, будто я… будто я присочиняю. Что касается меня лично, я предпочел бы дом, где что-нибудь случилось… Я бы не прочь был, чтобы где-нибудь оказалось кровавое пятно — не поддельное, а настоящее, которое могло бы большую часть времени скрываться под ковром, но которое можно бы при случае показывать гостям. Я даже питал некоторую надежду на привидение. Я не говорю о каком-нибудь неземном привидении, которое даже, по-видимому, забыло, что оно умерло. Я мечтал о привидении в виде женщины, появляющемся спокойно, деликатно. А вот этот дом, и в том главная причина моего неудовольствия, такой прозаический. Впрочем, в нем есть эхо. Став в конце сада и крикнув громко, вы получите отголосок своих слов. И вот единственное, что есть забавного во всем доме, но и тут ответ получается в каком-то кислом тоне, будто эхо недовольно и только принуждает себя отвечать, чтобы доставить вам удовольствие. А сам же дом как будто принадлежит к числу тех, которые вечно думают только о налогах да разных обложениях.
— Так почему же ты купил такой дом? — допытывался Дик.
— Нам кажется, как сам знаешь, всем надоело жить в этом пригороде. Нам хочется поселиться в деревне и там наслаждаться. А чтобы жить так, необходимо иметь собственный дом. А из этого следует, что надо или выстроить его или купить готовый. Мне строить не хотелось. Толбойс сам себе выстроил дом. Вы знаете Толбойса? Когда я познакомился с ним, прежце чем он начал стройку, он был веселый, приветливый человек. Архитектор уверяет его, что лет через двадцать, когда краска немного сдаст, дом его будет картинка. Пока же у него желчь разливается при одном взгляде на дом. Его уверяют, что из года в год, по мере того, как будет испаряться сырость, его ревматизму и ломоте станет легче. Сад его обнесен изгородью высотой в девять дюймов. В защиту от мальчишек он сделал эту изгородь из колючей проволоки в девятнадцать дюймов высотой. Но разве изгородь может отгородить вас от всего мира? Когда Толбойсы пьют кофе на террасе, целая толпа сельских обывателей глазеет на них. В саду есть и деревья, вы это знаете, и к каждому дереву привязано по этикетке, чтобы не перепутать, потому что они все между собой похожи. Тридцать лет тому назад Толбойс предполагал, что эти деревья будут давать тень и удовольствие; но теперь всякая надежда исчезла. Мне надо дом, с которым мне не было бы такой возни, и я вовсе не желаю провести остаток своих дней в устройстве неприспособленного нового дома.
— Зачем же ты купил именно этот дом, если говоришь, что тебе нужен был вовсе не такой? — допытывалась Робина.
— А потому, моя милая девочка, что он все же несколько ближе подходит, чем другие дома, которые я смотрел, к тому, что мне нужно, — объяснил я. В молодости мы решаемся делать попытки достать то, что нам нужно; достигнув зрелого возраста, мы решаемся сделать попытку удовольствоваться тем, что можно достать. Таким образом сберегаем время. За последние два года я пересмотрел домов шестьдесят, и из всей этой массы только один подходил к моему идеалу. До сих пор я молчал об этой истории, и теперь воспоминание о ней меня раздражает.
Сведения об этом доме я получил не через агента. Я встретился с человеком, указавшим мне его, в вагоне железной дороги. У этого человека один глаз был подбит. Случись мне опять встретить его, я ему посажу фонарь и на другой глаз. Он объяснил мне, что ему подшибли глаз шаром во время игры в гольф, и я поверил ему. В разговоре я упомянул, что собираюсь купить дом. Он указал мне место, где я могу найти подходящий, и время, пока поезд остановился у назначенной станции, показалось мне вечностью. Выйдя из поезда, я даже не позавтракал. У меня был с собой велосипед, и я прямо направился к указанному месту. Оказалось… да оказалось, что именно такой дом мне и нужен. Но если б он исчез, и я очнулся бы в постели, все случившееся казалось бы мне правдоподобнее.
Владелец сам отпер мне дверь. С виду он походил на военного в отставке. Что он владелец, я узнал только впоследствии. Я обратился к нему:
— Добрый вечер; если вас не затруднит, я бы просил показать мне дом внутри.
Мы стояли в сенях со стенами, обшитыми дубом. Я заметил резную лестницу, о которой мне говорил человек в вагоне, а также камин времен Тюдоров. Но вот и все, что я успел рассмотреть; в следующую минуту я полетел навзничь на песок, а дверь захлопнулась у меня пред носом. Взглянув, я увидал, что из окошечка над крыльцом высунулось лицо сумасшедшего старика. Лицо было презлющее. В руках старик держал ружье.
— Я стану считать до двадцати, — объявил он, — и если вы не уберетесь за ворота, когда кончу, то выстрелю.
Я со всех ног пустился бежать и выбежал за ворота, когда он дошел до девятнадцати.
На станции мне пришлось прождать поезда целый час, и я расспросил начальника станции о старом чудаке.
— Да, там непременно что-нибудь случится на днях, — сказал он мне. — И все это наделало индийское солнце. Оно их мозг сушит. У нас здесь таких несколько по соседству. Все они довольно покойны, пока не разразится чего-нибудь.
— Промедли я две секунды, он, мне кажется, исполнил бы свою угрозу, — сказал я.
— А дом очень складный — не слишком большой и не слишком маленький, — продолжал начальник. — Такие дома публика любит.
— Не завидую тому, кто первый после меня попадет туда, — сказал я.
— Старик поселился здесь лет десять тому назад, — рассказывал мне начальник. — За это время, вероятно, человек тысячу предлагали перекупить у него дом. Сначала он добродушно смеялся в ответ, объясняя, что сам намерен прожить здесь в мире и тишине до самой смерти. Из трех человек двое выражали свое намерение дождаться этого события и предлагали даже заключить условие, в силу которого они могли бы вступить во владение домом, ну, хоть чрез неделю после похорон. За последнее время число покупщиков еще увеличилось: вот на нынешней неделе вы — девятый; а у нас всего четверг. Конечно, это отчасти служит извинением старику.
— Ну, а в следующего покупателя он в самом деле выстрелил? — допытывался Дик.
— Не спрашивай глупостей, — перебила его Робина. — Ведь видишь, это сказка. Расскажи нам еще что-нибудь, папа.
— Я не понимаю, что ты хочешь сказать, называя мой рассказ сказкой, — обиделся я. — Если ты предполагаешь…
Робина возразила, что она ничего не предполагает; но я очень хорошо знаю, что она думает.
Так как я писатель и всю свою жизнь сочиняю истории, то люди воображают, будто я уж не знаю, что значит правда; а если тебе твои собственные дети иронически улыбаются в лицо, когда ты стараешься ограничиться самой неподкрашенной истиной, то где же поощрение к правдивости? Бывают времена, когда я даю себе обещание не говорить ни слова правды.
— Представь себе, — продолжал я, — что в этой истории почти все правда. Я уж не говорю о твоем равнодушии к опасности, которой я подвергался: чувствительная девочка встревожилась бы в тот момент, когда услыхала, что ружье было направлено на ее отца. Во всяком случае, выслушав до конца, ты могла бы сказать что-нибудь более участливое, чем: «Расскажи нам еще что-нибудь». Старик не застрелил следующего посетителя потому, что на другой день жена его, встревоженная случившимся, отвезла его в Лондон к специалисту, и бедняга умер чрез полгода в сумасшедшем доме. Мне это рассказал начальник станции, где мне опять случилось быть. Дом достался племяннику старика, и новый владелец не продает его. Это, собственно, грустная история. Конечно, индийское солнце было причиной болезни, но она ухудшилась вследствие беспокойства, причиненного несчастному джентльмену. Да и я мог бы поплатиться жизнью. Единственное, что утешает меня, — это воспоминание о подбитом глазе сумасшедшего, пославшего меня туда.
— А из других домов ни один не оказался подходящим? — спросил Дик.
— Были, да не совсем. Вот, например, дом в Эссексе — один из первых, которые мы осматривали с мамой. Прочтя объявление, я чуть не заплакал от радости. Когда-то в нем жил священник. Королева Елизавета однажды ночевала в нем по пути в Гринвич. К публикации была присоединена фотография. Не будь этой фотографии, я бы не поверил, что это снимок с натуры. Дом находился всего в двенадцати милях от Черинг-Кросса. О цене следовало сторговаться с владельцем.
— Вероятно, какое-нибудь надувательство, — высказал свое предположение Дик.
— Как-никак, объявление не могло передать всей привлекательности дома, — продолжал я. — Единственное, что я ставлю в вину публикации, — это то, что в ней не было упомянуто о некоторых обстоятельствах. Например, не было упомянуто, что со времен Елизаветы соседство изменилось; не было сказано, что вход находится между трактиром с одной стороны и лавкой, где продавалась жареная рыба, — с другой; что сад упирался в товарные склады железнодорожной компании; что окна гостиной выходили в сторону большой химической фабрики, а столовая — на двор каменотеса. А в остальном — о таком доме можно только мечтать.
— Но на что же он после всего годен? — вопросил Дик. — Что же смотрели комиссионеры? Или они воображают, что человек способен купить дом по одной только публикации, не взглянув на него?
— Я сам предложил однажды подобный вопрос комиссионеру, — сказал я. — Он мне ответил, что они это делают, главным образом, чтобы поддержать мужество домовладельца. По словам комиссионера, человеку, собирающемуся расстаться с домом, приходится выслушивать столько порицаний дому от покупщиков, что в конце концов хозяину становится самому стыдно; он начинает чувствовать желание отделаться от него и готов хоть динамитом взорвать его. Агент говорил, что чтение объявлений в агентских каталогах единственная вещь, способная хотя несколько утешить в таких случаях домовладельца. Один из клиентов комиссионера в продолжение нескольких лет старался продать свой дом, пока однажды не прочел случайно агентского описания своего владения. После этого он немедленно отправился домой, снял дощечку с извещением о продаже и с тех пор живет в своем владении очень довольный им. С этой точки зрения подобная система имеет хорошие стороны, но для ищущего купить дом — другое дело.
Один комиссионер прислал мне адрес дома, стоящего посреди пустыря, с видом на Большой соединительный канал. Я спросил его, где же канал, о котором он говорил. Он объяснил, что мы находимся по другую сторону его, и так как он протекает по более низкому уровню, то это единственная причина, почему его не видать из дома. Я спросил, где же красивый вид. Он отвечал, что «дальше, за углом», и, по-видимому, находил, что я предъявляю совершенно неразумные требования, желая, чтобы красивый ландшафт открывался пред самой входной дверью. Пустырь же, если он мне не нравится так, как есть, он советовал мне засадить деревьями, предлагая эвкалипты, которые, по его словам, очень быстро растут, а кроме того, дают еще и гуммиарабик.
Чтобы посмотреть третий дом, мне пришлось проехаться в Дорсетшайр. По публикации значилось, что «это самый совершенный образец нормандского стиля, может быть, единственный во всей южной Англии, относящийся к XIII веку». О нем даже упоминается в путеводителе. Я сам не знаю, что я, собственно, ожидал увидать. Я предполагал, что, вероятно, это владение принадлежит какому-нибудь обедневшему потомку баронов-разбойников, которому приходится довольствоваться уютным маленьким замком. Есть еще такие дома — хотя их и мало — избегнувшие разрушения и затерявшиеся в отдаленных округах. Более цивилизованные потомки приспособили такие дома к новейшим потребностям.
В моем воображении, прежде чем я достиг Дорсетшайра, составилось представление о чем-то среднем между миниатюрным лондонским Тауэром и средневековым коттеджем, какие рисуют в альбомах. Тут была и живописная башня, и подъемный мост, может быть, потайной ход. Вот, например, у Лемчика есть потайной ход, начинающийся из-за подвижного портрета в столовой, позади кухонного очага. Теперешние жильцы употребляют ход вместо бельевого шкафа. Мне жаль, что ему дали такое назначение. Конечно, первоначально он был устроен с совершенно иною целью. Викарий, в некотором роде антикварий, полагает, что выход находится где-нибудь на кладбище. Я говорил Лемчику, чтоб он открыл этот выход, но жена его этого не желает: ей проход нравится, как он есть. Я всегда мечтал о потайном ходе и решил также, что непременно починю подъемный мост. Если уставить его по обе стороны цветами в горшках, получится оригинальный и живописный въезд на двор.
— Ну, что же, мост оказался налицо? — спросил Дик.
— Вовсе не оказалось никакого моста, — объяснил я. — Въезд в дом был через крытый сарай со всякими хозяйственными принадлежностями. При таких домах не полагается подъемных мостов.
— А норманнские арки были? — допрашивал Дик.
— Не арки, а арка, — поправил я его. — Была одна в кухне. Кухня-то и оказалась выстроенной в тринадцатом столетии, и, очевидно, с тех пор в ней сделано было мало перемен.
Может быть, тут помещался застенок. По крайней мере, такое получалось впечатление. Я думаю, мама не решилась бы оставить кухню на том же месте из-за кухарки. Прежде чем нанимать кухарку, приходилось бы объяснять ей: «Вы ничего не имеете против того, что придется готовить в темной кухне, в бывшей башне?»
Остальной дом был, что мы называем, «в смешанном стиле».
После того мы с мамой осматривали дом в Беркшире. По саду здесь протекала речка, где ловятся форели. Я воображал себе, как после завтрака буду отправляться ловить форелей к обеду и стану приглашать друзей на несколько деньков в «мое именьице в Беркшире» половить форелей.
У меня был знакомый — теперь он баронет — большой любитель половить рыбу. Я предполагал найти его, и как вышло бы красиво в отделе «Разных известий» прочесть: «Среди прочих интересных гостей и т. д. и т. д.»… Ну, как всегда пишут… Удивляюсь, как я еще не купил тут же удочки.
— И что же, речки с форелями не оказалось? — спросила Робина.
— Нет, речка была, даже очень заметная. Мама услыхала ее присутствие, когда мы были еще за четверть часа оттуда.
Мы вернулись в город, и мама купила большого размера пузырек нюхательной соли.
От шума реки у мамаши разболелась голова, а я чуть с ума не сошел. Контора комиссионера оказалась как раз напротив станции.
На обратном пути я задержался полчаса, чтобы высказать ему свое мнение о нем, и опоздал из-за этого на поезд. Я бы попал вовремя, если б комиссионер не перебивал меня каждую минуту.
Он уверял меня, что уж не раз говорил о нестерпимом шуме с владельцем писчебумажной фабрики, — вообще, по-видимому, сочувствуя всем моим жалобам, — и уверял, что в реке когда-то водились форели. Это исторический факт.
По его мнению, если купить и пустить в реку некоторое количество самок и самцов, то и теперь можно их снова развести.
Я сказал ему, что вовсе не стремлюсь сделаться вторым Ноем, и ушел, объявив на прощанье, что подам на него в суд за сообщение ложных сведений. Он же надел шляпу и отправился к своему адвокату, чтоб тот начал против меня дело за клевету. Впрочем, полагаю, что в конце концов он раздумал.
Мне, наконец, надоело видеть, как каждый день моей жизни превращается в первое апреля. Дом, который я теперь купил, не служит воплощением всех моих желаний, но допускает возможность кое-что сделать. Мы вставим окна с переплетами и поднимем каминные трубы. Можно будет над входной дверью поместить дощечку с числом 1553. Это придаст известный тон, и цифра пять в старинном стиле красива. Со временем дом может превратиться в настоящий замок времен Тюдоров.
Очень может быть, что найдутся даже какие-нибудь предания, связанные с этим домой. Почему там не окажется комнаты, где кто-нибудь ночевал? Не королева Елизавета — надоела она. Ну хотя бы королева Анна? По всем сведениям — спокойная, милая старушка, которая никому не принесла бы хлопот.
Или еще лучше — Шекспир. Он ведь постоянно разъезжал между Лондоном и Стрэтфордом. Дом мог оказаться у него почти на дороге.
«Комната, где ночевал Шекспир». Это совершенно новая идея. Там есть кровать с балдахином на четырех колоннах. Матери вашей она не понравилась. Она уверяет, что в ней непременно есть жители. Мы могли бы увесить стены комнаты сценами из произведений Шекспира, а над дверью поставить его бюст.
Если меня оставят в покое и не станут надоедать разными пустяками, я, вероятно, в конце концов сам поверю, что он действительно ночевал в этой постели.
— А насчет шкафов как? — допрашивал Дик. — Маменьке непременно подавай шкафы.
Положительно непостижима страсть всех женщин к шкафам; я уверен, что даже на небе их первым вопросом будет: «А дадут мне шкаф?» Женщина готова бы, кажется, держать и мужа и детей в шкафу: ей, вероятно, казалось бы, что она достигла совершенства в своем хозяйстве, если бы ей удалось уложить в собственный шкаф всю семью, обернув ее камфарной бумагой.
Я знал женщину, счастливую с женской точки зрения. Она жила в доме, где было двадцать девять шкафов — вероятно, этот дом был построен женщиной.
Многие шкафы были очень поместительны, и двери их не отличались от прочих комнатных дверей. Гости часто, пожелав спокойной ночи, с зажженной свечей исчезали в шкафу, чтобы в следующую минуту появиться обратно с растерянным видом. Муж этой барыни рассказывал мне, как однажды один из злополучных гостей, забыв что-то в столовой и вернувшись туда, уже не мог выбраться, наталкиваясь на одни шкафы, и, совершенно обескураженный, заночевал, наконец, в одном из них.
Когда хозяйки не бывало дома, никто не знал, где найти какую-нибудь вещь; а когда дама возвращалась, она сама знала только, где вещь должна была бы быть. Если случалась необходимость очистить один из этих шкафов, чтобы произвести ремонт, на лице хозяйки никто не видал в продолжение, по крайней мере, трех недель признака улыбки. Она при этом сетовала на неудобство, когда не знаешь, куда деваться с вещами.
Вообще женщине не нужен дом, в собственном смысле слова. Ей нужно непременно гениальное произведение. Вам кажется, что вы нашли идеальный дом. Вы показываете жене древний — чуть не времен Адама — камин. Вы постукиваете зонтиком по обшивке передней и произносите многозначительно: «Дуб, цельный дуб!»
Вы обращаете ее внимание на открывающийся вид и рассказываете ей местные предания.
Вы указываете ей солнечные часы и снова возвращаетесь к камину адамовых времен. А она отвечает вам: «Это все очень мило; а где же будут спать дети?»
Точно тебя ведром холодной воды окатят.
Ну, если не дети, так поднимается вопрос о воде. Непременно понадобится знать, откуда доставляется она.
Вы показываете, откуда; вам отвечают восклицанием: «Как, из такой грязи!»
Впрочем, неудовольствие высказывается и в том случае, если воду достают из колодца, или даже из цистерны, где собирается вода, падающая с неба.
Женщина никогда не поверит, что вода может быть хороша иначе, как из водопровода. По-видимому, предполагается, что городское управление фабрикует ее ежедневно по какому-то ему одному известному рецепту.
Если вам удается примирить вашу спутницу с водой, будьте уверены, что трубы дымят: «Сразу видно, что дымят».
Вы напрасно уверяете ее, что такие трубы, в стиле шестнадцатого века, с резными украшениями, не могут дымить: они не способны на такой неартистический поступок. Вам выражают надежду, что вы окажетесь правы.
Потом желают осмотреть кухню. Где она? Вы не знаете, где ее найти, и не поинтересовались этим вопросом. Кухня, во всяком случае, должна быть где-нибудь. Вы отправляетесь на поиски ее.
Оказывается, что она никуда не годится, так как расположена в конце дома, совершенно противоположном столовой. Вы указываете на то, что это даже удобно, так как не будет запаха. Тут ваша собеседница чувствует себя задетой за живое:
«Разве не вы первый ворчите, когда кушанье холодное?» И на голову всех мужчин сыпятся обвинения в непрактичности.
Один вид пустого дома выводит женщину из себя.
Конечно, печь никуда не годится. Кухонная печь всегда никуда не годна.
Вы обещаете поставить новую. Через шесть месяцев у вас будут требовать восстановления старой. Но было бы жестоко высказать это. Обещание новой печи пока действует успокоительно.
Женщина никогда не теряет надежды, что настанет день, и у нее будет вполне удовлетворяющая ее печь, о какой она мечтала еще до замужества.
Уладив вопрос о печи, вы воображаете, что теперь замолкнет всякая оппозиция. Но вдруг поднимается разговор о таких вещах, о которых только женщина да разве санитарный инспектор могут говорить, не краснея.
Много надо такту, чтобы ввести женщину в новый дом. Она становится нервной, подозрительной…
— А вот я рад, что ты вспомнил о шкафах, Дик, — вернулся я к нашей беседе. — Именно шкафами я надеюсь подкупить твою мать. С ее точки зрения это будет одна из блестящих сторон дома. Там их четырнадцать. Я надеюсь, что они помогут мне обойти много подводных камней. Поедем с нами, Дик. Как только мама начнет: «С практической точки зрения», ты сейчас пусти что-нибудь о шкафах, не резко, чтобы было сейчас видно, что все подстроено, а так, с подходцем…
— А место для игры в теннис найдется? — перебил Дик.
— Уж есть прекрасная площадка, — успокоил я его. — Я еще прикупил соседний лужок: там можно будет держать корову. А может быть, и лошадей разведем.
— Можно будет устроить крокет, — продолжала Робина.
— Можно и это, — согласился я.
На таком большом месте удастся, вероятно, и Веронику выучить играть. Есть натуры, требующие простора. При большой площадке, окруженной крепкой железной сеткой, не придется тратить столько времени на разыскивание шара Вероники, закатившегося неизвестно куда.
— А для гольфа ничего не найдется подходящего поблизости? — с опасением в голосе спросил Дик.
— Не могу сказать наверное, — ответил я. — Приблизительно на расстоянии мили есть пустырь, кажется, ничем не занятый. Я думаю, что запросят не особенно…
— А когда же все будет готово? — полюбопытствовал Дик.
— Я думаю начать переделки сейчас же, — объяснил я. — К счастью, неподалеку находится коттедж охотничьего сторожа. Агент хотел устроить, чтоб нам его уступили на год; домик самый первобытный, но прелестно стоит на опушке леса. Мы обмеблируем пару комнат, и каждую неделю я буду проводить там, несколько дней, наблюдая за переделками. Меня всегда считали хорошим наблюдателем. Мой покойный отец говаривал бывало, что это единственное занятие, интересующее меня.
Находясь на месте и торопя рабочих, надеюсь, что «сокровище» — как ты назвал его — поспеет к весне.
— Никогда не выйду замуж, — заявила Робина.