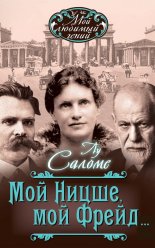Подпольные девочки Кабула. История афганок, которые живут в мужском обличье Нордберг Дженни

Jenny Nordberg
THE UNDERGROUND GIRLS OF KABUL
Copyright © 2014 by Jenny Nordberg
Published by arrangement with The Robbins Office, Inc. and Aitken Alexander Associates Ltd and The Van Lear Agency LLC.
© Мельник Э. И., перевод на русский язык, 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
Посвящается всем девушкам, которые выяснили, что в брюках можно бегать быстрее и взбираться выше
Это повествование составлено по репортажам из Афганистана, Швеции и Соединенных Штатов в период между 2009 и 2014 годами. Большая часть событий книги относится к 2010–2011 годам. Я излагала истории ее персонажей так, как они были рассказаны мне, стараясь найти подтверждение всем тем подробностям, которым сама я не была свидетельницей. Все мои герои и героини дали согласие на беседу со мной ради составления этой книги; они сами выбирали, сохранять ли им анонимность. В некоторых случаях имена или подробности личного плана были изменены или опущены в целях сохранения тайны личности. Никому из героев не предлагали и не вручали никакого вознаграждения. Труд переводчиков был оплачен. Любые ошибки из-за неточностей перевода или моих собственных ограничений – на моей ответственности.
Это – субъективный отчет.
Только бы не афганкой…{1}
- Я хотела бы быть кем угодно на свете –
- Только б не женщиной.
- Попугаихой стала б,
- Овечкой,
- Оленихою иль
- Воробьихой, живущей на дереве.
- Но не афганкой.
- Я была бы турчанкой,
- Чтоб ласковый брат мог держать меня за руку.
- Я бы стала таджичкой,
- А может, иранкой,
- А то и арабкой,
- И муж мой шептал бы мне:
- «Как ты прекрасна!»
- Но, увы, я – афганка.
- Где нужда –
- Там и я.
- Где есть риск –
- Я всех ближе к нему.
- Где найдется печаль –
- Она будет моя.
- А где право –
- Там я позади.
- Правда за тем, кто силен, а я –
- Женщина,
- Всегда одинокая,
- Слабости вечный пример.
- И никнут плечи мои
- Под бременем мук и трудов.
- Хочу ли заговорить –
- Язык мой во всем виноват.
- И голос мой нестерпим
- Для безумного слуха.
- Руки мои бесполезны,
- И от ног моих глупых
- Нет толку,
- И бреду я без цели, сама
- Не зная куда.
- Доколь принимать мне страданье?
- Когда ж мне природа объявит: «свободна»?
- Где же, о где Справедливости дом?
- Кто назначил мне жребий?
- Скажите ему,
- Скажите ему,
- О, скажите ему –
- Я мечтала бы стать кем угодно на свете –
- Только б не женщиной,
- Только бы не афганкой.
Пролог
Переход начинается здесь.
Я снимаю с головы черный платок и заталкиваю его в рюкзак. Волосы мои по-прежнему связаны в узловатый пучок на затылке. Уже скоро мы поднимемся в воздух. Выпрямляюсь и сажусь чуть вольнее, разрешая телу занять больше пространства. Я не думаю о войне. Я думаю о мороженом в Дубае.
Мы заняли все маленькие, обтянутые винилом кресла в зале отлета Кабульского международного аэропорта. Срок действия моей визы истекает через пару часов. Одна особенно оживленная стайка британских экспатов шумно празднует – впервые за несколько месяцев – передышку от жизни за колючей проволокой под присмотром вооруженной охраны. Три женщины, сотрудницы гуманитарной организации, одетые в джинсы и облегающие топы, возбужденно болтают о пляжном курорте. Трикотажная маечка сползает с плеча, обнажая клочок уже загорелой кожи.
Я во все глаза смотрю на эту демонстрацию плоти. В последние несколько месяцев я и собственное-то тело едва видела.
На дворе лето 2011 года, и исход иностранцев из Кабула длится уже больше года. Несмотря на последнее наступление, и многие военные, и работники иностранных гуманитарных миссий воспринимают Афганистан как страну потерянную. С тех пор как президент Обама объявил, что к 2014 г. начнется вывод американских войск из Афганистана{2}, международный караван лихорадочно готовится к отходу. Кабульский аэропорт – первая остановка на пути к свободе для этих стесненных, изнывающих от скуки, едва не теряющих голову консультантов, снабженцев и дипломатов.
Взлетная полоса аэродрома залита послеполуденным светом. Мой сотовый ловит сеть у одного из окон, и я вновь набираю номер Азиты. Тихий щелчок – и нас соединяют.
Она пребывает в эйфории после митинга с участием главного правительственного юрисконсульта и нескольких других должностных лиц. Присутствовала и пресса. Азита – политик, и в такие моменты она – в своей стихии. Я слышу, как она улыбается, описывая свой наряд:
– Ах, я была такая модница! И дипломатка притом. Все меня фотографировали. Би-би-си, «Голос Америки» и Толо-ТВ. На мне был бирюзовый платок – помните, тот самый, что вы видели на днях. Ну, вы меня поняли. И еще тот черный жакет… – она ненадолго замолкает. – И еще косметика. «Боевой раскрас».
Я делаю глубокий вдох. Я – журналистка. Она – моя героиня. Главное правило – не показывать никаких эмоций.
Азита слышит мое молчание и тут же начинает утешать меня. Вскоре ситуация улучшится. Она в этом уверена. Не стоит беспокоиться.
Объявляют мой рейс. Я должна идти. Мы обмениваемся обычными фразами: «Это ненадолго. Не прощаемся. Да. Скоро увидимся».
Поднимаясь с пола, на котором все это время сидела, прижавшись к окну, чтобы не потерять связь, я фантазирую о своем возвращении. Из этого могла бы получиться финальная сцена какого-нибудь фильма. Тот момент, когда внезапное откровение толкает героя на отчаянную пробежку через весь аэропорт, чтобы все исправить. Добиться позитивной концовки. Ну и что, если мне придется провести еще один день в кабинете полковника Хотака, выслушивая нравоучения в связи с моей истекшей визой? Чашка чаю, штамп в паспорте – и он меня отпустит.
Мысленно представляя себе этот путь шаг за шагом, я понимаю, что никогда этого не сделаю. Ну как бы он выглядел, этот мой последний выход на сцену? Ворвалась бы я в дом Азиты с американскими солдатами по бокам? Или с представителями Комиссии по правам человека в Афганистане? Или просто сама по себе, со своим карманным ножичком и навыками переговорщицы, пылая яростью и убежденностью в том, что все на свете можно исправить, приложив еще чуточку больше усилий?
Когда я прохожу через посадочный гейт, все эти сценарии блекнут. Так всегда бывает. Я иду вслед за другими – и снова делаю то, что совершаем мы все.
Я сажусь в самолет и улетаю.
Часть I
Мальчики
Глава 1
Мать-бунтарка
Азита, несколькими годами ранее
– А наш братик по-настоящему – девочка!
Одна из сгорающих от нетерпения близняшек кивает, подкрепляя свои слова. Потом поворачивается к сестре. Та соглашается. Да, верно. Она может это подтвердить.
Две абсолютно одинаковые десятилетние девчушки. У каждой черные волосы, беличьи глазенки и редкая россыпь мелких веснушек. Пару минут назад мы танцевали под музыку «шаффл» с моего плеера, ожидая, пока их мать завершит телефонный разговор в соседней комнате. Мы передавали друг другу наушники, поочередно демонстрируя свои коронные движения. Хотя я так и не смогла сравняться с ними в затейливых вращениях бедрами, некоторые из моих самых вдохновенных «а теперь поем все вместе!» были встречены с одобрением. И впрямь наши голоса звучали весьма неплохо, отскакивая рикошетом от холодных как лед цементных стен квартирки в выстроенном «при Советах» лабиринте, который стал домом для горстки представителей немногочисленного кабульского среднего класса.
Теперь мы сидим на расшитом золотой нитью диване, рядом с которымдевочки-близнецы накрыли чайный столик – стеклянные кружки и термос с помпой на серебряном подносе. Мехман кхана – наиболее богато убранная комната в афганском доме, ее предназначение – демонстрировать богатство и нравственность владельцев. Кассетные записи стихов Корана и искусственные матерчатые цветы в персиковых тонах занимают угловой столик, трещина на котором заклеена скотчем. Сестрицы-двойняшки, сидящие с аккуратно подобранными под себя ногами на диване, кажется, чуточку оскорблены тем, что я не реагирую на их великое откровение. Близняшка номер два наклоняется вперед:
– Это правда! Он – наша сестренка.
Я улыбаюсь им и снова киваю:
– Да-да.
Конечно.
Фотография в рамке на боковом столике демонстрирует их младшего братика, позирующего в пуловере с V-образным вырезом и при галстуке, рядом с ухмыляющимся усатым отцом. Это единственная фотография, выставленная в гостиной. Старшие дочери говорят по-английски ни шатко ни валко, зато с большим энтузиазмом, нахватавшись фраз из учебников и программ спутникового телевидения, которое обеспечивает тарелка, стоящая на балконе. Возможно, дело просто в языковом барьере.
– Ладно, – говорю я, не желая показаться недружелюбной. – Я поняла. Ваша сестра. А какой у тебя любимый цвет, Бенафша?
Девочка колеблется, пытаясь сделать выбор между красным и пурпурным, а потом переадресует вопрос сестре, которая столь же серьезно обдумывает его. Близнецы, обе одетые в оранжевые кардиганы и зеленые брючки, кажется, делают почти все с совершенно девчачьим синхронизмом. Их покачивающиеся головы венчают сверкающие резинки для волос, и только когда одна из них говорит, резинка другой на пару мгновений замирает. Такие моменты – шанс для новых знакомых начать различать близнецов: главный признак – крохотное родимое пятнышко на щеке Бехешты. Бенафша означает «цветок», Бехешта – «рай».
– Я хочу быть учительницей, когда вырасту, – предлагает Бехешта новую тему для нашей беседы.
Когда настает очередь девочек задать вопрос, обе они желают узнать одно и то же: замужем ли я?
Мой ответ их озадачивает, поскольку – как они полагают – я очень старая. Я даже на несколько лет старше их матери, которой 33 года (она замужем, четверо детей). У девочек есть еще одна сестра вдобавок к младшему братцу. К тому же их мать – член парламента страны. У меня по сравнению с ней так много «не» (не замужем, не мать, не член правительства) – говорю я девочкам. Кажется, такая классификация приходится им по вкусу.
В дверях внезапно появляется их братик.
У шестилетнего Мехрана загорелая круглая мордашка, глубокие ямочки на щеках, брови, которые скачут вверх-вниз, когда он гримасничает, и широкий просвет между передними зубами. Волосы его так же черны, как и у сестриц, только коротко стрижены и стоят торчком. В узкой красной джинсовой рубашке и голубых брючках, выставив вперед подбородок, уперев руку в бедро, он с важным видом вступает в комнату, глядя на меня в упор и нацелив мне в лицо игрушечный пистолет. Потом спускает курок и выпаливает свое приветствие: паф! Видя, что я не падаю и не палю по нему в ответ, он вытаскивает из заднего кармана пластикового супергероя. У его верного спутника блондинистые волосы, сверкающие белые зубы, две пулеметные ленты крест-накрест на выпяченной груди, и вооружен он пулеметом. Мехран говорит что-то игрушке на дари, потом внимательно прислушивается к ее «ответу». Кажется, они пришли к согласию: их атака увенчалась успехом.
Бенафша, сидящая рядом со мной, оживляется, видя возможность наглядно доказать свою точку зрения. Она машет рукой, чтобы привлечь внимание брата:
– Скажи ей, Мехран. Скажи ей, что ты – наша сестра.
Уголки губ Мехрана ползут вниз. Он гримасничает, высунув язык, потом срывается с места и едва не врезается в мать, которая как раз входит в комнату.
Глаза Азиты подведены сурьмой, на лице – легкий намек на румяна. А может быть, просто след прижатого к щеке сотового телефона.
– Ну вот, теперь готова, – восклицает Азита, обращаясь ко мне.
Готова рассказать мне о том, о чем я пришла узнать: каково это – быть здесь афганской женщиной, почти десятилетие спустя после начала самой долгой войны в истории Америки и одной из крупнейших операций иностранных гуманитарных организаций за жизнь нынешнего поколения.
В момент нашего знакомства (состоявшегося сегодня утром) я собираю материал для телесюжета об афганках, а Азита уже четыре года является членом сравнительно нового для этой страны органа – парламента. Избранная в Волеси Джирга{3} – одну из ветвей законодательной власти, учрежденную через несколько лет после поражения, нанесенного Талибану в 2001 г., – она обещала своим деревенским избирателям из провинции Бадгис, что будет направлять больше иностранной гуманитарной помощи в этот нищий и труднодоступный уголок Афганистана.
Парламент, в состав которого она вошла, в большинстве своем состоял из нарковоротил и милитаристов{4} и, казалось, находился в состоянии паралича из-за глубоко укоренившейся коррупции; но это была какая-никакая попытка создать демократию – надежду многих афганцев. За последнее столетие в стране поочередно сменяли друг друга и терпели поражение разные формы правления: абсолютная монархия, коммунизм, исламский эмират под главенством Талибана… А то и вовсе никакого правления – в периоды гражданской войны.
Когда иностранные дипломаты и гуманитарные работники в Кабуле познакомились с Азитой и узнали в ней образованную женщину-парламентария, которая говорила не только на дари, пушту, урду и русском, но и по-английски, и к тому же казалась сравнительно либеральным политиком, то из внешнего мира ручейком потекли приглашения. Ее возили в несколько европейских стран и в Йельский университет в Соединенных Штатах, где она рассказывала о жизни при Талибане.
Кроме того, для Азиты обычное дело – приглашать иностранцев в свою съемную квартиру в Макрояне, чтобы продемонстрировать собственный вариант нормальной жизни в типичном кабульском районе. Здесь на балконах грязно-серых четырехэтажных зданий, разбавленных редкими заплатками зеленой растительности, трепещет на ветру белье и спозаранку женщины собираются у крохотных пекарен «в одно окно», пока мужчины лениво разминаются гимнастикой на футбольном поле.
Азита гордится ролью гостеприимной хозяйки и всячески позиционирует себя как исключение из стереотипного представления об афганках – узницах в собственных домах, почти никак не связанных с обществом, часто неграмотных и находящихся в полной зависимости от демонических мужей, из-за которых света белого не видят. И уж точно не принимают у себя в гостях фаранджи – иностранцев, как некогда окрестили афганцы захватчиков. В наши дни иностранцев обычно именуют амрикан, независимо от их национальной принадлежности.
Азита с удовольствием демонстрирует наличие в доме водопровода, электричества, телевизора и видеоцентра в спальне; все это куплено на деньги, которые она заработала, став добытчицей в семье. Она знает, что это производит на иностранцев впечатление. Особенно на иностранок.
Со своими пылающими румянцем щеками, острыми чертами лица и осанкой под стать выпускникам кадетского училища, элегантно задрапированная с ног до головы в черные ткани, испускающая теплый аромат мускуса, смешанного с какими-то сладостями, Азита действительно отличается от большинства афганских женщин. При росте 168 см – который, пожалуй, еще немного увеличивает каблук узконосых, сорокового размера босоножек, – она оказывается даже выше некоторых своих гостей. Обычно они приходят в более практичной обуви, скорее пригодной для похода по сильно пересеченной местности.
Азита не выражает особой удовлетворенности, говоря о прогрессивных переменах для женщин начиная с 2001 г. в беседах с иностранцами, среди которых я – всего лишь «одна из» и самая недавняя знакомая.
Да, сейчас на улицах Кабула и нескольких других крупных городов стало больше женщин, чем при талибах, и больше девочек ходит в школу{5}. Но, как и в предыдущих попытках реформирования, прогресс для женщин касается лишь жительниц столицы и горстки других городских территорий. Основные запреты и предписания Талибана в отношении женщин по-прежнему остаются законом в обширных областях этой почти неграмотной страны – законом, поддерживаемым консервативной традицией.
В провинциях до сих пор женщины носят бурки[1], редко работают и вообще не выходят из дома без своих мужей. Большинство браков доныне заключают без их согласия{6}, и «убийство чести» – не такая уж редкость{7}, а в случае изнасилования любое соприкосновение с системой правосудия{8} обычно означает, что в тюрьму отправится сама жертва, обвиненная в адюльтере или добрачном сексе (если только ее по традиции не заставят выйти замуж за своего насильника). Здесь женщины устраивают самосожжения{9}, облившись керосином, чтобы избежать домашнего насилия, а дочери по-прежнему остаются принятой неформальной валютой{10}, которой их отцы выплачивают свои долги и разрешают споры и разногласия.
Азита – одна из немногих женщин, имеющих возможность высказываться, но для многих она остается живой провокацией, поскольку ее жизнь отличается от жизни женщин в Афганистане, и угрозой для тех, кто держит женщин в подчинении. Вот ее собственные слова:
– Если вы съездите в отдаленные области Афганистана, то увидите, что в жизни женщин не изменилось ничего. Они по-прежнему напоминают рабынь. Животных. Нам еще далеко до того момента, когда женщину станут считать в нашем обществе человеком.
Азита сбрасывает с головы свой изумрудно-зеленый платок, под которым обнаруживается короткий черный «конский хвост», и приглаживает волосы. Я тоже избавляюсь от платка, спуская его на шею. Она с секунду смотрит на меня; мы с ней сидим в ее спальне.
– Я ни в коем случае не желаю своим дочерям тех страданий, что пришлось вынести мне. Мне пришлось убить многие свои мечты. У меня четыре дочери. И я этому очень рада.
Четыре дочери. Только дочери? Да что за странности происходят в этом семействе?! Я на миг задерживаю дыхание, надеясь, что Азита проявит инициативу и поможет мне разобраться.
И она это делает.
– Хотите посмотреть наш семейный альбом?
Мы снова перемещаемся в гостиную, где она достает из-под маленького плетеного письменного стола два фотоальбома. Дети часто разглядывают эти фотографии. Они рассказывают историю становления семьи Азиты.
Первый. Серия снимков с празднования помолвки Азиты, лето 1997 г. Двоюродный брат Азиты, за которого ей предстоит выйти замуж, юн, тощ и долговяз. На его лице маленькие островки растительности все еще с трудом силятся сойтись посередине, чтобы образовать настоящую бороду – непременное требование для взрослого мужчины времен правления Талибана. На невесте надеты тюрбан и коричневый шерстяной камзол поверх традиционных белых перан тонбан – длинной рубахи и свободных брюк. Ни один из примерно сотни гостей не улыбается. По афганским меркам, где на празднике запросто может присутствовать более тысячи человек, это было небольшое и ничем не впечатляющее сборище. Этакий моментальный снимок «смычки города и деревни». Азита – получившая элитное образование дочь профессора Кабульского университета. А ее будущий муж – сын крестьянина.
Засняты несколько постановочных моментов. Жених пытается накормить свою будущую жену розово-желтым тортом. Она отворачивается. В свои девятнадцать Азита – более худая и более серьезная версия себя взрослой, в кобальтово-синем шелковом кафтане со скругленными подплечниками. Ее ногти выкрашены ярко-красным лаком под стать карминным губам, оттеняемым напудренной до белизны кожей, из-за чего ее лицо кажется маской. Прическа – туго заплетенное, топорщащееся от лака «птичье гнездо». На другом снимке будущий муж подает Азите праздничный кубок, из которого ей полагается выпить. Она напряженно смотрит в камеру. Ее матовое, запудренное лицо изборождено вертикальными линиями, бегущими вниз от темно-карих глаз.
Через несколько альбомных страниц дочери-близнецы позируют вместе с матерью Азиты – женщиной с высокими скулами и волевым носом, с лицом, изрезанным глубокими морщинами. И Бенафша, и Бехешта посылают воздушные поцелуи своей биби-джан, которая по-прежнему живет с их дедом на северо-западе Афганистана. Вскоре на фотографиях появляется и третья маленькая девочка. Средняя сестра, Мехрангис, выделяется косичками и чуть более округлым личиком. Она позирует рядом с двумя одинаковыми мини-Азитами, которые вдруг выглядят очень взрослыми в своих белых платьях с оборками.
Азита переворачивает страницу: Новруз, персидский Новый год в 2005 г. Четыре маленькие девочки в платьицах цвета сливок. Все выстроились по росту. У самой маленькой в волосах бант. Это Мехран. Азита указывает на фотографию пальцем. Не поднимая глаз, говорит:
– Вы уже знаете, что мой младший ребенок – тоже девочка, да? Мы одеваем ее как мальчика.
Я бросаю взгляд на Мехран, которая слоняется поблизости все время нашего разговора. Она запрыгивает в другое кресло и снова разговаривает с пластиковой фигуркой.
– О моей семье сплетничают. Когда у тебя нет сыновей, это большое несчастье и всем тебя жаль.
Азита произносит эту фразу, словно простое объяснение.
Наличие хотя бы одного сына – обязательное требование для хорошей репутации в этой стране. Семья без сына не просто неполна; в стране, где нет власти закона, это расценивают как слабость и уязвимость. Так что должностная обязанность любой замужней женщины – быстро зачать сына. Это ее абсолютная цель в жизни, и если женщина ее не исполняет, то в представлении людей с ней явно что-то не в порядке. Ее могут отвергнуть как докхтар зай, или «ту, что приносит лишь дочерей». И это еще не столь тяжкое оскорбление, как то, которое бросают бездетной женщине, – санда или кхошк, что на дари означает «сухая» или «яловая». Но в патрилинейной культуре женщина, которая не может родить сына, в глазах общества и своих собственных считается имеющей некий фундаментальный изъян.
В большинстве районов Афганистана уровень грамотности составляет не более 10 %{11}, и в обиходе крутится масса ни на чем не основанных «истин», которые никто не оспаривает. Среди них и распространенное убеждение в том, что женщина может выбирать пол своего нерожденного ребенка, просто упорно думая о нем. Как следствие, неспособность женщины рожать сыновей не вызывает никакого сочувствия. Напротив, и общество, и собственный муж порицают ее как женщину, которая просто недостаточно сильно хотела сына. Женщины тоже часто обвиняют собственное тело и слабый ум за то, что те не дают им родить сына.
В глазах других образ такой женщины сопровождается множеством недостатков: уж она-то и капризная, и несносная. Пожалуй, даже грешница. Тот факт, что на самом деле как раз отец ответствен за пол отпрыска (поскольку именно мужской сперматозоид, дополняя хромосомный набор будущего ребенка, определяет, кто родится, мальчик или девочка), большинству неизвестен.
В ситуации Азиты отсутствие сына готово было стать помехой всему, чего она пыталась достичь как политик. Когда она с семьей переехала в 2005 г. в Кабул, насмешки и подозрения по поводу отсутствия у нее сына вскоре неизбежно распространились и на ее способности как законодателя и общественной фигуры. Посетители рассыпались в соболезнованиях, узнавая, что у нее четыре дочери. Она обнаружила, что ее зачислили в разряд неполноценных женщин. Коллеги-парламентарии, избиратели и собственные родственники ничуть не сочувствовали ей: как можно верить, что она достигнет хоть чего-то в политике, если она не способна даже подарить мужу сына? Не имея сына, которым можно было бы похвастать перед непрерывным потоком наносящих визиты политических воротил, ее муж тоже испытывал нарастающий стыд.
Азита и ее муж обратились к своей младшей дочери с предложением: «Хочешь выглядеть как мальчик, одеваться как мальчик и заниматься всякими интересными делами, как делают мальчики, например, кататься на велосипеде, играть в футбол и крикет? Хочешь быть похожей на своего отца?»
О, еще бы – конечно, она хотела! Это было роскошное предложение.
Единственное, что потребовалось для его реализации, – стрижка, пара брючек с базара и джинсовая рубашка с надписью «суперзвезда» на спине. За один-единственный день родители превратились из семейства с четырьмя дочерями в семейство, которое Бог благословил тремя малышками и вихрастым сынишкой. Их младшее дитя теперь отзывалось не на девчачье имя Мануш, означающее «лунный свет», а на мужское – Мехран. В глазах окружающих – и особенно избирателей Азиты в Бадгисе – их семья наконец-то стала полной.
Конечно, некоторые знали правду. Но и они тоже поздравляли Азиту. Иметь подложного сына было лучше, чем не иметь никакого вообще, и люди хвалили ее за изобретательность. Когда Азита снова приехала в свою провинцию – более консервативную в сравнении с Кабулом, – она взяла с собой Мехрана. И обнаружила, что в компании шестилетнего сына ее встречают с большим одобрением.
Эта перемена удовлетворила и мужа Азиты. Злые языки теперь перестали трещать об этом несчастливом мужчине, обремененном четырьмя дочерями: ведь ему, бедняге, придется искать для всех них мужей, а его собственная родовая линия прекратится вместе с ним.
В пушту – втором официальном языке Афганистана – есть даже уничижительный эпитет для мужчины, у которого нет сыновей: мераат. Ведь здесь все наследование, например земельных активов, идет почти исключительно по мужской линии… Но, поскольку младшая дочь в семье взяла на себя роль сына, она стала источником гордости для своего отца. Изменившийся статус Мехрана обеспечил и его сестрам значительно большую свободу, поскольку они могут выходить из дома, играть на детской площадке и даже отважиться заглянуть в соседний квартал, если их сопровождает Мехран.
Была и еще одна причина для такого превращения. Азита говорит об этом, сопровождая свои слова взрывом тихого смеха, чуть наклоняясь ко мне, чтобы признаться в своем маленьком акте бунтарства:
– Я хотела показать своей младшенькой, какова жизнь с другой стороны.
В этой жизни возможны запуски воздушного змея, беготня во все лопатки, истерический хохот, бешеные прыжки (просто потому, что тебе весело), лазанье по деревьям – чтобы ощутить сладкий трепет, когда повисаешь на ветке. Это еще и возможность разговаривать с другим мальчишкой, сидеть рядом с отцом и его друзьями, ездить на переднем сиденье машины и наблюдать за людьми на улицах. Смотреть им в глаза. Высказываться без страха, знать, что тебя выслушают, и редко слышать от других вопрос, почему это ты в одиночку шатаешься по улицам в удобной одежде, которая не стесняет никаких движений. Все это немыслимо для девочки-афганки.
Но что будет, когда наступит половая зрелость?
– Вы имеете в виду, когда он вырастет? – переспрашивает Азита, и ладони ее рисуют в воздухе женские формы. – Это не проблема. Мы снова превратим его в девушку.
Глава 2
Иностранка
Кэрол
Есть в Кабуле один маленький ресторанчик – любимое заведение тех почти несуществующих кабульских дам, которые имеют привычку ходить на ланч, где подают местные вариации на тему киш-лорен и изящные маленькие сэндвичи, в то время как война бушует где-то в провинциях, оставаясь невидимой здесь. Этот желтый домик с маленьким садиком приютился в проулке позади одной из правительственных служб и окружен достаточным числом блокпостов, чтобы стать приемлемым местом выхода в свет для иностранных дипломатов и профессионалов из гуманитарных организаций. Как и во многих других местах, электричество здесь пропадает примерно каждые полчаса, но гости быстро обзаводятся привычкой продолжать свои беседы в абсолютной тьме до тех пор, пока переключение между генераторами не вернет к жизни маленькие светильники, – и притом сохранять спокойствие, когда мелкие живые тварюшки время от времени шмыгают мимо их ног под столом.
Я пришла сюда, чтобы встретиться с гранд-дамой кабульских экспатов – в надежде, что она сможет пролить свет на то, что кажется мне еще одной из многочисленных тайн Афганистана.
До сих пор я в основном встречала сопротивление.
После первого визита в семью Азиты я принялась шерстить газетные и сетевые архивы, полагая, что пропустила нечто фундаментальное в своей «домашней работе» по этой стране. Но мои поиски не выявили ни одной другой девочки, которую в Афганистане одевали бы как мальчика. Может быть, Азита – просто необыкновенно творческая женщина? А может быть – как я все еще подозревала, – и какие-нибудь другие афганские семьи превращают своих дочерей в сыновей, чтобы одновременно и прогнуться перед невероятно закоснелым обществом, и бросить ему вызов?
Я даже консультировалась со специалистами, коих существует множество – есть из кого выбирать.
Проблемы девушек и женщин стали одной из нескольких неотложных задач для сообщества международной гуманитарной помощи после падения Талибана, и многочисленные знатоки этой темы курсировали в Афганистан и обратно, приезжая ненадолго из Вашингтона и разных европейских столиц. Поскольку страны-благотворители нередко требовали проектов по развитию – от сельского хозяйства до политики, – чтобы предметно разобраться, как следует улучшать жизнь афганок{12}, Кабул стал местом, кишмя кишащим «гендерными экспертами». Этот термин охватывает множество гуманитарных работников – иностранцев по рождению: социологов, консультантов и исследователей с какой угодно специализацией, от конфликтологов до феминисток.
После наблюдения (скорее игнорирования) за жестоким обращением Талибана с женщинами на протяжении многих лет ныне иностранцы сошлись во мнении о необходимости скорейшим образом подтолкнуть афганок к западной версии равенства. «Гендерные семинары», казалось, проходили в каждом высококлассном отеле в Кабуле, где европейки и американки, разодетые в этническую бижутерию и расшитые туники, устраивали семинары и рисовали круги на школьных досках вокруг таких слов, как «расширение возможностей женщин» и «осознанность». На всей территории Афганистана полным ходом шли сотни не связанных друг с другом гуманитарных проектов, чьи эвфемистически заявленные цели состояли в том, чтобы просвещать афганцев в отношении «гендерного мейнстрима» и «гендерного диалога».
Однако высокопоставленные чиновники Организации Объединенных Наций и эксперты как правительственных, так и независимых гуманитарных организаций лишь апатично отмахивались, когда я к ним обращалась: нет, афганцы не одевают дочерей как сыновей, чтобы противостоять своему сегрегированному обществу. Да и зачем бы им вообще это делать? Если бы существовали еще такие девочки, как Мехран, говорили мне, эти эксперты, всей душой неравнодушные к положению афганок, наверняка знали бы об этом. Антропологи, психологи и историки тоже наверняка не остались бы в неведении, поскольку подобные вещи явно противоречили бы общепринятому пониманию культуры Афганистана, где люди одеваются строго согласно своему полу. Были бы написаны книги, были бы проведены научные исследования.
Следовательно, такая практика – если бы только это была действительно практика, а не просто диковинный случай, – никак не должна существовать. Гендерная сегрегация в Афганистане – одна из самых строгих в мире, что делает подобный поступок немыслимым, твердили мне. Даже опасным.
И все же настойчивые расспросы среди афганцев открывали иную, пусть и путаную, точку зрения. Мой спутник и переводчик (мужчина) как-то походя заметил, что он слыхал о своей отдаленной родственнице, которая оевалась как мальчик, но никогда ее не понимал, да и не придавал этому особого значения. Другие афганцы порой пересказывали единичные слухи о таких девочках, но в один голос советовали мне не поднимать эту тему: совать нос в частные семейные дела и традиции всегда было не самым разумным поступком для иностранца.
Один афганский дипломат в конечном счете рассказал, что сам был свидетелем подобного случая, припомнив одного своего приятеля по дворовой футбольной команде еще во времена правления Талибана, в 1990-е годы. Однажды этот приятель попросту исчез, и несколько товарищей по команде отправились в поисках парнишки к нему домой. Его отец вышел на порог и сказал, что, увы, их друг больше не вернется. Он снова стал девочкой. Двенадцатилетние мальчишки, толпившиеся на улице возле дома, потеряли дар речи.
Это, однако, была аномалия, как уверял меня тот дипломат. Вину за любые подобные отчаянные и нецивилизованные шаги можно целиком и полностью списать на ужасы эпохи Талибана. Снятый в 2003 г. афганский кинофильм «Усама» тоже рассказывал историю юной девушки, которая во время правления Талибана маскировалась под мальчика. Но это, дескать, был чистый вымысел. И кроме того, теперь в Афганистане наступили новые, просвещенные времена, уверял меня дипломат.
Но так ли это на самом деле?
Мне как репортеру такой одинаково агрессивный отпор со стороны как экспертов-иностранцев, так и афганцев показался интригующим. Что, если он указывает на нечто большее, чем одно только семейство Азиты, – на явление, которое могло бы заставить задуматься: а что еще мы упустили в наших десятилетних попытках понять Афганистан и его культуру?
Я надеялась, что у Кэрол ле Дюк, возможно, найдется, что сказать на эту тему. Кэрол, со своими рыжими волосами и расшитыми бижутерией шелковыми шальварами, кажется, никогда не высказывала самоуверенных и часто повторяющихся тезисов об афганцах или о том, что нужно их стране в плане основ понимания западных ценностей. «Я ни в коем случае не назвала бы себя феминисткой, – сообщила она, к примеру, когда мы с ней только познакомились. – Нет-нет, пусть этим балуются другие».
Напротив, Кэрол принадлежит к тем людям, которые всячески сторонятся общества экспатов, предпочитая общаться с афганскими семействами, с которыми она подружилась много лет назад, когда в период правления Талибана в страну допускалось гораздо меньше иностранцев, чем теперь. Многие считают, что она – обладательница самой острой коллективной памяти в Кабуле, и о ней идет молва как об одной из немногих женщин, ведших переговоры с Талибаном, когда это движение было у власти.
Кэрол прибыла в эту часть света в 1989 г., после развода. Она могла бы более чем комфортно жить в Англии до конца своих дней, но предпочла другое.
– Ненавижу путешествовать и просто проезжать по разным местам. Люблю узнавать людей поближе. Углубляться, – рассказывала она мне. – И вот до меня дошло, что в свои 49 лет я – совершенно свободная женщина.
На протяжении двух десятилетий, проведенных с тех пор в Афганистане и Пакистане, она работала в неправительственных организациях и была консультантом правительственных служб. Имея ученую степень антрополога, полученную в Оксфорде, она участвовала во многих исследованиях, предметом которых были афганские женщины, дети и политика.
Кэрол твердо придерживается убеждения, что чай, ароматизированный молотым кардамоном и поданный в чашках из костяного фарфора, делает любую катастрофу – а Кабул повидал немалую их долю – чуточку менее невыносимой. Она живет в скромной роскоши в каменном домике персикового цвета, окруженном ухоженным садом с двумя павлинами, «потому что они радуют глаз красотой». Зимой ее камин представляет собой редкое явление для Кабула: он на самом деле топится. А летом широкие ротанговые кресла под медленно крутящимся потолочным вентилятором делают местный август чуть более пригодным для жизни.
Каждый афганец, работающий в таксопарке, который обслуживает постоянно живущих здесь иностранцев, знает ее обнесенный оградой дом на грязноватой кабульской улочке просто как «Дом Кэрол», и местные говорят о ней с любовью и уважением, приберегаемыми для тех, кто, приехав сюда, стал частью местной истории, которая началась отнюдь не с последней войны.
Однако временами Кабула становится «чересчур много» даже для Кэрол, и она летит самолетом «на дачу» в Пешавар, неистовый пакистанский город, который некогда контролировали британцы и где проводил лето афганский монарх.
Сегодня Пешавар считается одним из самых опасных мест в мире. Он настолько кишит исламистами-экстремистами, что лишь немногие жители Запада поедут туда добровольно, а если и едут, то обычно под почти военной охраной. Но для Кэрол, привыкшей гулять по Кабулу пешком с абсолютным пренебрежением к тому, что иностранцы называют «секьюрити», и отказывающейся убирать кричаще-яркие волосы под головной платок, Пешавар – это всего лишь чуточку более сложное существование. Разумеется, аэропорт – это «ужасная суматоха», говоря ее собственными словами, где вместо гостиничного регистратора к ней всегда подходит «мистер Спецслужба», заподозрив в ней американку. И всякий раз Кэрол с огромным удовольствием заявляет, что она – британка. И ничего более.
– Кстати, не желаете ли особого белого чая – или нам попробовать особого красного? – спрашивает она меня в ресторане, выслушав рассказ о моих затруднениях. Кэрол кивает официанту, и он наливает нам нелегальное красное вино из щекастого синего чайника.
Кэрол не видит в том, что афганскую девочку воспитывают как мальчика, ничего невозможного:
– Если ты женщина в такой стране, как Афганистан, странно, если тебе не хочется перейти в другую категорию! – восклицает она. В сущности, эта идея ее развлекла: она тешит в Кэрол дух противоречия.
Хотя Кэрол ни разу не замечала подобной практики в отношении детей, она действительно припоминает одну поездку несколько лет назад, когда она с небольшой командой гуманитарных работников отправилась в провинцию Газни – оплот Талибана. Мужчины и женщины одной племенной деревни жили в условиях строгого разделения, и когда Кэрол была приглашена на чай в женские «покои», она с удивлением обнаружила живущего среди женщин мужчину.
Женщины называли его Дядюшкой, и человек этот, похоже, пользовался особым статусом в деревне. Женщины подавали ему чай и относились к нему с большим уважением. Внешность его была сурова, но лицо отличалось несколько большей мягкостью, чем у прочих мужчин. Потребовалось некоторое время, а заодно и пара доброжелательных намеков, чтобы Кэрол поняла, что Дядюшка на самом деле был пожилой женщиной в тюрбане и мужской одежде.
В этой деревушке Дядюшка функционировал как посредник между мужчинами и женщинами и обслуживался как почтенный мужчина, который мог передавать сообщения и сопровождать других женщин, когда у них возникала необходимость выйти из дома, не представляя для них никакой угрозы, поскольку сам он был женщиной.
Как и Мехран, дочь Азиты, Дядюшку воспитывали как мальчика, так сказали Кэрол. Очевидно, это была идея местного муллы: Дядюшка родился седьмой дочерью в семье, где не было сыновей. Мулла, духовный вождь деревни, проникся жалостью к родителям, поэтому он просто назначил малютку сыном спустя считаные часы после ее рождения. Он дал ребенку мужское имя, а затем незамедлительно отправил родителей представлять односельчанам члена семьи, который отныне был их сыном. Официальное объявление муллы о том, что родился сын, было с благодарностью воспринято родителями: это одновременно повышало их статус и избавляло от неизбежного презрения односельчан.
Но почему Дядюшка не вернула себе пол, доставшийся от рождения, с наступлением полового созревания? Как ей удалось избежать выдачи замуж? И показалось ли Кэрол, что она довольна этим положением дел? В ответ на мои вопросы Кэрол пожимает плечами: она этого не знает. У Дядюшки не было мужа и детей, но она явно наслаждалась более высоким положением, чем остальные женщины. Она была «промежуточной фигурой».
То, что никто не задокументировал никаких исторических или современных случаев появления других Дядюшек или маленьких девочек, одеваемых как мальчики, на взгляд Кэрол, вполне объяснимо. Даже если бы такие сведения существовали, надо учитывать, что лишь немногие документы пережили разнообразные кабульские войны и «турникетные» режимы. К тому же афганцы не очень-то любят, когда их расспрашивают о семьях: на правительственных чиновников и их институты смотрят в лучшем случае с подозрением.
То, что с наибольшим приближением можно назвать афганским национальным архивом, в сущности, осталось без внимания давней американской резидентки в Кабуле, с которой я тоже консультировалась. Я говорю об экспатке Нэнси Дюпре, остроумной женщине за восемьдесят, историке, известной многим под любовным прозвищем «бабушка Афганистана». Прославившись публикацией нескольких путеводителей{13} по наиболее отдаленным местностям Афганистана в 1970-х, она собирала сведения об афганской культуре и истории вместе со своим покойным ныне мужем археологом Луи Дюпре.
При всем при том Нэнси никогда не видела девочек, переодетых в мальчиков, не слышала о них и не могла припомнить никаких документов по этой теме за все то время, что она прожила в Афганистане, – то есть со времен последнего монарха, изгнанного в 1973 г.{14} Но ее «ни в малейшей степени не удивила» рассказанная мною история об одной маленькой девочке, которую воспитывают как мальчика. Реакция Нэнси на мой рассказ была сродни реакции Кэрол. «Сегрегация побуждает к творческому подходу», – сказала она.
Нэнси показала мне старую фотографию, оставленную на ее попечение бывшим афганским королевским двором. На пожелтевшем черно-белом снимке, сделанном в первые годы XX века, женщины, одетые в мужскую одежду, стоят на страже гарема Хабибуллы-хана{15}. За гаремом не должны были надзирать мужчины, поскольку они представляли потенциальную угрозу для целомудрия женщин и чистоты ханской наследственности. Женщины, одетые в мужское платье, решали эту проблему, что указывает, что подобные решения исторически бытовали и в высших слоях афганского общества.
Однако то, что происходит в замкнутой жизни афганских семей, возможно, никогда не было широко открыто для исследований, проводимых иностранцами, полагает Кэрол. И уж наверняка во время этого последнего наплыва чудаков, желающих изменить Афганистан. Точь-в-точь как местная старуха, оплакивающая утрату души своей округи, Кэрол с горечью рассказывает, каким стал Кабул в последние годы: цементно-серой крепостью, в которой обычные афганцы оказались изгнаны{16} из собственного города из-за раздутой военной экономики и стремительно взлетающих цен на жилье, которое могут позволить себе лишь немногие помимо иностранцев, оплачиваемых международными организациями. Они создали город, в котором страхи и слухи, основные двигатели коммуникации экспатов, циркулируют по замкнутому кругу.
– Большинство иностранцев в Кабуле живут почти так же, как те самые поднадзорные афганеи, которых они пытаются освободить, – саркастически замечает Кэрол.
Афганистан имеет тысячелетнюю культуру обычаев и кодексов, передаваемых из поколения в поколение. История местных женщин отслеживалась лишь обрывочно. Вообще говоря, история многих стран представляет собой историю их войн, и лишь изредка в ней одиноко выделяется правление какой-нибудь монархини. Большую часть социологических исследований в Афганистане проводят иностранцы – почти исключительно мужчины, – которые редко получают доступ к женщинам, поэтому узнают они лишь то, что рассказывают им афганские мужья, братья и отцы.
В Афганистане нет никакой службы по защите детей, куда можно было бы позвонить, никакой надежной службы, которая вела бы статистику, никакого официально учрежденного исследовательского университета. Никто не может даже сказать с достаточной уверенностью, сколько людей живет в Афганистане: цифры, которыми оперируют крупные гуманитарные агентства, варьируют от 23 до 29 млн.{17}
Первая и единственная перепись в Афганистане была проведена в 1979 г., а более поздние попытки действительно сосчитать афганцев были одновременно спорными и отягощенными всяческими трудностями. Три десятилетия непрерывной войны и перемещений огромных масс беженцев не позволяют говорить о какой бы то ни было точности. Задача еще более усложняется непростым этническим обликом Афганистана и непрекращающимися дебатами по поводу точного месторасположения границы с Пакистаном.
Те, кто старается придерживаться дипломатического подхода, часто говорят, что Афганистан состоит из пестрого собрания меньшинств, очевидного наследия многочисленных завоевателей, которые вторгались в страну с разных сторон на протяжении всей ее истории.
Самое крупное меньшинство, приблизительно оцениваемое в 40 % всего населения, – это суннитская исламская пуштунская группа, и многие ее представители считают себя этническими афганцами. Пуштуны преобладают на юге и востоке страны. Второе по величине меньшинство – таджики, присутствие которых сильнее всего в северном и центральном Афганистане. Хазар многие считали предками монголов, их безжалостно преследовали в эпоху Талибана как последователей шиитской ветви ислама. В некоторых областях, в основном на севере, живут также афганцы узбекского, туркменского и киргизского этнического происхождения. Есть в этой стране и кочевники-кучи.
Хотя между этническими группами формируются и распадаются союзы, люди в пределах каждой группы зачастую с подозрением относятся к представителям других национальностей. Это еще одна причина, почему местные жители не склонны сообщать сведения, например, о том, сколько детей рождается в определенной местности или в пределах одной группы, не говоря уже о такой подробности, как пол этих детей.
На взгляд Кэрол, возможно, Запад больше озабочен вопросом гендерных ролей детей, чем сами афганцы. Хотя афганское общество строго основано на разделении полов, пол в детстве в некотором роде значит меньше, чем на Западе.
– Здесь, – говорит Кэрол, – людьми движет нечто более исконное. Все, что предшествует пубертату[2], – лишь подготовка к продолжению рода. Здесь это главная цель жизни.
И вероятно, нам – жителям Запада, – чтобы начать понимать Афганистан, нужно отставить в сторону свои представления о порядке вещей. Там, где долгая родословная племенной организации гораздо могущественнее любой формы правления, где язык представляет собой поэзию, но лишь немногие умеют читать и писать, где для неграмотного человека обычное дело – знать наизусть{18} произведения пуштунских и персидских поэтов и говорить на нескольких языках, истины и знания проявляются иными способами, нежели те, которые с легкостью могли бы распознавать чужестранцы. Говоря словами Кэрол, в стране поэтов и рассказчиков «важны общие фантазии».
По этой причине, если задаешься целью выяснить в Афганистане что бы то ни было, следует обращать внимание на неофициальные структуры. Например, заботы афганских женщин ближе всего знают, конечно, не иностранцы и не мужчины-афганцы, а другие афганские женщины – и еще врачи, учителя и повитухи, которые собственными глазами видят отчаянное желание рожать сыновей и все те шаги, на которые женщины готовы пойти, чтобы их родить. И ни один секрет не будет раскрыт мгновенно, предупреждает Кэрол:
– Нужно уметь прислушиваться к тому, чего никогда не говорят вслух.
Для пущего эффекта ресторанный электрогенератор в третий раз дает сбой, и мы снова оказываемся в темноте. Я делаю глубокий вдох. Во мраке аромат Кэрол – мандарин и черная смородина – становится более отчетливым, и я, наконец, спрашиваю ее, что это за облако духов, обволакивающее нас обеих. Мой вопрос ее радует.
– Ах да! В Пешаваре есть один человек… он торгует эссенциями и маслами. Он рассказывл мне, что поставляет свои товары какому-то французскому парфюмеру, который делает из этого сочетания одну довольно знаменитую штучку. Конечно, это просто бахвальство, но запах приятный, правда?
Я киваю – и не могу заставить себя сказать Кэрол, что ее поставщик говорит правду. Это аромат, который я знаю очень хорошо. Когда включается свет, я улыбаюсь. Я тоже совершенно свободная женщина, и у меня, как некогда у Кэрол, есть время, чтобы «копать глубже».
Но можно ли мне написать для начала хотя бы о семье Азиты? На протяжении последних месяцев у нас с ней состоялось несколько вариаций одного и того же разговора.
– Вы говорили мне, что у вас четыре дочери, – так я начала своей первый подобный телефонный разговор с ней. – Вы также рассказали мне о сыне в вашей семье…
Это был для Азиты шанс просто взять свои слова обратно и велеть мне никогда больше не возвращаться к этой теме. Я почти надеялась, что она им воспользуется. Лишь позднее мне стало ясно, что она уже все для себя решила.
– Я думаю, мы должны рассказать об этом, как есть.
– Но ведь это ваша тайна. Вы уверены?
– Думаю, да. Людям это может быть интересно. Такова реальность Афганистана.
И с этими словами я получила приглашение вернуться в ее дом. И в ее семью.
Глава 3
Избранная
Азита
В пять утра она заставляет себя подняться с ложа, состоящего из длинных громоздких подушек на полу столовой, которая служит заодно и спальней.
Прежде чем сделать над собой усилие и разбудить детей, чтобы подготовить их к новому дню, она мысленно перебирает карусель образов, ставя себе целью припомнить пять хороших мгновений из вчерашнего дня, чтобы пробудить свой дух добрыми мыслями. К примеру, как ей удалось до конца произнести речь и ее не перебил ни один из коллег-парламентариев. Или, может быть, одна из дочерей показала ей свою новую картину, и та оказалась по-настоящему талантливой.
Только после этого Азита пересекает коридор, чтобы разбудить своих четырех дочек, спящих в двухъярусных кроватях под голубыми одеялами с изображениями Винни-Пуха. Обычно после этого следует маленькое сражение за очередь в ванную комнату между Мехрангис и Мехран. Близнецы будут есть на завтрак йогурт и лепешки нан, оставшиеся со вчерашнего дня. Мехран, скорее всего, откажется от завтрака, но согласится на булочку-ролл, или сахарное печенье, или апельсин.
Три старшие девочки наденут черные платья длиной ниже колена и белые головные платки поверх блестящих черных «конских хвостов». Младшая натянет брючки, наденет белую рубашку и повяжет красный галстук. Все четверо возьмут по одному из одинаковых нейлоновых рюкзаков. Рюкзак Мехран слишком велик для нее, но она носит его с гордостью, так же как и старшие сестры. Отец отведет детей к школьному автобусу, держа за руку только Мехран.
У Азиты остается пятнадцать минут, чтобы собраться. Но она проворна. За это время она преображается. Ступив за порог дома, она будет отстаивать честь не только мужа и семьи, но и своей провинции, и своей страны. И большую роль в этом играет ее внешность. Она должна одеваться осмотрительно: скорее отвлекая внимание, чем привлекая его.
Репутация в Афганистане – не просто символическое понятие; это ценность, которую трудно восстановить, если она однажды пошатнулась. Так же как кредитную историю, ее следует постоянно холить и лелеять, а в идеале и улучшать, что вынуждает и мужчин, и женщин придерживаться сложной паутины строгих общественных правил.
При выборе всякой детали своего наряда Азита учитывает основы культуры чести Афганистана, где чистота женщины во все времена была связана с репутацией ее семьи. Талибан больше не правит в Кабуле{19}, но дресс-код для женщин по-прежнему весьма консервативен. Кэрол ле Дюк поясняет специально для меня эту неофициальную, зато очень реальную карательную систему:
– Женщина, которая привлекает к себе неподобающее внимание, неизбежно считается шлюхой.
Для женщины то, что ее сочтут шлюхой из-за неподобающей одежды или увидев разговаривающей с мужчиной, не являющимся ее мужем, может иметь огромные последствия: о ней будут сплетничать соседи, для ее родителей это станет страшным ударом, позор падет на головы ее родственников и потенциально может очернить их репутацию и лишить положения в обществе. Для женщины-политика эта игра еще больше усложняется, поскольку политика по своей природе требует присутствия на публике.
В представлении консерваторов, афганка, если ей не обойтись без работы, должна быть, самое большее, учительницей в классе, состоящем исключительно из девочек. Любая иная профессия, где женщина взаимодействует с мужчинами или находится у них на виду, более проблематична, поскольку рискует запятнать репутацию ее семьи. Женщины, которые работают с иностранцами, имеющими иные обычаи, оказываются под еще большим подозрением. Сидя в национальной ассамблее, под жгучим взором общественного ока, Азита провоцирует реакции на самых разных уровнях.
Ее рабочая униформа, состоящая из черной, в иранском стиле, абаи «в пол» и тонкого черного головного платка, призвана излучать властность и достоинство. Она старается одеваться со вкусом и притом глубоко консервативно: ни один контур ее тела не должен обрисовываться при движении. У этого черного одеяния есть тонкая золотая кайма; о демонстрации любых иных красок не могло бы быть и речи.
В другой вселенной, в иной жизни избранным цветом Азиты был бы ярко-красный – но в Афганистане этот цвет невозможен. Цвет огня считается откровенно сексуальным, призванным цеплять взгляды мужчин. Он – для той, которая намерена бросаться в глаза, вызывать восхищение. Платье ярких расцветок было буквально запрещено Талибаном, но и теперь оно было бы немыслимым, потенциально даже опасным в условиях консервативной культуры Афганистана. Ни одна уважаемая жительница Кабула не носит красного за пределами собственного дома, и у Азиты нет никакой красной одежды.
Ей требуются считаные секунды, чтобы навести черной сурьмой жирные линии вокруг глаз и нанести на лицо бежевую пудру. Обычно в парламенте работают фотографы, и теперь она уже знает, что матовая кожа на фотографиях смотрится лучше. Выходя из дома, она надевает темные солнечные очки в золотой оправе. Подруга купила их для Азиты в Дубае.
Азита позволяет себе еще пару особых эффектов: два арабских кольца из розового золота и поддельную дизайнерскую сумочку. Золото – не столько украшение, сколько демонстрация «портативных наличных», символизирующая статус женщины как хорошей жены и матери. Мужчина, у которого есть добрая, уважаемая и плодовитая жена, почтит ее золотом, которое увидят все. Азита сама заплатила за свои кольца, но это никого не касается.
После того как она устраивается на заднем сиденье, ее машину вскоре засасывает водоворот густого кабульского утреннего пюре из колес и бамперов со вмятинами. Обычная 15-минутная поездка до национальной ассамблеи в Картэ-Сех (Третьем квартале) занимает по утрам как минимум час. Белые «тойоты короллы» терпеливо пробираются по рытвинам, то ныряя в них, то выныривая, отыскивая путь в лабиринтах дорожных препятствий и участков, где и вовсе нет никакой мостовой.
До весны, или начала «сезона боев», как ее здесь называют, – когда Талибан и «инсургенты» развяжут более агрессивную борьбу, – еще несколько месяцев. Холодная, промороженная земля еще не покрылась пылью, и красные гранаты из Кандагара по-прежнему с треском лопаются на придорожных лотках.
Шофер Азиты старается не слишком приближаться к афганскому полицейскому транспорту, зеленым пикапам «форд-рейнджер», битком набитым одетыми в синюю форму полицейскими, автоматы которых торчат из окон во все стороны. Афганские полицейские входят в число самых популярных мишеней{20}, подрывников-самоубийц и самодельных взрывных устройств. Полицейских, патрулирующих Кабул, убивают почти вдвое чаще, чем военных – к тем труднее подобраться близко. В глазах инсургентов и те и другие – предатели, работающие на правительство, поддерживаемое иностранцами.
Раннее утро – когда убежденность в мученичестве и перспектива ожидающих в раю девственниц{21} все еще свежи – любимое время для нападений террористов-смертников, поскольку плотное дорожное движение обещает им в награду высокую результативность, в смысле числа смертей.
Азита согласна с популярным в Афганистане аргументом: уж коли пришло твое время – значит, оно пришло. Когда это будет – решать Аллаху. Она не может каждое утро по дороге на работу размышлять о том, настал ли этот момент. Азите и ее шоферу и раньше случалось оказываться на расстоянии считаных секунд от взрыва.
Она ежедневно идет на риск, просто делая шаг за порог своего дома. Азита получает в среднем по два анонимных письма в неделю с требованием покинуть парламент (или каким-либо другим требованием) – а иначе быть готовой поплатиться жизнью. Они приходят и в офис, и на домашний адрес. Стремясь избежать этих угроз и неудобств, она регулярно покупает SIM-карты для своего мобильного телефона, чтобы поменять номер, но ей продолжают звонить. Ее преступления очевидны: она – женщина, которая смеет служить в парламенте, а также видный символ неоднозначного, поддерживаемого Западом правительства.
Эти угрозы стали обычным делом. Иногда она спорит с тем, кто ей звонит, читая ему лекцию о том, что Коран не поощряет убийств. И всегда ее собеседником бывает некий он. «Мы знаем, что тебе наплевать на собственную жизнь, но подумай о своих детях», – сказал он ей однажды. Однажды угроза сопровождалась звуком выстрела из огнестрельного оружия. В тот единственный раз, когда Азита попыталась сообщить об угрозах в полицию, ей посоветовали «не беспокоиться». В конце концов, прибавил полицейский, они мало что могут сделать.
Были и непосредственные покушения на ее жизнь: годом раньше двое мужчин на мотоцикле пытались забросить ручную гранату в сад ее дома в Бадгисе. Граната взорвалась, ударившись о внешнюю каменную стену. Когда Азита выбежала из кухни, она обнаружила дочерей, прятавшихся в углу маленького садика.
Политики побогаче ездят на бронированных машинах в окружении вооруженной охраны, снабженной рациями. У тех, кто вовлечен в нелегальную, однако процветающую торговлю маком (Афганистан – крупнейший в мире производитель опиума{22}), обычно есть и машина сопровождения, чтобы увеличить шансы на спасение в случае попытки похищения. Азита не может позволить себе ничего большего, чем «тойота королла» с водителем, который приклеил на приборную доску маленькую стеклянную бутылочку – святую воду из Мекки. Она помогает ему сосредоточиться; даже те, кто внезапно разворачивается на дороге на 180 градусов или мчится по встречной, не удостаиваются сигнала его клаксона.
Какое-то время, в самом начале своей карьеры, Азита нанимала телохранителя, поскольку несколько коллег указали ей, что всегда приезжать без сопровождающего-мужчины было бы неприлично. Но телохранитель имел привычку задремывать, стоило ему только куда-нибудь присесть, и Азита его уволила. Как и всем прочим членам парламента, Азите выдали пистолет для самозащиты. Не имея никакого намерения им пользоваться, она спрятала его где-то в своей квартире. И частенько напоминает себе, что должна найти его раньше, чем это сделают дети.
В машине она достает телефон и пытается открыть на маленьком дисплее веб-сайт Си-эн-эн, но с афганскими нестабильными сетями далеко не уедешь.
Тогда она смотрит в окно, на торговцев, которые неторопливо толкают свои тележки к рыночной площади, на мотоциклы, на которых чудом удерживаются как минимум двое, а то и трое-четверо седоков, защищая лица от кабульского белесого от пыли воздуха платками, обернутыми вокруг головы, на идущих парами афганок, обутых в сандалии с носками, держащихся за руки и перепрыгивающих через открытые сточные колодцы.
На здешних улицах не так уж часто увидишь настоящий белый цвет, да и новых вещей не так уж много, если не считать только что сошедших с конвейера «лендроверов», которые доставляют сюда для иностранцев и богатых афганцев. Рано или поздно (и чаще рано) большинство поверхностей обретают оттенок глины или хаки. Хаки и цемент – основные краски Кабула, в их монотонности выделяются только дома торговцев маком, выкрашенные в разбавленный сливочным красный, теплый розовый или даже зеленый с проблесками украшенных кисточками пастельных штор – обманчиво жизнерадостная кабульская «наркотектура».
Зелень здесь – редкость: большинство деревьев погибло от загрязнения среды или было порублено на дрова обездоленными бедняками. Порой в кабульскую серость еще просачивается матовый красный – в красках старой фрески или в очередном материальном напоминании о тех, кто пытался контролировать столицу до Талибана и до американцев.
Для Азиты «русская эпоха», как она ее называет, не была той затяжной и жестокой борьбой, какую рисуют англоязычные мемуары о временах, именуемых в среде афганцев «советской войной» 1980-х. Для нее это были декорации вполне очаровательного детства.
Ее отец был членом крупного, но небогатого семейного клана и стал первым, как говорят, жителем провинции Бадгис, который учился в Кабуле и получил диплом магистра. С этим отличием он вернулся в свою родную провинцию, чтобы жениться. Он впервые увидел мать Азиты, Сиддику, когда той было всего 12 лет, и, согласно семейной легенде, влюбился в нее с первого взгляда.
Они семь лет ждали, чтобы пожениться, и в 1977 г. родился их первый ребенок, любимая и долгожданная дочка. Родители назвали ее персидским именем, производным от слова азар – «огонь». Вскоре после празднования первого дня рождения Азиты семья вернулась в Кабул, чтобы строить свою жизнь, и оказалась там как раз ко времени «Саурской революции», когда коммунистическая народно-демократическая партия{23} взяла в свои руки власть в Афганистане.
При идеологической и финансовой поддержке Москвы{24} новые лидеры объявили о начале решительных реформ, поставив задачу заменить религиозное законодательство более светской системой{25}, пропагандируя государственный атеизм и насильно пытаясь построить более современное общество. Каждый сектор бизнеса и каждый официальный институт предстояло капитально реконструировать, от сельского хозяйства и юридической системы до здравоохранения и семейного права – самое сомнительное начинание.
Русские были не первыми, кто пытался добиться гендерного равенства в Афганистане, – не останутся они и последними. Еще Аманулла-хан в 1920-х годах стремился утвердить права женщин{26}, выступая заодно со своей женой, королевой Сорайей{27}, которая знаменита своим дерзким поступком – она сбросила вуаль на публике. Царственная чета начала развивать образование для девочек, запретила продажу девушек для брака[3] и наложила ограничения на многоженство. Откат оказался жестким. Многим афганцам, и в особенности за пределами столицы, эти реформы казались возмутительными: племенные мужчины лишились бы будущих доходов, если бы дочерей нельзя больше было продавать или выменивать как невест. В 1929 г. под угрозой военного переворота король был вынужден отречься от престола.
Три десятилетия спустя король Мухаммед Захир-шах предпринял еще одну, более осторожную, попытку поспособствовать образованию и эмансипации женщин, внеся предложение даровать им равные права в конституции 1964 г.{28}, а также право голосовать. Привилегированных афганок посылали за границу учиться в университетах, откуда они возвращались, чтобы становиться профессионалами и учеными.
Арлин Ледерман, американка, специалист по развитию, которая преподавала в Кабульском университете в начале 1970-х, вспоминает «волнующее время», когда женщины афганской элиты отличались даже большей утонченностью, чем большинство их либеральных сестер-американок. Женщины кабульской королевской семьи, которые носили плащи, солнечные очки, косынки и перчатки от Эрме, «могли бы сойти за подруг Джеки Кеннеди в осенний день в Бостоне», замечала она.
Этот прогресс в среде небольшой группы женщин, принадлежавших к элите, был явлением значимым, но он коснулся только Кабула и горстки других крупных городов. В остальной части страны удел женщин мало изменился.
Зато когда в 1980-х по стране масштабной волной прокатились реформы коммунистической эпохи, они не ограничивались маленьким кружком кабульской элиты. В ту новую эпоху женщины и девочки переставали жить в затворничестве: они получали обязательное образование{29}, свободно выбирали, за кого им выходить замуж и быть ли активными участницами нового общества. После того как многочисленная группировка советских войск прибыла в страну, чтобы поддержать шаткий кабульский коммунистический режим, тысячи русских, приглашенных правительством на работу, тоже стали приезжать в Кабул, чтобы помогать в реализации идеализированного плана Москвы по созданию нового Афганистана.
Агрономы, инженеры, сотрудники гуманитарных организаций, учителя и архитекторы начали осуществлять широкомасштабные гуманитарные проекты под руководством советских специалистов. Эти программы были нацелены на преобразование всей страны – и преобразование быстрое. Советское руководство, гордившееся тем, что построило идеальное, превосходящее другие общество у себя дома, поначалу не придавало особого значения историческим параллелям или неудачам других своих предшественников.
Одной из четко определенных целей было дать образование и рабочие места множеству женщин. Эта идея была здравой: только обретя реальную силу в экономике, женщины имели бы возможность получить реальные права и ликвидировать неравенство. Увы, исполнение ее со временем показало себя столь же тщетным, как и предыдущие попытки, – понимание глубоко укоренившейся патриархальной экономики в сельских областях пришло постепенно и с опозданием.
Однако в Кабуле состоялись назначения нескольких афганок чиновницами и парламентариями. Другие женщины начали работать врачами и журналистами, шли служить в полиции и армии, стали юристами. Формировались союзы и ассоциации, и время от времени женщины становились во главе этих организаций. В столице была запрещена сегрегация в ресторанах и общественном транспорте.
В этом прогрессивном окружении семья Азиты заняла положение в верхнем слое среднего класса. Отец ее преподавал географию и историю в университете и со временем вложил заработанные деньги в небольшой магазинчик, торгующий писчебумажными принадлежностями, сухофруктами, орехами и другими хозяйственными товарами. Поняв, что у дочери есть талант к языкам, он купил ей маленький телевизор, чтобы она смогла смотреть государственные новости, транслировавшиеся на русском языке, и со временем она начала частями переводить их родителям. Когда о способностях Азиты узнали учителя, они стали отличать девочку как особенно талантливую ученицу.
И тогда она была избрана для особой цели.