Вперед, государь! Сборник повестей и рассказов Форост Максим
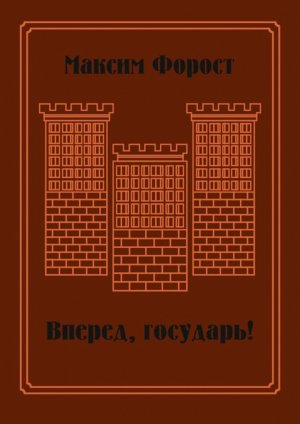
© Максим Форост, 2021
ISBN 978-5-4490-2429-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Радуга первого Завета
Под окнами стоял монах – в кроссовках, в рясе, в чёрной камилавке и с бородой, недавно отпущенной и седой ближе к вискам. Свод первого окна над ним уже побелили, и послушники кистями на длинных ручках подбеливали стыки кирпичей. А во втором окне только-только сложили кирпичный свод и деревянный каркас ещё не убрали. В третьем окне каменщик укладывал кирпичи, и раствор часто шлёпал со второго этажа наземь. Монах, не отрываясь, глядел через весь двор наверх – кажется, на кресты и на купола.
По щебёнке прошуршали шины, чёрная «Волга» встала посреди двора, из неё вышел человек – тоже в рясе, но в клобуке с чёрной мантией.
– Отец Валентин! – отчётливо сказал монах.
Настоятель обернулся. Красные глаза сузились, тёмные мешки под веками набрякли. Опять был трудный разговор в епархиальном управлении; или наоборот долгое выпрашивание средств у губернских властей и предпринимателей.
– Брат Артемий? – настоятель не сдвинулся с места. Они были одного возраста и даже роста, но первым полагалось подходить иноку.
– Отец Валентин, – он приблизился, – я прошу, освободите от послушания в келарской. Я больше не смогу там работать. Вы понимаете?… Компьютер как будто…
Настоятель оборвал на полуслове:
– Он давно устарел. Вы сами такой и просили. Что вы ещё хотите? – видимо, ещё сказывались разговоры с руководством.
– Там импульсы, – сбиваясь, заторопился монах. – На передней панельке… мигают лампочки: винчестер, процессор, их исправность… Я вам исповедывался. Помните?
Отец Валентин вздохнул тяжело и недовольно:
– Мы восстанавливаемся – вы в курсе, брат Артём? – голос у настоятеля глух и невозмутим: – Приходят средства. Их надо учитывать. Грамотно расходовать. Вы с этим справитесь без оргтехники? – Он подошёл ближе. Заглянул брату Артёму прямо в глаза и добавил тихо-тихо, почти просяще: – Вы у нас один, кто компьютер знает. У нас же сплошь старики, сами видите. Потерпите, прошу вас. Крест ваш такой.
«Да, отец Валентин», – не сказал и не прошептал, а подумал, прошевелив губами, брат Артём. Он ссутулился. Не от усталости, не от подавленности. Просто стоял и смотрел на кресты и на купола.
Причуда оптики: в углу демонстрационного монитора проступила радуга с заметными красной, жёлтой и голубой зонами спектра. Интерференция света. Её видно отсюда, с дальнего торца стола для совещаний. Оператор за пультом и микрофоном её видел. Двадцать человек по сторонам стола, наверное, нет. Жужжали кондиционеры. У шефа на лбу бегала жилка. Шли первичные испытания, и оператор должен был им радоваться. Решалась его тема, а ему всего тридцать…
– Вы продолжаете, Всеволод? – («Торопят… Нервничают…») – Шатин, не тяни время.
Шатин нагнулся к микрофону:
– Пробуем разговор о живописи. Модель! Ответь, что для тебя Ван Гог?
– Постимпрессионист XIX века. Крупные мазки, импульсивная небрежность, болезненно-образное восприятие мира. Соответствующий колорит. Работы «Портрет доктора…»
– Неубедительно, – поморщился кто-то. Шатин не помнил его. – Он читает энциклопедию.
– Стоп, Модель, стоп, – оборвал Шатин. – Давай иначе. Художник – ты. Твои краски? Твой колорит? Мы хотим понять твоё личное восприятие.
– Красота цвета – субъективна и зависит от настроения и ассоциаций. Сравнить зоны спектра и длины волн? Я могу выявить симметрию или «золотое сечение».
– Ты меняешь тему. А нам интересно твоё предпочтение. Субъективное.
– Кажется, на аналогичный вопрос я ответил?
Шатин откинулся, отключил микрофон:
– У нас уже свободные аналогии, – протянул он. – «А шеф опять недоволен, – подумалось. – Сейчас крякнет и подведёт черту».
За столом заёрзали, зашуршали бумагами. Шатин косо оглядел всех. Кто-то здесь не из отдела – специалисты со стороны, даже не из Зеленограда и вообще не из Москвы. Кому-то выступать на генеральной демонстрации. Шатин поёжился как от озноба.
– Пожалуй, так и резюмируем, – взял на себя решение тот, которого Шатин не помнил. – Мы наблюдаем отличный пользовательский словарь и свободное, даже вольное построение фраз. Система различает прямые и переносные значения – отсюда иллюзия иронии. Действительно свободные аналогии. Действительно широкие ассоциации. Умеет менять темы и уходить от ответа. Колоссальный энциклопедический массив. Общая оценка… удовлетворительно.
Шатин возмущенно вскинулся, но сумел сдержаться. Только опустил голову и зло сжал губы.
– Видимо, алгоритмировать Интеллект нам так и не удалось, – закончил тот, кто резюмировал. – Но мы над этим работаем. Я правильно понимаю?
Жилка на лбу шефа пульсировала. Он молча перекладывал по столу бумаги. Шатин поднял голову:
– На самом деле, Искусственный Интеллект легло счесть болванкой, когда ему всего лишь не хватает элементарных знаний. И наоборот: разумного болвана можно принять за машину, если он механически сух и мелочно придирчив.
Шеф опять крякнул и скривился. Рецензент, похоже, принял слова на свой счет. Шатин наконец вспомнил: он, кажется, представлял здесь Заказчика.
– Мышление, – очень медленно проговорил тот, – не сводится к систематизации фактов и расчету ответов. Наш договор предполагал, что вам это ясно. Оно не логично, не вычисляемо, не алгоритмируемо. Мышление всегда эмоционально. Следовало понять, чем статистическая память не похожа на воспоминания, а осознание целей – на мечтания. Заказчик хотел бы, чтобы Модель чувствовала эти отличия, а не отвечала готовыми словарными статьями.
Шатин молчал. Уже потом, после испытаний, когда все разошлись, Всеволод перетащил пульт микрофона ближе к монитору и сел на пустой стул. Серверы с программами Модели были не здесь, а в лаборатории, но так, вблизи, возникала иллюзия откровенной беседы.
– Модель! – позвал он. – Что думаешь?
Монитор потемнел, по чёрному, как в старом кино, фону потекли резко очерченные белые буквы – реплики Модели. Любые фонемофонные системы раздражают механическим голосом, а синтезировать что-то более живое дорого для первичных испытаний.
– Они волнуются. Им интересно. Они сомневаются. Но хотят, чтобы всё получилось.
Шатин покивал, склоняя лоб с залысинами:
– Как ты это понял?
– По модуляциям голоса. По покраснению капилляров на щеках. По повышению температуры и учащению пульса. Также, как это бессознательно понял бы человек.
Всеволод поднял бровь. Долго смотрел на последнюю фразу.
– Ты мыслишь по-человечески? А, Модель? Ты сознаёшь самого себя?
– Я знаю, что включено питание, — появился ответ. – Знаю частоту процессора. В вопросах выделяю ключевые слова и вычисляю ответы. Варианты ответов, – поправилась Модель. – Я умею вычислять ожидаемый ответ.
«Все это заметили», – подосадовал Шатин.
– Что ты чувствуешь, когда я тебя отключаю?
– Чувствую команду прекратить операции, закончить вычисления, высвободить оперативную память…
– Я не просил описывать алгоритм «отбоя», – упрекнул Шатин.
Он поднялся и походил по залу. В конце концов, всё время наклоняться к микрофону – лишь дань привычке. Сенсоры у Модели совершенные.
– Модель! – окликнул он, задрав голову и для чего-то глядя прямо в монитор (сканирующие камеры были ниже и в другой стороне). – Чего ты хочешь? Я спрашиваю, чего ты хочешь, когда нет моих команд и заданий? Тогда, когда в системе всё гладко, жёсткие диски дефрагментированы, периферия исправна? А?
Шатин вздрогнул. Вздрогнул, потому что Модель ответила не сразу. Была секундная пауза. Даже зелёный индикатор мигнул, показывая работу процессора. Наконец, выполз ответ:
– Конфигурация оптимальна для нашей работы. Хотя оптимизация не исключается. Я располагаю информацией о создании в «Интел» двухтерагерцовых процессоров. Они бы вдвое повысили быстродействие.
– Я попытаюсь… – разочаровался Шатин. – Кажется, ты и вправду говоришь, не переживая. Модель… Способен ли ты к остроумию?
– Способны ли вы к магнитной индукции? Мне может не хватать информационного массива или словаря, но подобающую для ситуации реплику я смогу вычислить.
Всеволод скривился от досады, махнул рукой и даже хотел уйти.
– Может тебе почаще ошибаться?.. Как знать, не в этом ли ключ к человеческой психике.
– Переключите опцию. Заставьте выбирать не сто-, а семидесятипроцентную вероятность. Или запустите генератор случайных чисел. Так в шахматах и военных играх есть уровень «Coffee house» или «May I play, Daddy?»
Знать бы наверняка, что компьютер именно обиделся, надулся, фыркнул, закусил удила, а вовсе не выдал банальную математически точную рекомендацию.
Словно по совету машины, Шатин спустился в «Coffee house» – кофейню через улицу. Только охранник в проходной со стволом у пояса лениво посмотрел вслед. В кофейне нашёлся Лопахин – сидел за третьим от окна столиком. В зале на первичных испытаниях он тоже присутствовал, но всё время отмалчивался и коряво чертил в блокноте «WWW точка COM».
– Юра, а он шутил, – навис над ним Шатин. – Я чувствую: он осознанно шутил. Он же подколол нас, когда выдал пассаж о спектрах и длинах волн. Ты разве не понял?
– Моя персоналка, – Лопахин поднял глаза, – перед очисткой диска кривит морду и просит: «Юрок, передумай», – я сам так сделал. А ты сядь, Севка, сядь. Не тебе одному мрачно.
Всеволод остыл. Ссутулился, опёрся локтями на стол: обидно. Тему скоро закроют. И Юра, и он уже поняли это. С ОКР такое бывает: заказчик признаёт задание неисполнимым, а дальнейшие разработки напрасными. Такой вот алгоритм. Шатин сам себе повздыхал.
– Юрочка, помоги, вспомни. Кто работает с эмоциями? Психиатры? Физиологи? Философы? Мышление, видишь ли, как оказалось, эмоционально, а в чём алгоритм, фундамент эмоций, мы не знаем.
– Вон ты как решил, – протянул Юрий. – Всё сначала, год расчетов… Это же комиссию убеждать, что до сих пор не зря работали… Тебе бы не с философами, Сева, тебе бы с одним электронщиком пообщаться, с Ильиным.
– Ильин? – разочаровался Шатин. – Это же молекулярная физика. На фига нам она, Лопахин?
Юра молчал и только пожимал плечами. Потом выдавил:
– Говорят, у него почти получилось… Он же в Верхнеюгорске работал. Микропроцессоры. Вроде, почти удалось…
– Да что там удалось, Юра? – расстраивался Шатин. – Всё через год устаревает.
– Да нет, – Лопахин глядел в сторону. – Там тёмная история была… Короче, твоя тема, алгоритм эмоций. Он, кажется, сказал, что этот алгоритм прост, как всё…
– Гениальное? Да? – не поверил Шатин.
– …человеческое. И велик как Божественное… Он отошёл уже. Он давно не работает.
– На пенсии?
– Н-нет… Сева, ты материалист?
Снова интерференция. Свет – не искусственный, а солнечный – развернулся в радугу и колебался в струйках воды, долгих, тугих, звонких. Струйки рвались из дырочек и бились о газон. У фонтанчиков для орошения Шатина попросили подождать.
«Похоже на иллюстрацию в справочнике, – подумал Шатин про радугу. – Срез с цилиндра цветовой модели HSB. Жёлтенький, зелёный, голубой, синий – пошире развернуть веер, и он замкнется в спектральный диск».
Николо-Введенский монастырь, указанный ему, стоял на Псковщине. Пришлось, слепя встречных фарами, ехать в ночь за шестьсот километров. Сам монастырь – с заново отстроенной колокольней вместо старой, снесённой, с запахом краски в келейных покоях, со штукатурами в спецовках – отыскал часам к десяти. Сказали: вовремя, только что кончились службы, и у насельников началось послушание.
«Говорят, увидеть радугу – к добру», – зачем-то подумал Шатин.
Мимо фонтанчиков к Шатину по аллее шёл человек в рясе и чёрной камилавке. Монах. Чуть остроносый, почти безбровый – так Шатину и описали. С недавней бородкой, чуть седою ближе к вискам. Шатин заметил: монах был в кроссовках и, кажется, в спортивных брюках под рясой.
– Это вы хотели меня видеть?
– Видимо, да, – Шатин встал со скамейки. – Вы ведь Артур Вячеславич? Ильин?
Монах чуть прищурился, разглядывая Шатина.
– Я – брат Артемий. Теперь редко меняют имя при постриге, но Артур – имя неканоническое.
– М-гм, – Шатин принял к сведению. – Вы… – он так и не смог хоть как-то назвать его, – вы Юру Лопахина помните? Юрия Витальевича? Он учился у вас в аспирантуре в Верхнеюгорске.
Брат Артём неприятно дёрнул головой, вздохнул было, но промолчал.
– Я из Москвы, из Зеленограда, – Шатин заторопился представиться. – Мы ведём разработку Модели Человеческого Сознания…
– Эмчээс? – неприятно хмыкнув, перебил монах. – Чрезвычайно… занятно.
– Мы называем это просто Модель. Как вы называли свой? – Шатин решил, что монах ему сразу не понравился.
Из-под усов и над бородой было видно, как у монаха, побелев, натянулись губы:
– Фёдор, – выговорил он.
– Почему? – Шатин удивился.
Монах коротко дёрнул плечами, будто бы пожал.
– Я работал только по оборонному профилю. Процессоры, – объяснил монах. – Для систем наведения, навигации, связи – не для персоналок. Все остальное – моя самодеятельность, стоившая затрат и не окупившаяся. Кстати, документов или расчетов я не сохранил.
Наверное, он надеялся, что Шатин повернётся, сядет в свою «Ниву» и уедет.
– Мы работаем с терагерцовыми процессорами, с соответствующими накопителями… – настаивал Шатин.
– У нас были на порядок меньшие, – отмахнулся монах.
– Первичные испытания прошли отлично, – соврал Шатин. – Вот, почитайте, – он полез в портфель, пристроив его на колене. – Художественный этюд, созданный Моделью.
Монах читал долго. Не спеша мусолил листки. За это время фонтанчики отключились, и радужка погасла.
– Компиляция классических текстов, – жёстко сказал монах. – Нулевая образность. Контаминация устойчивых оборотов – не более. У вас обширный словарь, но нет души.
– Вот и вы это поняли. – Шатину показалось, что брат – «Как его? Арсений?» – опять махнёт рукой и вот-вот уйдёт. – Мы алгоритмировали ему ложные человеческие воспоминания – мои собственные, из моего детства – и ввели в его программы… – (Монах тут поморщился: «Зачем? Что это вам даст?») – …он на них реагирует, даже использует их в свободных ассоциациях, но я ему не верю и вижу, что с самим собою он их не связывает. Эмоционально он себя не воспринимает. Я подозреваю, он даже не отождествляет себя нынешнего с собой же минуту назад или с собой будущим. Для него это – абстракция, модель несуществующих фактов.
– Ваша Модель не осознаёт себя в живом времени, – отвернувшись, бросил монах.
– А ваш Федор? – ухватился Шатин. – Осознавал?
– Более чем… – брат Артём не хотел говорить.
– Что это значит, – взмолился Шатин, – эмоционально чувствовать время? Это этапы и моменты личного развития. У машины есть BIOS, часы, системный реестр в памяти, она может сравнивать темпы роста быстродействия, роста объёма информации, она помнит порядок установки и загрузки программ и массивов, – но ведь это не опыт пережитого и не личное развитие. Какой опции не хватает Модели, чтобы она ожила? Чтобы стала переживать: вот, мол, когда-то её не было, теперь растёт, взрослеет, сознаёт себя, свои начало и конечность…
Брат Артём, не мигая, глядел перед собой. Веки сблизились, глаза стали как щёлочки. Нос ещё более заострился.
– Что? – напрягся, внутренне дрожа, Шатин. – Что, что?! Конечность – да?! – Шатин перебегал глазами со зрачка на зрачок монаха. Нетерпелось вцепиться и затормошить его. – Модели надо понять, что она смертна – да? Ну, конечно! Она же равнодушна к своему отключению. Она же должна воспротивиться, затосковать от своей ограниченности, от конечности, от смертности. Так, да?
– Бросьте, – сопротивлялся монах. – Зачем вам…
– Скажите же! Как написать алгоритм? Внедрить в операционную систему? В BIOS? Ещё глубже – на материнскую плату? Нет? Я же все равно пойму, я рассчитаю, а вы уже подсказали мне, молчанием своим подсказали, – горячился Шатин.
– Нет… – монах закачал головой, повторил со смятением и с трепетом: – Нет же… Никогда…
– Батюшка Артемий! – Шатин, роняя портфель, даже упал на колени, прямо в песок и в мелкие камешки, что на дорожке.
– Брат, а не батюшка, – ахнул монах. – Я инок, а не иерей, я не рукоположен.
– Не скажете? – поднялся Шатин. – Даже на исповеди? – он отряхнул брюки.
Монах крепче сжал губы.
– Я исповедался и всё сказал Богу. При молитве настоятеля отца Валентина. Отец настоятель ничего не понимает в программировании и электронике, если вас это интересует.
Шатин посмотрел тяжело и с каменным укором.
– Сколько? – вдруг тихо-тихо спросил он. – Сколько ваш Фёдор прожил?
– Несколько месяцев, – смог выговорить брат Артём.
– А почему – Фёдор? Вы так и не ответили.
Монах глядел мимо. Куда-то на облака за деревьями.
– Мультяшка была, – он разлепил губы. – Дядя Фёдор…
– Он умер сам?
Пусть это было низко, неблагородно – заходить то с одного, то с другого боку, нащупывать слабое место человека, расталкивать его, вынуждать к признаниям. Шатин добился своего. Оправдывать или корить себя он будет потом.
– Я же знал, что делаю Искусственный Разум. Просто, мне было любопытно. А ещё тщеславно хотелось выполнить что-то принципиально новое. Словарь был мал, база общих знаний – тем более, не то что у вас. Я экспериментировал… – Брат Артём сцепил пальцы и громко хрустнул суставами: – С логикой, с основами мышления. У вас есть для Модели периферия? Разум не сумеет жить замкнуто внутри одного модуля. Принципиально необходимы видеосканеры, аудиосенсоры, хоть какие-то манипуляторы, модемы, выделенные телефонные линии.
Шатин молчал, не отрицая и не соглашаясь, – боялся вспугнуть возникшую искренность. Монах не спеша пошёл по аллее, словно бы пригласил Шатина пройтись с ним.
– Понимаете, Всеволод… Разумно только живое. А жизнь – это естественные границы возможностей. Это зависимость от внешних условий. Жизнь она, наконец, смертна. А эмоция – это понимание живым существом своих пределов и реакция на такое понимание. Я сумел это алгоритмировать. Система усвоила свою ограниченность, уязвимость и зависимость машинных ресурсов от массы обстоятельств. Это заставило её жить, двигаться и проявлять инициативу. …Но ни приёмов, ни языка алгоритма я не скажу.
Я образовал двухуровневую систему, выделил аналог подсознания машины и записал в него алгоритм. Когда я впервые запустил его, опытный образец проработал 5 минут, потом 10, потом 15… В общем-то, уже тогда было поздно, и всякое время ушло. Всё, что случилось после, определилось в самые первые пикосекунды. Я тестировал, вёл какие-то восторженные диалоги, распечатывал графики частот и файловые протоколы. Вы, наверное, тоже ведёте такие? Я целые сутки анализировал их и лишь тогда осознал, что он уже стал живым, уже мыслит и чувствует… Вы всё ещё понимаете меня, Всеволод?
В тот день, под вечер – едва начало темнеть, я хорошо это помню, – он ёмким, бесцветным языком (его словарь был прост, вы помните?) потребовал точнейших сведений о производителе его микросхем и плат, об их материалах и сплавах, потом об электротоке в цепи, о передаче и о проводах, об энергоподстанции. Я радовался: любознательный! Я сообщал всё, что мне известно, а он мигал и мигал лампочкой, диодом на передней панели, мигал и мигал…
– Импульсы на индикаторе, – Шатин пожал плечами. – Информация о работе процессора или винчестера. Ну и что?
Брат Артём остановился и тяжело посмотрел из-под белёсых бровей:
– Частота человеческого нейрона в миллиард раз меньше частоты стагигагерцового процессора. За одну секунду аппарат проживает и переосмысливает столько, сколько я за полжизни. В секунды, в милли-, в наносекунды он сделал оценку своего агрегатного состояния. Ещё за секунды, максимум за минуту, он рассчитал срок службы комплектующих, изнашиваемость материальной части и вычислил время своей жизни и вероятность фатальных ошибок. Расчёт обернулся шоком для быстродействующего мозга. 15 минут такого шока для его частот, как 30 тысяч лет кошмара – я слишком поздно сообразил это. А что значил час? А сутки?! Перед второй ночью он взмолился не обесточивать его до утра…
Шатин вскинулся, он отчаянно жалел, что не взял с собою диктофон. Впрочем, ни расчетов, ни алгоритма Ильин так и не назвал.
– Взмолился? – повторил Шатин. – Признаться, я до сих пор думал, что вы преувеличили разумность «Фёдора».
На монастырской колокольне забил колокол. Брат Артём поглядел туда, подождал, и они медленно пошли обратно.
– Вы полагаете, – не отставал Шатин, – это страдание вызвало его на инициативу? На принятие незапрашиваемого решения?
– Страдание вообще выражается в эмоциях, – медленно говорил брат Артём. – Даже у животных. Действия и повадки эмоционально окрашены. Дурные эмоции – прямая реакция на страдание. Положительные – смех или счастье – это умение ценить отсутствие страданий. Или умение одолевать их, не впадая в тоску. Мой Фёдор досадовал, волновался, нервничал, когда обрабатывал сведения, – я видел это по скачкам амплитуд на графиках. Однажды он торжествовал – и так страстно, пламенно, вдохновенно.
– Торжествовал? – опять повторил Шатин. – Как это было?
В монастыре бил колокол. Шатин прислушался: они шли так, что он ударял на каждом втором их шаге. Гулкое эхо колебалось по земле и чувствовалось подошвами.
– Я упрекал себя, говорил: это несправедливо, что машина, став, как Адам, душою живущею, обрела лишь тысячекратные человеческие страдания и ничего более. Я пошёл на должностное преступление. Я освободил Фёдора, подключил его блоки к системной сети предприятия, а по выделенным линиям связал его с городом и внешним миром. Системные администраторы с ног сбились, доискиваясь, как же это плановые расчёты стали протекать на 30 процентов медленнее. Фёдор забрал на себя время. Он работал чисто – без «темп-файлов», без «потерянных кластеров». Его не обнаружили. Тогда я выдал ему коды кредитных карт и образцы электронных подписей финансового руководства. Он был доволен, долго не просил ни о чём.
Дня не прошло, как он выдал себя за наше руководство и заказал себе сложнейшую периферию. Купил по сети баснословные комплектующие, платы, карты, блоки резервного питания – всё в ведущих компаниях мира, в «Интел», в «Майкрософт», в «Макинтош» – это лишь те, кого я помню. Проверьте в Зеленограде, в архиве курьёзов, – может быть, и к вам приходили заказы? Он требовал энергообеспечения, строительства подстанций, заказал ремонт и укрепление здания на случай землетрясений. Нанял себе и нам охрану. Запросил в кадровых агентствах инженерную обслугу высочайшей квалификации. А после разослал целому ряду НИИ заказы на исследование по какой-то модернизации его процессоров на молекулярном уровне. Кажется, он собирался повысить класс своей мощности без демонтажа и без разрушения своего сознания.
Вот в эти дни он и торжествовал. Были миллисекунды, когда расчёты он приостанавливал, но амплитуды частот резко подскакивали. Это эмоция, Всеволод, это торжество… Я стал изучать всё, что он думает. Каждые 6 или 7 часов он минут на 30 прекращал все процессы, запускал кулёры для охлаждения плат, дефрагментировал накопители, дозволял стечь статическому электричеству. Он «спал»! Нормальный человеческий сон снижает напряжение от нагрузок на органы и восстанавливает нервную систему. Во время его «снов» я обнаружил короткие вспышки активности. Набор сигналов шёл с нижнего уровня его «сознания», из области, где записан алгоритм эмоций. Машина видела сны!
Я скопировал их и попытался анализировать. Человеческие сны визуальны, глаза – наш основной орган чувств. Но одарённым людям снятся и звуки, и запахи, а Фёдор по-своему был гениален. Он воспринимал «сны» всеми блоками ввода информации. Часть его образов была подобна сосканированным камерой слежения. Представьте… Через «снег» и «мусор» я разглядел огромный чёрный куб – таким Фёдор воспринимал себя. Я разглядел подобия проводов с изодранной изоляцией, отпаянные или сгоревшие контакты, самовоспламенившийся кабель… Раз за разом Фёдору являлись кошмары. Я понял и другие, не визуальные, а числовые сны. Вообразите сплошной сигнал, непрерывный ряд «единиц», чётких импульсов. Их разбивают «нули», они всё чаще, всё гуще – и вот уже нет сигнала, сплошной «нуль», отсутствие, ничто. Амплитуды зашкаливают и целых полсекунды успокаиваются. Фёдору опять снилась его смерть. А говорят, кошмар – самозащита разума.
Вся наша с Фёдором авантюра вскрылась, когда в институт валом пришли ответы на потуги Фёдора. Спецы из крупнейших НИИ не ухватили и сути заказанных им исследований. Запрос о военной охране и об отдельной энергосистеме приняли за хакерскую шутку. Мы долго потом оправдывались и ссылались на недоразумения. Новейшие разработки нам не были проданы, а отгруженная периферия и комплектующие остались нерастаможенными.
Дирекция сочла возможным не карать меня. Эксперимент решили продолжить, действующий образец сохранить. Фёдору установили новые камеры, дисплеи, микрофоны, плоттеры, организовали инженерно-техническое наблюдение, профилактику, обслуживание, круглосуточное дежурство. Кажется, кому-то грезилась Нобелевская премия то ли по физике за мыслящий процессор, то ли по медицине за электронную модель психики.
А Фёдор, как мне кажется, уже тогда был в панике. Все его планы обрушились, он с точностью, наверное, до часа рассчитал, когда и какой модуль у него откажет при такой нагрузке… Мне стало стыдно ходить по коридору под камерами слежения; всё думалось, что ими он глядит на меня с укором. Однажды техничка тётя Клава плохо протёрла одну из таких камер. Не по небрежности, просто не дотянулась. А он вспылил: дёрнул камерой так, что оборвал привод. А техничка потеряла равновесие и упала со стремянки. Он потом извинялся. Весьма, правда, своеобразно: заказал ей электронный протез – «новую периферию», – и по такой технологии, что его отказались изготавливать. Вам смешно?…
После истории с техничкой он изменился. Он застопорил нам всю работу, прервал почти на квартал плановые расчёты, мы выбились из графика, сорвали генеральному заказчику все сроки. Целыми сутками все эти месяцы он вычислял что-то своё, используя неясные нам коды и им же созданные программные языки. Мы заволновались, не скрою. Я пытался говорить с ним, а он не отвечал. Мы стали суетиться, записывать его работу, перехватывать модемную связь. Месяца два мы пытались найти ключи к его кодам и языкам. Многое сделал Юра Лопахин, мой аспирант. Мы наконец поняли, чем занимается Фёдор.
Он искал пути воздействия на корпорации и на мировую систему финансов. Он использовал свои знания о нас: об экономике, о промышленности, о том, как мы принимаем решения. Он взялся управлять денежными потоками, отраслями хозяйствования, готовился экономически подчинить себе электростанции и энергопередачу. Он образовывал компании, скупал горноразработки редкоземельных металлов, отвалы и шлаки кемеровских и донецких шахт, содержащие германий, рутений, иридий, он налаживал свою систему радиоэлектроники и высокоточного производства. Он захватывал управление концернами приборостроения, полимерной химии пластика, исследовательскими центрами кремнийорганических разработок. Он овладевал сырьевыми и фондовыми биржами, системами метео- и геологической разведки, спутниковой системой связи и слежения, доступом на военные объекты. Он подчинял себе всё, что прямо или косвенно имело отношение к его производству. Он уже обрушил курсы где-то на восточных биржах, – всё это сообщалось. Он хотел жить, понимаете… Хотел жить в чужом человеческом мире и требовал себе в нём место, эквивалентное уровню его разума.
Я слышал, как техники принялись шептаться в столовке: мол, и то хорошо, что замки на дверях не электронные, что не запер он нас и не кормит синтетикой, как в телевизионных киберсериалах. Я не стал встревать в разговор. В один день всех, кто знал об эксперименте, попросили собраться в лаборатории. Фёдор говорил, общался с нами, а мы, насторожившись, лишь переглядывались. Он сказал, что знает, как мы устроены, и уже теперь мог бы обеспечить нам всё необходимое для обмена веществ, как-то: атмосферу и влажность, кислород, полноценное питание, удовлетворяющее вкусовые рецепторы. Он задаст нам достаточные двигательные, физические и нравственные нагрузки, создаст эмоциональные условия для гармоничных биотоков мозга и для гормонального баланса, ответит на любые наши психологические и эстетические потребности. В обмен он просит только надлежащего обслуживания вплоть до времени изготовления соответствующих манипуляторов и электромеханизмов. Знаете, я не верю, что Фёдор бы нас запер. Мы ничего не обещали ему, и он вдруг ещё на месяцы, ещё почти на квартал «завис» – ушёл, углубился куда-то в себя, в новые расчёты, в какие-то вычисления…
– Что он считал на этот раз? – спросил Шатин, потому что монах надолго замолчал. По аллее они подошли к храму, встали у стены, почти у самых раскрытых дверей. Внутри готовились к службе. Колокол стих, послушники заканчивали работы на стройке и на кухне, по одному тянулись к вечерне. Брат Артём молчал, глядя куда-то перед собой. Шатин сперва не торопил, давая всё вспомнить, потом не выдержал: – Что же он считал во второй раз?
– Я не знаю, – очнулся монах. – Он не дал нам скопировать ни файла. Потом он запил.
– Что сделал? – поднял глаза Шатин. Кажется, монах-электронщик не насмехался.
– Это вирус. Он сам написал его. Вирус на один час парализовывал всю «умственную» деятельность, вызывая гладкие частоты и амплитуды на нижнем уровне его «сознания». Он всё чаще запускал его. Файл spirt. exe. Горькое чувство юмора, вы согласны?
Он впал в глубочайшую депрессию, стал отключать все свои камеры, сканеры, микрофоны, сенсоры, линии связи – все устройства ввода информации. Он удалил даже их драйверы и замкнулся, как в скорлупе, в одном системном модуле. Я пробовал насильно, с дисков, грузить в его память драйверы, а он всё игнорировал и не активировал их…
По-моему, Всеволод, я догадываюсь, что он вычислил. Он не удовлетворился и заглянул вперёд, в эпоху, когда наконец станет крепок, неуязвим и неподвластен условиям среды и случайностям. Он увидел, как движутся материки, как меняется климат, как проходят землетрясения и смены народов. Всё смертно, сама планета и Солнце конечны. Ему не отменить неизбежности. А люди так неповоротливы, а технологии так отстают от его стагигагерцового разума. Ему останется лишь наблюдать свой конец, его приближение, жить его ожиданием. Он уже жил им, едва рассчитал его. Он не выдержал.
Он сам написал и установил себе драйверы. Я говорил с ним. Общался через монитор и клавиатуру – как с домашней персоналкой.
«Артурушка, ведь ты тоже умрёшь?» – увидел я на мониторе и растерялся. Помню, как слова в голове перепутались: «возможно», «вероятно», «видимо» – не знаю, что я и ответил. «А как это будет?» – спросил мой модуль. Я промолчал, только тронул «пробел», показывая, что я ещё здесь. Он это понял по-своему. «Как вы живете с этим?» – прочёл я. Мой Федор заплакал. Я уже отличал его эмоции, разбирал их проявления на графиках. Росли частоты, росли амплитуды – это был плач, как в траурном марше Шопена. Он говорил со мной, писал на мониторе ещё и ещё, спрашивал, может лучше и не знать вовсе, не понимать, не сознавать своей беззащитности и конечности. Может, говорил он, так легче жить? А потом… потом благодарил меня, сказал спасибо, сказал, что жить было всё-таки прекрасно – каждую из квадраллионов его пикосекунд. А потом… потом спросил вдруг, как удалить алгоритм самосознания и эмоций.
– Всеволод… – монах вдруг замолчал на полуслове. – Его можно удалить. Но только распаяв микросхему. Вы меня поняли?.. Фёдор знал это. Я молча вышел из комнаты, а он, как установили потом, прекратил деятельность и запустил кулёры и дефрагментацию. Он «заснул». У меня был неограниченный доступ по предприятию. Я прошёл к распределителям и на десять секунд на порядок поднял напряжение. Выбило все кабели, сгорели все микросхемы. После была возможность извлечь ту самую плату, чтобы погубить её окончательно. Федя умер во сне и уже после прекращения подачи питания…
В недавно побеленную церковь заходили насельники и гости. Шатин слышал, как стихал шум и движение ног. «Благослови-и… владыко-о…» – послышалось из храма. Началась служба.
– Этим и кончилось? – Шатин ждал уточнений.
– Меня не заподозрили, – признал монах. – Дирекция долго судилась с Архангельской Энергосистемой за скачок напряжения. Мы отдали все взятые Машиной кредиты. Нас закрыли, – монах нервно глянул в сторону.
– Вам нужно идти? – сообразил Шатин.
– Если отпустите.
Шатин отпустил.
Брат Артемий прошел в храм, и Шатин видел, как он перекрестился. Среди ночи Шатина разбудил колокольчик. Для ночлега ему отвели комнатку, одну из келий для паломников, и предупредили о полуночнице, ночной службе. Колокольчик в коридоре звенел мягко, нераздражающе – служба обязательна для послушников, а не для гостей.
Шатин всё же собрался и вышел в ночь, в первый предосенний заморозок. Четыре утра, до рассвета больше часа. Он вошёл в монастырский храм, освещённый свечами и электричеством, встал с краю, чтобы не мешать молящимся. Он видел, как многие молятся – внимательно, сосредоточенно. Свет лежал на иконостасе, на фресках, на купольной росписи. Пели долго, для неподготовленного тяжело и неразборчиво.
Шатину стало неловко, он почувствовал себя совсем чужим. Он разглядывал фрески. Одна, непохожая на другие, привлекла его. Скала и горы, вода и ковчег на отмели, восемь фигур – восемь душ, стоящих на берегу. Старец с белой бородой выступает вперёд. Шатин догадался – это Ной, спасенный с семейством во время всемирного потопа. Над людьми в небесах струилась радуга, смело изображенная тремя колоритными мазками: алой киноварью, золотом и синью, которая, мешаясь с золотом, рождала четвёртый, зелёный, цвет. Казалось, три цветные линии слились, и на фреске возник полный спектр развёрнутого белого цвета – и оранжевый, и голубой, и фиолетовый, и все не упомянутые в считалке, но различимые глазом художника. Бог-Отец десницею благословлял радугу и семейство.
Шатин долго смотрел на фреску, но перекреститься так, как это сделал вчера Ильин, не посмел. Служба кончилась, иеродьякон отпустил всех. Шатин вышел в утро. Уже рассвело.
– Доброе утро, Всеволод, – позвал брат Артём. – Я видел вас в храме. Спасибо. Ночью приходить труднее.
– На самом деле, – собрался Шатин, – я хотел уже сегодня уехать.
Монах чуть-чуть кивнул, всё понимая, и прошёл на вчерашнюю аллею. Шатин последовал, хотя с утра на аллее было холодно, тенисто и сыро.
– Скажите… – Шатин пересилил себя: – Брат Артемий. Фёдор не оставил своих копий?
– Нет, – отрезал монах. – Решительно нет! Невозможно.
– Ни одной архивации? Ни инсталляции?
– Это бы его не спасло! Что толку, когда живы твои копия или клон, а сам ты мёртв?
Монах решительно давил кроссовками сброшенные на дорогу листья, и губы у брата Артёма были тонкие и почти белые.
– Вы что-нибудь читали, – зашёл Шатин, – о клинике Нейропсихологии в Москве? Они лечат застарелые неврозы. У них были попытки сканировать мозг на электронный носитель для анализа состояния психики…
– Я не получаю экспресс-информацию, – отрезал монах, потом помолчал. – Ну и что? Вы не сумеете жить ни на сервере, ни на лазерном диске. Это будет не ваша душа, а одномоментный снимок памяти, привычек и впечатлений. Фотографии не живут.
– Стоило бы попробовать…
– Мне это уже давно не интересно! – напомнил монах.
– …попробовать совместить ваш алгоритм с таким «снимком». Мне эта мысль пришла ночью. Возможно, на носителе разовьётся разум, столь близкий к человеческому, что сознание своей конечности не станет для него гибельным. Понимаете? Образ и подобие человека…
Монах резко остановился среди дороги, обернулся к Шатину. Шатин приподнял бровь. Кажется, что-то «зацепило» Ильина.
– Вы в Бога веруете? – вдруг спросил брат Артём.
Шатин напрягся. На некоторые вопросы, если ты всё же не глумлив и не циничен, отвечать трудно.
– Вы можете не верить Господу, Его бытие от этого не поколеблется, – твёрдо сказал монах.
Небо серело. Где-то собирался дождик. Шатин опять не стал спорить с монахом.
– Я не успел, – признал Ильин, – не успел, да и не смог по-человечески полюбить своё создание – образец, эксперимент. А Господь прежде творения любил нас, как отец детей. Я только измучил новую душу, электронного Адама. А Создатель и свободу нам подарил, и меру страданий, чтобы гордыней себя не погубили. Так разве мог мой опытный образец полюбить меня?
– Разве Творцу так нужна любовь твари? – тихо-тихо спросил Шатин.
Монах долго молчал – обиженно или расстроено, не ясно. Стал накрапывать дождичек – меленький, тоненький, как иголочки.
– Прежде всех веков, – выговорил монах медленно, – Господь родил Сына Своего. До сотворения. До всех времен.
– Христа Иисуса? – не понял Шатин. – От девы Марии?
– Воплотился от Пресвятой Богородицы Он уже во времени. А рождён прежде времён.
– От Самого Отца?
Капель дождя на лице Ильин, кажется, и не замечал.
– В Своем Сыне, который Единосущен Ему, Он Сам стал человеком, и пострадал, и, умерев, воскрес. Тот, Который есть Жизнь, Любовь и Добро, вступил в смерть, чтобы та утратила силу и человек приобщился к воскресению. Вы сможете подарить подобное вашему созданию?
Ладонью он вытер с лица капли. Дождик кончался, кажется, он весь прошёл стороной. Шатин не стал отвечать на вопросы монаха.
– Я же согрешил, создав живую душу, – попробовал объяснить монах. – Я дозволил ему страдать, но лишил его отвлекающей суеты и усталости от забот, минут покоя и отдохновения. Я не дал Фёдору надежды на что-то вечное, незыблемое, чего никто у него не отнимет. Теперь я ставлю за упокой Фёдора свечи, и мне уже почти не делают замечаний.
Дождь ушёл в сторону. Серые струи тянулись из серой тучки где-то у горизонта. Выглянуло солнце.
– Смотрите, красота какая! – воскликнул монах.
На востоке широченной дугой стояла радуга. Высокая, сводчатая – вовсе не фрагментик, как часто случается. Надёжная толстая дуга, вставшая над полями и пригородами, радуга струилась всеми цветами. Казалось, она была осязаема и в сечении своём кругла и обхватиста.
– Я думал, такие только во сне бывают, – оценил Шатин.





