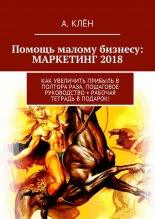Далекие Шатры Кей Мэри Маргарет

И они правильно сделали, что пошли на север: земля за ними горела, охваченная пожаром кровопролитного насилия. В Агре, Алипуре, Нимуче, Насирабаде и Лакхнау, по всему Рохилкханду, Центральной Индии и Бунделкханду, в городах и военных поселениях по всей стране люди поднимались против британцев.
В Канпуре Нана, приемный сын покойного пешвы, не признанный британскими властями, восстал против угнетателей и осадил прискорбно ненадежные укрепления англичан. А когда через двадцать дней оставшиеся в живых приняли предложение сдаться в обмен на охранную грамоту и сели в предоставленные им лодки, чтобы доплыть до Аллахабада, лодки были подожжены и обстреляны с берега. Тех, кому удалось добраться до берега, взяли в плен. Мужчин расстреляли, а около двухсот женщин и детей (все, что осталось от гарнизона, в начале осады насчитывавшего тысячу человек) заперли в маленьком здании – биби-гурхе, где позже всех зарубили по приказу Наны, а тела умирающих и мертвых бросили в ближайший колодец.
В Джханси та самая вдова раджи, о чьих горьких бедах писал Хилари в своем последнем докладе, – Лакшми-Баи, прекрасная бездетная рани, которую Ост-Индская компания лишила права усыновить наследника и обобрала до нитки, отняв наследство, – отомстила за несправедливость, истребив британский гарнизон, неразумно согласившийся сдаться в обмен на охранную грамоту.
«Почему люди мирятся с таким положением вещей? – однажды спросил Хилари Акбар-хана. – Почему ничего не предпринимают?» Лакшми-Баи, не прощающая обид, предприняла кое-что. Она отплатила за жестокую несправедливость, сотворенную с ней генерал-губернатором и советом Ост-Индской компании, деянием столь же несправедливым. Ибо не только мужчины, но и жены и дети тех, кто принял предложение сдаться в обмен на охранную грамоту, были связаны вместе и зверски убиты: дети, женщины и мужчины – в таком порядке…
Ост-Индская компания посеяла бурю. Но многие из тех, кому пришлось пожинать бурю, были так же ни в чем не повинны и сбиты с толку, как Сита и Аш-баба, подхваченные и несомые страшным ураганом, точно два беспомощных жалких воробушка в штормовой день.
3
Был октябрь, и листья уже начинали золотиться, когда Сита и Аш-баба достигли Гулкота, крохотного княжества у северной границы Пенджаба, где равнины постепенно сменялись предгорьями Пир-Панджала.
Путешествие затянулось, поскольку большую часть пути они проделали пешком (осла у них реквизировали какие-то сипаи в конце мая), а из-за жаркой погоды могли совершать переходы лишь в прохладные предрассветные часы или после захода солнца.
Упомянутые сипаи прежде служили в 38-м пехотном полку, который распался в тот день, когда туда прибыли совары 3-го кавалерийского полка из Мирута. Они возвращались домой, нагруженные награбленным добром, и поведали множество разных историй о восстании, в том числе историю о казни последних оставшихся в Дели фаранги – двоих мужчин и пятидесяти женщин и детей, – содержавшихся в тюрьме императорского дворца.
– Нам необходимо очистить страну от всех иностранцев, – пояснил рассказчик, – но мы, солдаты, отказались убивать женщин и ребятишек, уже полумертвых от страха и голода после многодневного заточения в темной камере. Несколько придворных тоже высказались против казни, – мол, убийство женщин и детей или любых других военнопленных идет вразрез с принципами мусульманской веры. Но когда Миза Маджхли попытался спасти несчастных, толпа потребовала его крови, и в конечном счете слуги правителя зарубили всех мечами.
– Всех? – пролепетала Сита. – Но… но чем дети-то виноваты? Неужто нельзя было пощадить хотя бы малышей?
– Вот еще! Глупо щадить детенышей змеи, – насмешливо произнес сипай, и Сита снова задрожала от страха за Аш-бабу: «змееныш» безмятежно играл в пыли всего в двух шагах от них.
– Истинно так, – согласился один из его товарищей, – потому что они вырастут и наплодят себе подобных. Мы правильно поступили, уничтожив тех, кто стал бы угнетать и грабить нас в будущем.
Затем он реквизировал осла, а когда Сита попыталась протестовать, сбил ее с ног ударом приклада мушкета. Второй же мужчина схватил Аша, бросившегося на обидчика подобно маленькому тигренку, и швырнул в терновые кусты. Когда Аш, весь в синяках, исцарапанный и оборванный, всхлипывая, выполз из колючих зарослей, Сита лежала без чувств на обочине, а сипаи с ослом уже удалились на изрядное расстояние.
Это был черный день для них. Оставалось утешаться лишь тем, что мужчины не позарились на узелок Ситы. Вероятно, им просто не пришло в голову, что среди вещей одинокой женщины и маленького оборвыша может найтись что-нибудь ценное, и они так и не узнали, что по меньшей мере половина монет, которые Хилари некогда держал в жестяной коробке под кроватью, хранилась в замшевом мешочке на дне узелка. Как только Сита очнулась и вновь обрела способность ясно мыслить, она достала деньги оттуда и положила к остальным, которые держала в складке широкого пояса из куска ткани, обмотаного вокруг талии под сари. Пояс стал тяжелым и неудобным, но там деньги находились в большей безопасности, чем в узелке, а поскольку осла у них отняли, ей так или иначе приходилось нести все на себе.
Похищение осла стало для них тяжелым ударом по причинам не только практического, но и сентиментального свойства. Аш нежно привязался к маленькому животному и печалился об утрате еще долгое время после того, как даже самые глубокие царапины на его теле зажили, не оставив о себе никаких воспоминаний. Но этот случай и рассказы сипаев вновь напомнили Сите об опасностях, подстерегающих на большаках между городами и крупными селениями. Разумнее было держаться троп для скота и крохотных деревушек, где жизнь текла размеренно и монотонно и куда редко доходили новости извне.
Время от времени слабое эхо отдаленной грозы доносилось даже до таких глухих цитаделей покоя, и тогда они слышали рассказы об израненных и умирающих от голода сахиб-логах, которые прятались в джунглях или среди скал и выползали из укрытий, чтобы вымаливать пищу у самых бедных путников. Однажды вслед за слухом об успешных восстаниях, поднятых по всему Ауду и Рохилкханду, пришло известие о мятеже и кровавой бойне в Фирозпуре и далеком Сиялкоте, и именно оно заставило Ситу отказаться от недавно возникшего и еще не вполне оформившегося намерения доставить Аша в Мардан, где находился брат его матери со своим Корпусом разведчиков. После того как полки в Фирозпуре и Сиялкоте тоже взбунтовались, на что теперь могут надеяться британцы любого военного городка в любом уголке страны? Даже если кто-нибудь из них и остался в живых до сих пор, что представлялось сомнительным, все они скоро погибнут – все, кроме Аш-бабы, который отныне был ее сыном Ашоком.
Сита никогда больше не называла мальчика иначе чем «сынок», и Аш принял такие отношения без всяких вопросов. Уже через неделю он забыл, что они начинались как игра и что прежде он называл Ситу не мамой, а как-то по-другому.
По мере того как они продвигались на север вдоль хребта Сивалик, слухи о мятежах и беспорядках становились реже, а люди все больше разговаривали о посевах, урожае и местных проблемах да обсуждали сплетни маленьких деревенских общин, для которых мир ограничивался окрестными полями. Нестерпимо знойный июнь закончился проливными дождями, когда над выжженными равнинами Индии пронесся муссон, превративший поля в болота, а все канавы и овраги – в полноводные реки, из-за чего покрываемое беглецами за день расстояние сократилось до минимума. Ночевать под открытым небом стало невозможно, приходилось искать пристанище на ночь – и платить за него.
Сита отчаянно экономила деньги, ведь они составляли неприкосновенный запас, который нельзя расходовать беспечно. Они принадлежали Аш-бабе, и она должна была сохранить что-нибудь к тому времени, когда он подрастет. Вдобавок существовала опасность произвести впечатление слишком богатой женщины и тем самым спровоцировать нападение и ограбление, а посему представлялось разумным тратить лишь самые мелкие монетки, причем только после долгого и упорного торга. А еще Сита купила ярд грубого домотканого холста, чтобы Аш укрывался под ним от дождя, хотя прекрасно понимала, что он предпочел бы обходиться без такой защитной меры и ходить с непокрытой головой и босиком. Бабушка Аша по отцовской линии была шотландкой с западного побережья Аргайлшира, и, вероятно, именно потому, что в жилах мальчика текла ее кровь, он с таким наслаждением подставлял лицо под хлесткие струи дождя. А может, просто-напросто он, как и все дети, любил шлепать по грязи и лужам.
От постоянного пребывания под дождем почти вся краска смылась с его тела, и кожа обрела прежний цвет, который сразу узнали бы Хилари и Акбар-хан. Однако Сита не стала обновлять краску. Теперь они находились близ предгорий Гималаев, а так как у горцев кожа светлее, чем у жителей юга (вдобавок у многих из них светлые глаза – голубые, серые, карие, – и рыжие или каштановые волосы здесь встречаются не реже, чем черные), ее сын Ашок не привлекал к себе внимания и на самом деле был даже малость смуглее бледнокожих индусских ребятишек, с которыми играл в деревнях по пути. Мучительная тревога за него постепенно отступала, и Сита больше не жила в вечном страхе, что он выдаст себя каким-нибудь неосторожным упоминанием о бара-сахибе и былых днях, поскольку мальчик, казалось, забыл о них.
Но Аш ничего не забыл. Просто он не хотел думать или говорить о прошлом. Во многих отношениях он был не по годам развитым ребенком: на Востоке дети созревают рано и становятся полноценными мужчинами и женщинами в возрасте, когда их ровесники на Западе еще учатся в старших классах школы. Все всегда обращались с ним как с равным, никто не окружал его тепличной атмосферой детской комнаты. Он имел полную свободу действий в отцовской экспедиции с тех пор, как научился ползать, и прожил свою короткую жизнь среди взрослых, которые в общем и целом относились к нему как к взрослому, пусть и привилегированному, потому что все любили его. Когда бы не Хилари и Акбар-хан, возможно, Аша избаловали бы. Но хотя методы воспитания у них были разными, они оба прилагали все усилия к тому, чтобы он не вырос испорченным неженкой: Хилари – потому, что терпеть не мог нытья и капризов и хотел, чтобы его сын с малолетства вел себя как разумный человек, а Акбар-хан – потому, что намеревался вырастить из мальчика великого полководца, за которым однажды солдаты пойдут на смерть, а баловством и излишним потворством такого не достичь.
Сита была единственным человеком, сюсюкавшим с ним и певшим ему детские песенки, ибо Акбар-хан рано внушил Ашу, что он мужчина и не должен допускать, чтобы с ним цацкались. Таким образом, песенки и сюсюканье оставались секретом, известным только Ашу и его кормилице, и отчасти именно потому, что у них двоих был такой секрет, мальчик принял необходимость держать в тайне многое другое и ничем не выдал их обоих в самом начале злосчастного путешествия в Дели. Сита велела никогда не заводить разговоров о бара-сахибе и дяде Акбаре или о походной жизни и обо всем прочем, что они оставили позади, и Аш подчинился как из-за потрясения и недоумения, так и из послушания. Стремительность, с которой разрушился привычный ему мир, и непостижимость причин, приведших к этому, были подобны черному омуту, куда он боялся заглядывать из страха увидеть там вещи, помнить которые не хотел, – ужасные вещи вроде сцены, когда дядю Акбара бросают в яму и засыпают землей, или вызвавший сильнейшее потрясение вид бара-сахиба, плачущего над свеженасыпанным холмиком, хотя сколько раз и он, и дядя говорили, что слезы льют только женщины.
Лучше повернуться спиной к подобным вещам и никогда не вспоминать о них, и Аш именно так и сделал. В настоятельных просьбах Ситы не было никакой необходимости: даже если бы она вдруг захотела, чтобы он заговорил о прошлом, вряд ли ей удалось бы вытянуть из него хоть слово. Однако она думала, что Аш все забыл, и радовалась, что у детей такая короткая память.
Главной ее заботой стали поиски какой-нибудь тихой заводи, достаточно удаленной от оживленных городов и торных дорог Индии, где никто и слыхом не слыхивал о таких событиях, как подъем или падение Компании. Какого-нибудь селения, достаточно маленького, чтобы ускользнуть от внимания людей, которые придут к власти, но достаточно большого, чтобы женщина с ребенком могли затеряться в нем, не возбудив чьего-то любопытства своим прибытием. Какого-нибудь места, где для нее найдется работа, где они обоснуются и начнут жизнь заново, где обретут покой, довольство и избавление от всех страхов. Ее родная деревня не годилась: там Ситу знают, ее возвращение станет поводом для различных догадок и расспросов со стороны ее собственного семейства и родственников покойного мужа, и правда неизбежно всплывет. Ради безопасности мальчика Сита не может пойти на такой риск, да и о самой себе нужно подумать. Ей вряд ли удастся скрыть смерть Даярама от его родителей, а как только об этом станет известно, Ситу заставят вести себя как подобает вдове, бездетной вдове, – нет худшей участи в Индии, где на вдовую женщину возлагается ответственность за смерть мужа, так как считается, что она навлекла на него несчастье своими дурными поступками, совершенными в прошлой жизни.
Вдова не вправе носить цветные наряды или украшения, она должна обривать голову и одеваться только в белое. Она не вправе снова выйти замуж и обречена до конца своих дней задарма ишачить на семью мужа, всеми презираемая в силу своего пола и всеми ненавидимая как человек, приносящий несчастье. Не приходится удивляться, что раньше, пока Компания не отменила такой закон, многие вдовы предпочитали стать сати и сгореть заживо на погребальном костре вместе с телом мужа, чем много лет влачить жалкое существование в рабстве и унижении. Но в чужом городе Сита сможет выдать себя за кого пожелает – и кто там узнает, что она вдова, или взволнуется по данному поводу? Она скажет, что муж подался на юг в поисках заработка или бросил ее и скрылся в неизвестном направлении. Какое это имеет значение? Она сможет ходить с высоко поднятой головой, как мать маленького сына, и носить яркую одежду и свои немногочисленные скромные украшения. А когда она найдет работу, то будет работать на мальчика и на себя, а не трудиться бесплатно на семью Даярама.
Несколько раз за месяцы, прошедшие со времени побега из Дели, Сите казалось, что она нашла нужное место – тихую гавань, где они закончат свои странствия и найдут работу и безопасность. Но каждый раз что-нибудь гнало женщину дальше: прибытие вооруженной шайки сипаев из какого-нибудь мятежного полка, рыщущей по стране в поисках беглых англичан; вид семейства изнуренных от голода фаранги, которые нашли приют у доброго селянина и которых гогочущая толпа выволакивает из укрытия и предает смерти; прохожий путник, щеголяющий в форме убитого офицера, или группа соваров, галопом проносящихся по хлебным полям…
– Мы когда-нибудь где-нибудь остановимся? – с тоской спрашивал Аш.
Июнь сменился июлем, а июль – августом. Пахотные угодья остались позади, а впереди были только джунгли. Но Сита и Аш хорошо знали джунгли. В тишине знойных влажных чащ они чувствовали себя в большей безопасности, чем в деревнях, и здесь они находили съедобные коренья и ягоды, воду и топливо, тень от палящего солнца и укрытие от дождя.
Однажды, следуя по звериной тропе через заросли высокой травы, они нос к носу столкнулись с тигром. Но огромный зверь был сыт и расположен благодушно. Обменявшись с незваными гостями долгим удивленным взглядом, он свернул в сторону и скрылся в траве. Сита стояла неподвижно пять долгих минут, покуда сварливое кудахтанье кустарниковой курицы ярдах в тридцати справа от них не указало, в каком направлении ушел хищник, а потом повернула назад и обошла то место стороной. Удивительно, что они не заблудились в простиравшихся на много миль диких чащах деревьев, пеннисетума и бамбука, среди скал и непролазных зарослей ползучих растений. Но здесь Сите помогло безошибочное чувство ориентировки, и, поскольку они двигались не к какой-то определенной цели, а просто на север, не имело особого значения, каким именно путем идти.
К концу августа они с трудом выбрались из джунглей и вновь оказались на открытой местности, а в сентябре дожди пошли на убыль. Снова нещадно пекло солнце, и каждый вечер тучи москитов поднимались от широко разлившихся джхилов, прудов и канав. Но впереди, на краю равнины, за предгорьями, вздымались над знойным маревом высокие голубые хребты Гималаев, и ночной воздух стал чуть свежее. В разбросанных далеко друг от друга селениях никто не слышал о восстании и кровопролитиях, ибо проходимых троп здесь осталось мало, а дорог так и вовсе никогда не было, и местность эта была малонаселенной. Деревушки состояли из нескольких хижин и нескольких акров возделанных полей, окруженных каменистыми пастбищными землями, которые простирались на много миль окрест и на юге граничили с джунглями, а на севере – с предгорьями.
В ясные дни впереди виднелись снежные пики, служившие Сите постоянным напоминанием о том, что время странствий истекает, что приближается зима и надо подыскать какое-нибудь жилье до наступления холодов. В такой местности, как эта, у нее было мало шансов найти работу и обеспечить Ашу хорошее будущее, и потому, несмотря на крайнюю усталость, до крови стертые ноги и бесконечную утомленность путешествием, она не поддалась искушению задержаться здесь. Они проделали длинный путь с того апрельского утра, когда покинули безмолвный лагерь Хилари и двинулись к Дели, и оба остро нуждались в отдыхе. И вот в октябре, когда листья уже начали золотиться, они пришли в Гулкот, и Сита поняла, что наконец-то нашла место, которое искала. Место, где они могут спрятаться и ничего не опасаться.
Независимое княжество Гулкот было слишком маленьким, слишком труднодоступным и вдобавок слишком бедным, чтобы представлять интерес для генерал-губернатора и чиновников Ост-Индской компании. И поскольку регулярная армия здесь насчитывала менее сотни солдат – в основном седых стариков, вооруженных тулварами да ржавыми джезайлами, – а правитель пользовался популярностью у народа и не выказывал никакой враждебности, Компания оставила его в покое.
Главный город, давший имя маленькому княжеству, находился на высоте примерно пяти тысяч футов над уровнем моря, в самой высокой точке огромного треугольного плато в предгорьях Гималаев. Гулкот возводился как укрепленный город, и здесь до сих пор сохранилась массивная стена, которая окружала тесное скопление домов, единственную главную улицу, тянувшуюся от Лахорских ворот на юге до Лал-Дарвазы – Красных ворот – на севере, три храма, мечеть и лабиринт узких переулков. Над местностью господствовал беспорядочно выстроенный дворец-крепость раджи Хава-Махал – Дворец ветров, стоящий на вершине могучей скалы примерно в тысяче ярдов от городских ворот.
Родоначальником правящей династии был вождь раджпутов[5], который прибыл на север в годы царствования Сикандара Лоди и остался здесь, чтобы основать княжество для себя и своих последователей. С течением веков княжество неуклонно сокращалось в размерах, и ко времени, когда Пенджаб перешел к сикхам с Ранджитом Сингхом во главе, оно представляло собой лишь несколько деревушек, разбросанных на территории, которую всадник мог пересечь в любом направлении за день. То, что оно вообще уцелело, по-видимому, объяснялось тем обстоятельством, что в настоящее время его границей с одной стороны служила река без мостов, а с другой – широкая полоса густого леса, тогда как на южных подступах к нему простиралась пустынная, каменистая, изрезанная глубокими оврагами местность, где правил родственник раджи, а сразу за ним складчатые лесистые предгорья вздымались ввысь, к белым пикам Дур-Хаймы и громадной заснеженной гряде, защищавшей Гулкот с севера. Двинуть войско на столь удачно расположенное со стратегической точки зрения княжество представлялось делом трудным, а поскольку в этом никогда не возникало необходимости, оно ускользнуло от внимания Великих Моголов, маратхов, сикхов и Ост-Индской компании и продолжало безмятежно жить своей жизнью в удалении от стремительно меняющегося мира XIX века.
В день, когда Сита и Аш прибыли туда, в древнем городе царило праздничное настроение: бедному люду раздавали дары из дворца в виде пищи и сластей по случаю рождения ребенка у старшей рани. Сие событие отмечалось скромно, так как родилась девочка, но горожане с радостью устроили себе выходной: пировали, веселились, украшали свои дома гирляндами и бумажными флажками. Мальчишки бросали патаркары – самодельные петарды – под ноги прохожим на запруженных народом базарах, а после наступления темноты в ночное небо взмыли тонкой струйкой фейерверки, распустившиеся пышным букетом над плоскими кровлями, где толпились женщины, точно стаи щебечущих птиц.
Ситу и Аша, привыкших за долгие месяцы странствий к тишине и одиночеству (или, по крайней мере, к скромному обществу обитателей крохотных деревушек), яркие краски, толкотня и гомон беспечных толп привели в неописуемое возбуждение. Они досыта наелись дарами раджи, полюбовались фейерверком и нашли наемную комнату в доме торговца фруктами, стоявшем в переулке близ базара Чандни.
– Мы останемся здесь? – сонно спросил Аш, пресыщенный лакомствами и впечатлениями. – Мне здесь нравится.
– Мне тоже, сынок. Да, мы здесь останемся. Я найду работу, и мы заживем счастливо. Одно лишь плохо…
Сита вздохнула и не закончила фразу. Ее мучили угрызения совести, ведь она не выполнила приказ бара-сахиба вернуть его сына к сородичам. Но Сита не представляла, что еще она могла сделать. Возможно, однажды, когда ее мальчик станет мужчиной… Но сейчас они оба слишком устали от странствий, и здесь они хотя бы находятся в горах – и в безопасности. Проведенные в городе час-полтора убедили ее в этом, ибо ни в разговорах на базаре, ни в болтовне праздношатающихся гуляк она не услышала ни слова о волнениях, сотрясающих Индию, и ни единого упоминания о мятежниках или сахиб-логах.
Гулкот интересовали только собственные дела и последние дворцовые сплетни. Город обращал мало – или вовсе никакого – внимания на события, происходящие в мире за его пределами, и в данный момент главной темой разговоров, помимо вечной темы урожая и налогов, являлось ослабление позиций старшей рани и усиление влияния наложницы по имени Джану, девушки-нотч из Кашмира, которая приобрела такую власть над пресыщенным правителем, что недавно он убедил себя жениться на ней.
Джану-Баи подозревали в занятиях черной магией. Как еще могла обычная танцовщица возвыситься до положения рани и занять в сердце раджи место матери маленьких принцесс, чья власть не оспаривалась по меньшей мере три года? Она слыла одновременно красивой и безжалостной, а пол новорожденного младенца служил очередным доказательством ее колдовской силы. «Она ведьма, – говорили жители Гулкота. – Конечно ведьма. Придворные говорят, что именно она приказала раздать голодным пищу и сласти по случаю рождения ребенка. Радуется, что это не мальчик, и хочет дать знать сопернице о своей радости. Теперь, если сама она родит сына!..»
Наслушавшись подобных разговоров, Сита исполнилась уверенности: никакая опасность не грозит здесь Ашоку, сыну саиса Даярама, который, как она сообщила жене торговца фруктами, убежал с бесстыжей цыганкой, предоставив ей самой кормить себя и ребенка.
В правдивости ее истории никто не усомнился, и позже она нашла работу в лавке, расположенной в лощине Кханна-Лал за храмом Ганеши, где стала вырезать из разноцветной бумаги и яркой ткани цветы, какие используются в гирляндах и для украшения домов во время свадеб и различных праздников. Платили Сите мало, но на самое необходимое им хватало. Она всегда была искусной рукодельницей, и работа пришлась ей по душе. Вдобавок она могла подрабатывать, плетя корзины для торговца фруктами и время от времени помогая ему в лавке.
Как только они вселились в свою комнатушку, Сита вырыла ямку в земляном полу и спрятала туда деньги, полученные от Хилари, а потом старательно притоптала землю и тщательно разровняла коровий навоз по всему полу, чтобы никто не заметил ничего подозрительного. На руках у нее оставалась лишь завернутая в промасленный шелк тонкая пачка писем и документов, которую она предпочла бы сжечь. Хотя Сита не могла прочитать бумаги, она понимала, что в них наверняка содержатся свидетельства происхождения Аша. Страх и ревность побуждали ее уничтожить документы. Попадись они кому-нибудь в руки, Аша, скорее всего, убьют, как убивали детей сахиб-логов в Дели, Джханси, Канпуре и десятках других городов, да и сама она может поплатиться жизнью за попытку спасти мальчика. И даже если он избежит столь страшной участи, бумаги все равно докажут, что он ей не родной сын, а к настоящему времени эта мысль казалась Сите невыносимой. Однако она не смогла заставить себя уничтожить письменные свидетельства, ибо они тоже были неприкосновенной доверительной собственностью: бара-сахиб передал бумаги ей в руки, и, сожги она их, его призрак или его Бог разгневается на нее и отмстит за такой поступок. Лучше было сохранить их, но так, чтобы они никогда никому не попались на глаза. А коли их сожрут термиты, в том не будет ее вины.
Сита выскребла небольшое углубление внизу стены в самом темном углу комнатушки, засунула туда пакет и замаскировала тайник так же, как недавно замаскировала тайник с деньгами: замазала отверстие глиной и коровьим навозом. И, только покончив с этим делом, она почувствовала, что невероятная тяжесть свалилась у нее с плеч и что Аш теперь поистине принадлежит ей.
Серые глаза и румяные щеки мальчика не привлекли ничьего внимания в Гулкоте: многие подданные раджи были родом из Кашмира, Кулу и Гиндукуша, да и сама Сита была горянкой. Аш подружился с сыновьями и внуками местных жителей и скоро уже ничем не отличался (для любого постороннего взгляда, но не для любящих глаз) от сотен непослушных базарных мальчишек, которые кричали, шалили и дрались на улицах Гулкота. И Сита успокоилась. Она по-прежнему верила тому, что сказали сипаи, встреченные по дороге: все англичане погибли и власть Компании навсегда свергнута. Дели находился далеко, а Гулкот граничил с Пенджабом, где сохранялось относительное спокойствие, и хотя время от времени по базарам проходили слухи о беспорядках и волнениях, они всегда были смутными, искаженными, сильно устаревшими и касались главным образом бедствий, постигших британцев…
Никто не говорил об армии, поспешно собранной в Амбале. Или о длинном переходе разведчиков (пятьсот восемьдесят миль от Мардана до Дели, покрытых за двадцать два дня в самый разгар лета), предпринятом для участия в осаде Дели; о гибели Николсона, о капитуляции последнего Могола и о смерти его сыновей, казненных Уильямом Ходсоном, командиром Ходсоновского кавалерийского полка. Никто не говорил о том, что осада Лакхнау продолжается до сих пор и что великое восстание, начавшееся с мятежа 3-го кавалерийского полка в Мируте, никоим образом не закончилось…
Шайтан-ке-Хава – Ветер дьявола – по-прежнему дул над Индией с ураганной силой, гибли многие тысячи людей, но здесь, в надежно укрытом Гулкоте, жизнь текла размеренно и мирно.
В том октябре Ашу было пять лет, и только осенью следующего, 1858 года Сита узнала от странствующего садху кое-какие сведения о событиях, происходящих во внешнем мире. Дели и Лакхнау снова захвачены британцами, Нана Сахиб бежал, а отважная рани из Джханси убита в бою, где сражалась до последнего, переодетая мужчиной. Компания низложена, но фаранги, по словам садху, снова пришли к власти, умножив свою силу против прежнего, и чинят жестокую расправу над всеми, кто сражался с ними в ходе великого восстания. И хотя Компания прекратила свое существование, вместо нее теперь правит белая рани Виктория. Вся Индия отныне стала собственностью британской короны, и ею управляет британский вице-король и британские войска.
Сита попыталась убедить себя, что садху ошибается или лжет. Ведь если он говорит правду, значит ей придется отвести Аша к англичанам, а подобная перспектива казалась неприемлемой. Это неправда, наверняка неправда. Она подождет, не станет ничего предпринимать, покуда не узнает все точно. А до тех пор нет никакой нужды делать что-либо…
Она прождала всю зиму, а весной пришли новости, подтвердившие все, что поведал ей садху. Но Сита по-прежнему бездействовала. Ашок принадлежал ей, она не могла отказаться от него и не собиралась отказываться. Было время, когда она могла сделать это, но тогда она еще не считала мальчика своим сыном. Кроме того, она ни у кого не отбирает этого ребенка: Ашок потерял обоих родителей, и если кто-нибудь на свете и имеет право на него, то лишь она одна. Разве не она любила и опекала малыша с самого его рождения? Разве не она извлекла его из материнской утробы и вскормила собственной грудью? Он не знает никакой другой матери и верит, что он ее сын, так что она никого не обкрадывает. Теперь он не Аш-баба, а ее сын Ашок, и она сожжет бумаги, спрятанные в тайнике, и ничего никому не скажет, и никто никогда не узнает правды.
В общем, они остались в Гулкоте и жили счастливо. Но Сита не сожгла бумаги Хилари. В последний момент страх перед возможной местью призрака бара-сахиба возобладал над страхом перед разоблачительными свидетельствами, содержавшимися в документах.
В городе снова пировали и пускали фейерверки – на сей раз по случаю рождения мальчика у Джану-Баи, в прошлом танцовщицы, а ныне фактической правительницы Гулкота, ибо она подчинила себе раджу настолько, что малейшее ее желание беспрекословно выполнялось.
Подданные раджи получили приказ праздновать рождение младенца – и праздновали, хотя и без особого воодушевления. Нотч не пользовалась популярностью у народа, и мысль о возможном принце, произведенном ею на свет, никого не радовала. Нет, ребенок не был наследником престола, ведь первая жена раджи, впоследствии умершая в родах, подарила своему супругу сына по имени Лалджи, то есть «возлюбленный», – ныне восьмилетнего ювраджа, в котором отец души не чаял и которым гордились все жители Гулкота. Но в Индии жизнь – штука ненадежная, и кто знает, доживет ли мальчик до взрослого возраста? Его мать за пятнадцать лет супружества родила девять детей, и все они, за исключением Лалджи (и последней мертворожденной девочки), умерли в младенчестве. Сама она скончалась при родах, и ее муж вскоре снова женился – на дочери чужеземца, прелестной юной девушке, получившей в Гулкоте прозвище фаранги-рани.
Отец фаранги-рани был русским наемником, поочередно служившим в войсках разных воюющих индийских князей. На службе у последнего из них, Ранджита Сингха, прозванного Львом Пенджаба, он значительно возвысился, а после смерти Ранджита благоразумно ушел в отставку, чтобы закончить свои дни в удаленном независимом княжестве Гулкот. Ходили слухи, будто в прошлом он был офицером казачьих войск, приговоренным к пожизненному заключению, но сбежал из тюрьмы и добрался до Индии через северные перевалы. Оставив службу в Пенджабе, он не выказывал ни малейшего желания вернуться на родину и жил в свое удовольствие на богатства, накопленные за десять лет пребывания на высоких должностях, вместе с компанией наложниц и своей индийской женой Кумаридеви, дочерью раджпутского князя, над которым одержал победу в бою и у которого потребовал дочь в качестве трофея, – они случайно встретились во время разграбления города и полюбили друг друга с первого взгляда.
Фаранги-рани была последним и единственным выжившим ребенком Кумаридеви, чье появление на свет стоило матери жизни. К тому времени некогда прекрасная принцесса превратилась в зрелую женщину, изнуренную выкидышами и рождением мертвых детей, что по большей части объяснялось бесчисленными тяготами походной жизни, поскольку Кумаридеви сопровождала мужа во всех военных походах. Ее дочь воспитывалась вместе с целым выводком незаконнорожденных единокровных братьев и сестер, и все они возликовали, когда слухи о ее красоте дошли до раджи Гулкота и он сделал предложение о браке, понимая, что ни о каком другом союзе не может быть и речи, так как со стороны матери она принадлежала к более царственному роду, чем его собственный.
Какое-то время фаранги-рани была счастлива. Никто из сводных братьев и сестер или их матерей не питал к ней особой приязни, и она с радостью покинула родной дом ради показного великолепия Дворца ветров. Враждебность женщин в Хава-Махале не слишком ее беспокоила: она привыкла к женским интригам, а раджа, влюбленный в нее до безумия, ни в чем ей не отказывал. И она не особо горевала, когда через год после свадьбы умер ее отец, никогда не уделявший большого внимания своему многочисленному потомству. Если фаранги-рани о чем-то и сожалела, то единственно о своей бездетности, хотя в отличие от чисто восточных женщин она не была одержима страстным желанием рожать детей и в любом случае не сомневалась, что это всего лишь дело времени. Но жадный интерес, зависть и торжество других женщин в связи с этим больным вопросом (а также злорадные намеки, что она, полукровка, бесплодна) уязвляли ее, и она уже начала беспокоиться и нервничать ко времени, когда наконец зачала ребенка – сына. Конечно сына, иначе и быть не могло.
До сих пор из всех женщин раджи только первая жена рожала сыновей, и из них выжил лишь один. Но одного сына для мужчины мало: у него должно быть много сыновей, дабы его род продлился, что бы ни случилось. Как женщина, занимающая главное положение во дворце и в сердце раджи, фаранги-рани почитала своим долгом родить мужу сыновей и очень обрадовалась, когда понесла. Но по какой-то причине – возможно, в силу своего чужеземного происхождения – фаранги-рани переносила беременность хуже, чем остальные женщины, и вместо того, чтобы расцвести и похорошеть, как они, с первых дней стала мучиться сильной тошнотой и приступами рвоты, быстро приобрела изможденный вид и землистый цвет лица и в считаные недели утратила свою красоту и жизнерадостность.
Раджа искренне любил фаранги-рани, но, как большинство мужчин, не находил удовольствия в обществе больных и увечных, а потому предпочел держаться от нее подальше в надежде, что она скоро оправится. К несчастью для нее, как раз в то время один из придворных министров устроил в честь раджи пир, где гостей развлекала труппа танцовщиц. Среди них была кашмирская девушка Джану, обольстительная чаровница с золотистой кожей и темными глазами, прекрасная и хищная, как черная пантера.
Джану была малого роста – по грудь радже – и имела легкую склонность к полноте. Но сейчас она была молода, и мужчинам, перед которыми она извивалась и раскачивалась под рокот барабанов и пение ситаров, танцовщица казалась живой копией тех сладострастных богинь, что улыбаются с фресок Аджанты или изваяны в камне на Черной пагоде в Конараке. Она в избытке обладала тем не поддающимся определению качеством, которое будущие поколения назовут словом «сексапильность», и была не только красива, но и умна; эти три своих бесценных достоинства она использовала с таким успехом, что уже через сутки прочно обосновалась во дворце, а через неделю всем стало ясно, что звезда фаранги-рани закатывается и появилась новая фаворитка, коей следует льстить и угождать, если желаешь снискать милость раджи.
Но даже тогда никому не пришло в голову, что это нечто большее, чем мимолетное увлечение, которое скоро пройдет, как проходили все остальные. И никто не принял никаких мер против нотч. Джану была честолюбива и с детства обучена искусству ублажать и развлекать мужчин. Она больше не довольствовалась подарками в виде пригоршни монет или какой-нибудь безделушки; она увидела свой шанс взойти на престол, разыграла свои карты – и выиграла. Раджа женился на ней.
Двумя неделями позже фаранги-рани разрешилась от бремени, но вместо сына, который смог бы отчасти восстановить ее утраченный престиж, она родила маленькую, невзрачную, бледную девочку.
– На большее она не способна, – презрительно сказала Джану-Баи. – Стоит только один раз посмотреть на нее, и сразу становится понятно, что такая бледная немочь никогда не станет матерью сыновей. Вот когда родится мой сын…
Джану ни минуты не сомневалась, что ее первым ребенком будет сын. И это действительно оказался сын, здоровый крепыш, каким гордился бы любой отец. В ночное небо взмывали фейерверки, осыпавшиеся над городом звездным дождем. В храмах ревели раковины и гудели гонги, и бедный люд пировал по случаю рождения нового принца, а среди прочих и маленький Ашок со своей матерью Ситой, чьи проворные пальцы сплели многие из блестящих разноцветных гирлянд, в тот день украшавших улицы.
Шестилетний сын Хилари и Изабеллы объедался халвой и джелаби, кричал и запускал патаркары с друзьями и жалел, что сын у раджи рождается не каждый день. Он не жаловался на жизнь, хотя Сита кормила его самой простой пищей и отнюдь не до отвала, а сласти, изредка ему перепадавшие, она чаще всего не покупала, а незаметно утягивала с какого-нибудь прилавка на базаре, рискуя быть пойманной и избитой разъяренным торговцем. Аш был сильным и рослым мальчиком, высоким для своего возраста и проворным, как мартышка. Спартанская диета бедняков не позволяла ему набрать ни унции лишнего жира, а каждодневные игры с друзьями в пятнашки на городских улицах и крышах – не говоря уже о налетах на базарные прилавки со сластями и фруктами и стремительных бегствах от погони – укрепили его мускулы и развили природную резвость ног.
На другом конце мира, в уютных детских комнатах высшего и среднего класса Викторианской Англии, пяти-шестилетние дети считались еще слишком маленькими для занятий более сложных, чем учить алфавит с помощью разноцветных кубиков да катать обручи под заботливым присмотром нянек. Но дети бедняков в таком возрасте уже трудились бок о бок с родителями на рудниках, фабриках и фермах – и в далеком Гулкоте Аш тоже стал зарабатывать на хлеб.
Ему едва исполнилось шесть с половиной, когда он начал работать подручным конюха в конюшнях Дуни Чанда, богатого землевладельца, имевшего в своей собственности дом рядом с храмом Вишну и несколько ферм в сельской местности за городской чертой.
Дуни Чанд держал лошадей, на которых наведывался на свои поля и ездил на соколиную охоту в бесплодную овражистую местность у реки, и в обязанности Аша входило носить зерно и воду, заботиться о сбруях и помогать во всех делах, начиная от косьбы травы и кончая чисткой животных скребницей. Работа была трудной, а жалованье скудным, но благодаря тому, что первые годы жизни мальчик провел среди лошадей, познакомившись с ними в самом раннем возрасте стараниями своего мнимого отца Даярама, он никогда не испытывал ни малейшего страха перед ними. Ухаживать за лошадьми Ашу нравилось, а несколько ан, заработанных своим трудом, придавали ему чувство собственной значимости. Теперь он мужчина и добытчик и может, коли пожелает, купить халвы у торговца сластями, а не красть лакомство. Это был первый шаг вверх по общественной лестнице, и Аш сообщил Сите, что решил стать саисом и накопить достаточно денег ко дню, когда они наконец отправятся на поиски своей долины. По слухам, Мохаммед Шариф, старший саис, зарабатывал двенадцать рупий в месяц – огромная сумма, в которую не входил дастори (взимаемый саисом сбор в виде одной аны с каждой рупии, потраченной на покупку продуктов, инструментов и снаряжения в конюшню), в два с лишним раза превосходивший собственно жалованье.
– Когда я стану старшим саисом, – важно заявил Аш, – мы переедем в большой дом и наймем слугу, чтобы он готовил пищу, и тебе никогда больше не придется работать, мата-джи.
Вполне вероятно, что Аш выполнил бы свой план и прослужил бы всю жизнь на конюшне у какого-нибудь мелкого вельможи, ибо, как только стало ясно, что он может ездить верхом на любом четвероногом, Мохаммед Шариф признал в нем прирожденного наездника, разрешил мальчику выезжать своих подопечных и научил его множеству ценных секретов, касающихся искусства верховой езды, так что год, проведенный на конюшнях Дуни Чанда, оказался для него очень удачным. Однако судьба, не без человеческого участия, распорядилась иначе, и падение старой выветренной плиты песчаника изменило весь ход жизни Аша.
Это случилось апрельским утром, ровно через три года после того далекого утра, когда Сита вывела Аша из ужасного, заполоненного стервятниками лагеря в Тераи и пустилась с ним в долгий путь к Дели. Юный наследный принц Лалджи, юврадж Гулкота, ехал по городу к храму Вишну, чтобы совершить там жертвоприношение. И когда он проезжал под аркой древних Чарбагских ворот, стоявших на перекрестке улицы Медников и базара Чандни, один из карнизных камней сорвался со своего места и упал на дорогу.
Аш стоял в первых рядах толпы, куда пробрался ползком, протискиваясь между ног взрослых, и краем глаза заметил движение наверху. Он увидел, как плита дрогнула и заскользила вниз, едва голова лошади ювраджа показалась из тени под аркой, и, почти не раздумывая (времени на размышление не было), прыгнул вперед, ухватился за уздечку и остановил испуганное животное за долю секунды до того, как тяжелый камень с грохотом рухнул на мостовую и распался на сотню острых осколков прямо под бьющими по воздуху копытами. Разлетевшиеся во все стороны осколки сильно поранили Аша, лошадь и нескольких зрителей, и кровь была повсюду: на горячей белой пыли, на праздничных нарядах толпы и на парадной попоне.
Зрители завопили и подались назад, а лошадь, обезумевшая от боли и шума, непременно понесла бы, если бы не Аш, который гладил ее по морде и ласковым голосом успокаивал испуганное животное, покуда ошеломленные солдаты из эскорта не бросились вперед и не окружили принца, выхватив у Аша поводья и оттерев его в сторону. Затем последовали несколько минут невероятной сумятицы, истерических криков, вопросов, ответов, пока солдаты оттесняли толпу назад и в ужасе таращились на обвалившийся карниз, а один седобородый всадник бросил Ашу монету – аж целый золотой мухур! – и сказал: «Браво, малыш! Отличная работа».
Убедившись, что никто серьезно не пострадал, толпа одобрительно заревела, и процессия двинулась дальше под исступленные приветственные крики. Юврадж прямо сидел в седле, сжимая поводья заметно дрожащими руками. Он с похвальной ловкостью удержался на взвившейся на дыбы лошади, но его маленькое лицо под украшенным драгоценными камнями тюрбаном было напряженным и бледным, когда он оглянулся через плечо, ища взглядом мальчика, по воле небес столь своевременно прыгнувшего к его лошади.
Какой-то незнакомый мужчина в толпе посадил Аша к себе на плечо, чтобы он видел удаляющуюся процессию, и несколько мгновений мальчики пристально смотрели друг на друга: испуганные черные глаза юного принца встретились с любопытными серыми глазами малолетнего конюшонка. Потом между ними нахлынула толпа, и через полминуты процессия достигла конца улицы Медников и скрылась за поворотом.
Сита была приятно поражена видом золотой монеты, а рассказ об утреннем происшествии произвел на нее даже еще более сильное впечатление. После долгого обсуждения они решили отнести монету Бхагвану Лалу, ювелиру, имевшему репутацию честного человека, и выменять на нее соответствующее количество серебряных украшений, которые Сита сможет носить до той поры, покуда им не понадобятся наличные деньги. Ни один из них не ожидал продолжения этой истории – если не считать неизбежных расспросов, похвал и поздравлений со стороны заинтересованных соседей, – но на следующее утро в дверь дома Дуни Чанда постучал тучный и надменный дворцовый чиновник, сопровождаемый двумя пожилыми слугами. Наследный принц, высокомерно объяснил чиновник, желает немедленно видеть этого жалкого щенка во дворце, где он получит жилье и какую-нибудь незначительную должность при его дворе.
– Но я не могу, – запротестовал Аш, охваченный смятением. – Мама не захочет жить одна, а я не могу ее бросить. Она не захочет…
– Желания твоей матери не имеют никакого значения, – грубо перебил его чиновник. – Принц требует, чтобы ты служил у него, и тебе лучше поторопиться и привести себя в надлежащий вид. Нельзя являться во дворец в таких лохмотьях.
Ашу пришлось подчиниться. Его отвели в лавку торговца фруктами, где он торопливо переоделся в единственный свой сменный костюм и успокоил обезумевшую от горя Ситу, велев ей не волноваться, поскольку он скоро вернется. Очень скоро…
– Не плачь, мама. Для слез нет причин. Я скажу ювраджу, что хочу остаться с тобой, а раз я спас его от увечья, он позволит мне вернуться. Вот увидишь. К тому же они не смогут удержать меня там против моей воли.
Уверенный в этом, он обнял Ситу на прощание и двинулся следом за слугами ювраджа – через городские ворота, а потом вверх к Хава-Махалу, дворцу-крепости раджи Гулкота.
4
К Дворцу ветров вела крутая дорога, вымощенная гранитными плитами, на которых многие поколения проходивших здесь людей, слонов и лошадей оставили свои следы. Камень холодил босые ноги Аша, бредущего за слугами ювраджа, и, взглянув на вздымающиеся над ним крепостные стены, мальчик вдруг почувствовал страх.
Он не желал жить и работать в крепости. Он хотел остаться в городе, где жили его друзья, хотел ухаживать за лошадьми Дуни Чанда и учиться уму-разуму у Мохаммеда Шарифа, старшего конюха. Хава-Махал казался местом мрачным и враждебным, а Бадшахи-Дарваза, Ворота падишаха, через которые он вошел, лишь усилили такое впечатление. Окованные железом огромные створы открылись в темноту. За ними, в тени каменной перемычки, праздно сидели часовые, вооруженные кривыми саблями и джезайлами. Мощеная дорога проходила под обшарпанным балконом, откуда на них смотрели черные пушечные жерла, а потом солнечный свет словно отсекло мечом, когда они вошли в длинный тоннель, по обеим сторонам которого теснились ниши, караульные помещения и коридоры, тянувшиеся вверх сквозь недра скалы.
Переход с теплого солнечного света в холодную тень и жутковатое эхо шагов под черными сводами усилили тревогу Аша. Оглянувшись через плечо на огромные ворота, в проеме которых виднелся город, нежащийся в знойном мареве, мальчик почувствовал искушение пуститься наутек. Внезапно у него возникло ощущение, будто он входит в тюрьму, откуда нет пути назад, и если он не убежит сейчас, сию же минуту, то навсегда потеряет свободу, друзей, счастье и всю свою жизнь проведет за решеткой, как говорящий скворец в клетке над дверью гончарной мастерской. Это была новая и пугающая мысль, и Аш задрожал словно от холода. Но проскочить мимо стольких часовых представлялось делом нелегким, и будет унизительно, если его поймают и приволокут во дворец силой. Кроме того, мальчику хотелось увидеть все, что находится внутри Хава-Махала: никто из его знакомых никогда не бывал во дворце, и ему будет чем похвастаться перед друзьями. Но о том, чтобы остаться здесь и работать на ювраджа, он даже думать не желает, и они сильно ошибаются, если полагают, что сумеют его заставить. Он перелезет через стену и вернется обратно в город, а если за ним опять придут, тогда они с мамой убегут подальше отсюда. Мир велик, и где-то далеко в горах укрыта их долина – безопасное место, где они заживут в свое удовольствие.
Тоннель круто повернул направо и вышел в открытый внутренний дворик, где находились еще несколько часовых и еще несколько старинных бронзовых пушек. Ворота на противоположной стороне вели в широкий четырехугольный двор, где в тени чинара стояли на привязи два слона раджи, а десяток болтающих женщин стирали белье в зеленой воде каменного водоема. За двором возвышалась громада дворца – фантастическая мешанина стен, парапетов с бойницами, деревянных балконов, украшенных резьбой окон, стройных башенок и резных галерей, которую от наблюдателей в городе почти полностью заслонял наружный бастион.
Никто не знал, когда была основана эта крепость, но, если верить легенде, она противостояла войскам Сикандара Дулхана (Александра Македонского), когда молодой завоеватель вторгся в Индию через северные перевалы. Однако главная часть современной цитадели была возведена в начале XV века неким атаманом разбойников, которому требовалась неприступная твердыня, чтобы совершать из нее налеты на плодородные земли за рекой и возвращаться обратно в случае опасности. В нынешние дни она носила название Кала-Кила – Черная крепость, но не из-за цвета, ибо была построена из твердого серого камня, составлявшего пласт обнаженной скальной породы, на котором она стояла, а из-за своей репутации, в высшей степени темной. Вождь раджпутского племени, впоследствии захвативший данную территорию, значительно расширил крепость, а его сын, построивший обнесенный стеной город на равнине внизу и ставший первым раджой Гулкота, превратил Кала-Килу в огромную, пышно украшенную резиденцию, благодаря своему расположению на значительной высоте получившую название Хава-Махал – Дворец ветров.
Нынешний раджа жил именно здесь, среди обветшалого великолепия затейливого лабиринта залов с персидских коврами, пыльными портьерами с золотым шитьем, настенными орнаментами из нефрита или чеканного серебра со вставками из рубинов и необработанной бирюзы. Здесь же, в роскошных покоях зенаны, за сквозными деревянными ширмами, отделявшими приемный зал от сада с розами и фруктовыми деревьями, обитала рани Джану-Баи – ее соперница, фаранги-рани, умерла от лихорадки, хотя иные считали, что от яда, прошлым летом. А в беспорядочном лабиринте комнат, занимавших целое крыло дворца, проводил свои дни маленький юврадж, более известный под своим «молочным» именем Лалджи, в окружении толпы слуг, мелких чиновников и прихлебателей, приставленных к нему отцом.
Когда Аша провели к Лалджи через многочисленные коридоры и прихожие, наследный принц Гулкота сидел с поджатыми ногами на бархатной подушке и дразнил взъерошенного какаду, который имел такой же мрачный и сердитый вид, как и его мучитель. Вчерашний великолепный парадный костюм уступил место узким муслиновым шароварам и простому полотняному ачкану, и в таком наряде мальчик выглядел гораздо моложе, чем вчера, когда восседал на белом жеребце в середине процессии. Накануне он выглядел истинным принцем с ног до головы, увенчанной лазурным тюрбаном с высоким плюмажем и сверкающей алмазной застежкой. А теперь это был просто маленький мальчик. Пухлый бледный ребенок, который казался не старше, а младше Аша на два года и был не столько сердит, сколько испуган.
Именно последнее обстоятельство успокоило и ободрило Аша, еще минуту назад объятого благоговейным трепетом. Он тоже порой искал спасения от страха за показным раздражением и потому сразу узнал чувство, явно скрываемое ювраджем от скучных взрослых, находившихся в комнате. Внезапно Аш проникся симпатией к будущему радже Гулкота. И почувствовал острое желание принять его сторону против толстокожих взрослых, которые кланяются столь почтительно и говорят такими фальшивыми льстивыми голосами, но сохраняют при этом холодное и хитрое выражение лица.
Вид у них не особо дружелюбный, подумал Аш, украдкой рассматривая присутствующих. Все они были слишком толстыми, холеными и самодовольными, а один из них – богато одетый щеголь с красивым порочным лицом, носящий бриллиантовую серьгу в одном ухе, – демонстративно приложил к носу надушенный платок, словно испугавшись, что этот городской щенок принес с собой запах нищеты и конюшен. Аш отвел от него глаза и низко поклонился принцу, поднеся сложенные ладони ко лбу, как требовал обычай, но при этом взгляд у него был дружелюбным и заинтересованным, и юврадж несколько просветлел лицом.
– Оставьте меня! – приказал юврадж своим придворным, отсылая их прочь повелительным взмахом царственной длани. – Я хочу поговорить с этим мальчиком наедине.
Щеголь с бриллиантовой серьгой низко наклонился к нему, схватил за руку и принялся горячо шептать что-то на ухо, но юврадж вырвал руку и громко и сердито сказал:
– Ты болтаешь вздор, Биджурам! Зачем ему нападать на меня, если вчера он спас мне жизнь? Вдобавок он не вооружен. Ступай прочь!
Молодой человек отступил назад и поклонился с покорной почтительностью, которая никак не вязалась с мерзким выражением, внезапно появившимся у него на лице. Аш был немало изумлен, поймав на себе взгляд, исполненный лютой злобы, совершенно несоразмерной с пустячностью повода. Очевидно, Биджурам не обрадовался полученному выговору и счел Аша повинным в пережитом унижении. Это было явно несправедливо, если учесть, что Аш не произнес ни слова, да и вообще не хотел являться во дворец, коли на то пошло.
Юврадж нетерпеливо махнул рукой, и мужчины удалились. Два мальчика смерили друг друга оценивающими взглядами. Но Аш продолжал молчать, и именно юврадж нарушил минутное молчание, наступившее после ухода придворных:
– Я рассказал отцу, как ты спас мне жизнь, и он позволил мне взять тебя в слуги. Ты будешь получать хорошее жалованье, и я… Мне здесь не с кем играть. Во дворце живут одни только женщины и взрослые. Ты останешься?
До сих пор Аш твердо намеревался отказаться, но сейчас он заколебался и неуверенно проговорил:
– Моя мать… Я не могу бросить ее, и вряд ли она…
– Это легко устроить. Она может тоже жить здесь и ухаживать за моей маленькой сестренкой, принцессой. Так, значит, ты ее любишь?
– Конечно, – удивленно ответил Аш. – Она же моя мать.
– Понятно. Везет тебе. А вот у меня нет матери. Она была рани, ты знаешь. Но она умерла, когда я родился, и я совсем ее не помню. Может, если бы она не умерла… Мать моей сестры Анджали тоже умерла – говорят, от порчи или от яда. Но, вообще-то, она была фаранги и постоянно хворала, так что, возможно, этой не пришлось прибегать к колдовству, или к яду, или к помощи… – Он осекся, быстро оглянулся через плечо, а потом проворно встал и сказал: – Пойдем отсюда. Давай выйдем в сад. Здесь слишком много посторонних ушей.
Посадив какаду обратно на жердочку, юврадж вышел через занавешенный портьерами дверной проем и прошел мимо кланяющихся слуг в сад с ореховыми деревьями, фонтанами и маленькой беседкой, отражающейся в пруду, полном водяных лилий и золотых карпов. Аш последовал за ювраджем. В дальнем конце сада, по краю отвесного обрыва высотой двести футов, спускавшегося к плато, тянулся низкий каменный парапет, а с трех других сторон возвышались стены дворца: ярус за ярусом резного дерева и камня, с сотнями окон, из которых открывался вид на город и далекий горизонт.
Лалджи сел на берегу пруда и принялся бросать камешки в карпов.
– Ты видел, кто столкнул камень?
– Какой камень? – недоуменно спросил Аш.
– Тот самый, что упал бы на меня, если бы ты не остановил моего коня.
– Ах, этот. Его никто не сталкивал. Он сам упал.
– Нет, его именно столкнули, – убежденно прошептал Лалджи. – Данмайя, моя няня… бывшая… всегда говорила, что если эта родит сына, она найдет способ сделать его наследником престола. А я… я…
Мальчик прикусил язык, не желая признаться, пусть даже другому ребенку, что он боится. Но непроизнесенное слово легко угадывалось по дрожи в голосе и неловкости рук, швыряющих камешки в спокойную воду. Аш нахмурился, вспоминая движение, привлекшее его внимание за секунду до того, как упал карнизный камень, и впервые задаваясь вопросом, почему он упал именно в тот момент и не человеческая ли рука столкнула его.
– Биджурам говорит, что я все выдумываю, – продолжил юврадж тихим голосом. – Он говорит, что никто не посмел бы. Даже эта не посмела бы. Но когда камень упал, я вспомнил слова своей няни, и тогда я подумал… Данмайя говорит, что я не должен никому доверять, но ты спас мне жизнь, и если ты останешься здесь, возможно, со мной ничего не случится.
– Я не понимаю, – произнес озадаченный Аш. – Чего тебе опасаться? Ты же юврадж, у тебя есть слуги и стражники, а однажды ты станешь раджой.
Лалджи невесело усмехнулся:
– Еще недавно так оно и было. Но теперь у моего отца есть другой сын. Ребенок этой… ребенок нотч. Данмайя говорит, она не успокоится, пока не добьется, чтобы он занял мое место: она хочет, чтобы трон достался ее сыну, и она крепко держит моего отца в руках… вот так. – Он сжал кулак с такой силой, что костяшки побелели, а потом разжал пальцы и уставился на камешек, лежащий на ладони. На его маленьком лице пролегли недетские резкие складки. – Я его сын. Старший сын. Но он сделает все, лишь бы угодить ей, и…
Его голос пресекся, и тихий плеск фонтана заглушил последние слова. Внезапно Аш вспомнил другой голос, принадлежавший почти забытому человеку, который давным-давно, в другой жизни и на другом языке, говорил ему: «В мире нет ничего хуже несправедливости. Быть несправедливым – значит поступать бесчестно». С ювраджем хотят поступить бесчестно, а следовательно, этого нельзя допустить. Необходимо что-то предпринять.
– Хорошо. Я останусь, – сказал Аш, героически отказываясь от беспечной жизни в городе и приятной перспективы дослужиться до старшего конюха у Дуни Чанда.
Беззаботные годы остались позади.
Тем же вечером он передал весточку Сите, и она тотчас извлекла из тайников деньги и маленький пакет с бумагами, увязала в узел скудные пожитки и отправилась в Хава-Махал. На следующее утро Ашу сообщили, что отныне он придворный ювраджа с ежемесячным жалованьем в целых пять серебряных рупий, а Сита получила должность служанки при маленькой дочери покойной фаранги-рани, принцессе Анджали.
По дворцовым меркам предоставленное им жилье было весьма скромным: три комнатушки без окон, одна из которых служила кухней. Но по сравнению с единственной комнатой в городе оно казалось верхом роскоши, а отсутствие окон возмещалось тем фактом, что все три двери выходили в маленький отдельный дворик, обнесенный восьмифутовой стеной и затененный ветвями сосны. Сита пришла в восторг от нового жилья и скоро стала относиться к нему как к настоящему дому, хотя ее печалило, что Ашок не может ночевать там. По роду своих обязанностей, состоявших главным образом в прислуживании ювраджу, Аш должен был спать в передней комнате, смежной с опочивальней принца.
Никто не назвал бы такую работу трудной, однако вскоре Аш начал находить ее довольно утомительной. Отчасти это объяснялось вспыльчивым характером и причудами юного хозяина, но в основном – происками молодого щеголя Биджурама, который почему-то страшно невзлюбил Аша. Лалджи называл Биджурама Биччху – Скорпион – или Биччху-джи, но больше никто не осмеливался обращаться к нему так, ибо он вполне оправдывал свое прозвище, будучи существом злобным и ядовитым, способным разъяриться и ужалить по малейшему поводу.
В случае с Ашем никакого повода и не требовалось. Биджурам явно получал удовольствие, всячески отравляя Ашу жизнь. Он никогда не упускал возможности посмеяться над мальчиком и сделал его мишенью бесчисленных злых шуток, призванных единственно причинить боль и унизить, а поскольку шутки обычно были не только жестокими, но и непристойными, Лалджи хихикал над ними, а придворные неизменно разражались подобострастным хохотом.
Лалджи часто находился в дурном расположении духа и всегда вел себя непредсказуемо, чему не приходилось удивляться, ведь до появления нотч он был избалованным любимцем всего дворца, все его прихоти и капризы беспрекословно исполнялись любящим отцом, обожающими обитательницами зенаны и льстивыми придворными и слугами. Его первая мачеха, очаровательная и добрая фаранги-рани, жалела маленького сироту и любила всем сердцем, как своего родного сына. Но ни сама она и никто другой никогда не пытались воспитывать его, и не приходилось удивляться, что прелестный пухлый младенец превратился в испорченного властного мальчика, абсолютно неспособного примениться к переменам обстановки во дворце, произошедшим, когда новая фаворитка родила сына, а фаранги-рани умерла. Внезапно юный юврадж утратил прежнюю значительность, и даже его слуги стали заметно менее угодливыми, а придворные, еще недавно лебезившие и раболепствовавшие перед ним, поспешили снискать милость новой притязательницы на власть.
Комнаты и слуги ювраджа приобрели неряшливый и запущенный вид. Теперь не все его приказы выполнялись, а постоянные предостережения преданной няни – старой Данмайи, которая нянчила еще его мать и последовала за ней в Гулкот, когда та отправилась туда в качестве невесты, – нисколько не облегчали переживаний юного принца и не улучшали положения дел. Данмайя с готовностью отдала бы жизнь за Лалджи, и вполне вероятно, она имела основания бояться за своего любимца. Но беспрестанные разговоры о возможных опасностях и неодобрительные высказывания о том, как невнимательно относится к нему отец, лишь усугубляли подавленное состояние мальчика и зачастую доводили его чуть ли не до истерики. Он не понимал, что происходит, и от этого испытывал скорее страх, нежели раздражение. Но гордость не позволяла ювраджу выказывать страх, и он нашел спасение во вспышках гнева, от которых страдали люди, прислуживавшие ему.
Несмотря на свой малый возраст, Аш многое понимал в сложившейся ситуации. И хотя понимание позволяло ему извинять многие выходки Лалджи, легче от этого не становилось. К тому же Аш был чужд всякого подобострастия, которого юврадж, за свою короткую жизнь привыкший к нему, ожидал от всех своих слуг, даже от пожилых мужчин и почтенных старцев. Поначалу Аш был сильно впечатлен значительностью наследника престола и важностью своих обязанностей, к которым он, как свойственно ребенку, относился отчасти серьезно, отчасти как к игре. К сожалению, близко узнав ювраджа, он вскоре почувствовал презрение к своему повелителю, а затем и скуку. Временами он ненавидел Лалджи так сильно, что убежал бы, если бы не Сита. Но он знал, что Сита здесь счастлива, а если он убежит, ей тоже придется покинуть дворец – не только потому, что он не может бросить ее здесь, но и потому, что Лалджи наверняка станет обращаться с ней дурно в отместку за его дезертирство. Однако, как ни странно, от побега Аша удерживала не только любовь к Сите, но и сочувствие к Лалджи.
У двух мальчиков было мало общего, и стать близкими друзьями им мешали самые разные причины: кастовая принадлежность, воспитание и окружение, наследственность и глубокая социальная пропасть, разделяющая наследника престола и сына простой служанки. Помимо всего прочего, играла роль разница характеров и темпераментов, а в какой-то мере и разница в возрасте. Впрочем, это как раз не имело особого значения: хотя Лалджи был старше на два года, рядом с ним Аш зачастую чувствовал себя взрослым, а следовательно, обязанным защищать слабого от злых сил, подспудное действие которых в громадном древнем дворце ощущали даже самые толстокожие.
Аш никогда не был толстокожим, и, хотя поначалу он счел предостережения Данмайи болтовней глупой старухи, ему не потребовалось много времени, чтобы изменить мнение. Пусть праздная, бессмысленная жизнь во дворце текла мирно и тихо, но за видимым покоем скрывались подводные течения интриг, заговоров и контрзаговоров, и в бесчисленных коридорах и укромных комнатах Хава-Махала шептал не один только ветер.
Продажность, злокозненность и алчность населяли пыльные дворцовые покои, таились за каждой дверью, и даже ребенок не мог не сознавать этого. Однако Аш не воспринимал все это достаточно серьезно до тех пор, пока не нашел случайно тарелку с любимыми пирожными Лалджи в маленькой беседке у пруда в личном саду ювераджа…
Лалджи гонялся по саду за ручной газелью, и именно Аш первым увидел пирожные и лениво покрошил одно из них в пруд, где жирные карпы жадно сожрали лакомый корм. Через несколько минут рыбы плавали вверх брюхом среди кувшинок, а Аш в ужасе таращился на них, не веря своим глазам: он понял, что они умерли, и понял отчего.
Обычно Лалджи не притрагивался к пище, пока блюдо не пробовал слуга, исполняющий обязанности дегустатора. Но найди он соблазнительные пирожные в беседке, то обязательно схватил бы и проглотил одно из них так же жадно, как карпы. Аш быстро отнес тарелку с отравленным лакомством к парапету в дальнем конце сада и швырнул вниз с обрыва. Пока пирожные падали, вращаясь в свете вечернего солнца, с высоты к ним устремилась ворона и подхватила на лету одно из них, а в следующий миг она тоже падала в пропасть безжизненным черным комком перьев.
Аш никому не рассказал об этом случае, хотя казалось естественным немедленно сообщить о происшедшем любому, кто станет слушать. Но слишком раннее знакомство со всевозможными опасностями научило его осторожности, и он посчитал, что об этом деле лучше помалкивать. Рассказав все Лалджи, он добьется лишь того, что страхи мальчика усугубятся, а старая Данмайя окончательно обезумеет от тревоги. И даже если будет проведено расследование, вне всяких сомнений, настоящего преступника не найдут и отвечать за все придется какому-нибудь ни в чем не повинному бедолаге. Благодаря своему опыту жизни во дворце Аш прекрасно понимал, что ни на какую справедливость рассчитывать не приходится, коли в деле замешана Джану-Баи, особенно с недавнего времени, когда она еще сильнее упрочила свое положение рождением второго сына.
Мальчику ни разу не пришло на ум, что упомянутым бедолагой может стать он сам или что пирожные в беседке могли предназначаться ему, а не ювраджу.
Поэтому Аш хранил спокойствие, ибо детям остается лишь принимать мир таким, какой он есть, и мириться с тем фактом, что взрослые всемогущи, если даже не многоумны. Он постарался выбросить из головы историю с пирожными и, приняв свое рабство в Хава-Махале как неизбежное зло, на данный момент неустранимое, покорился необходимости терпеть до времени, когда юврадж станет взрослым и перестанет нуждаться в его услугах. По крайней мере, теперь он ел досыта и ходил в чистой одежде, хотя обещанного жалованья так и не получал из-за ненасытности нотч, истощившей казну раджи до угрожающего предела. Но такая жизнь казалась ужасно скучной, пока не появился Туку, маленький мангуст, который стал наведываться в сад Ситы и которого Аш развлечения ради приручил и выдрессировал.
Туку был первым живым существом, всецело принадлежавшим ему. Хотя Аш знал, что безраздельно владеет сердцем Ситы, он не имел возможности общаться с ней, когда пожелает. У Ситы были свои служебные обязанности, и они могли видеться только в определенные часы дня. Но Туку постоянно следовал за ним по пятам или сидел у него на плече, ночью спал у него на груди, свернувшись клубочком, и мгновенно приходил на зов. Аш любил грациозного, бесстрашного зверька и чувствовал, что Туку понимает это и отвечает взаимной любовью. Эта дружба приносила Ашу глубокое удовлетворение и продолжалась более полутора лет – до того черного дня, когда Лалджи, утомленный скукой, изъявил желание поиграть с Туку, а затем принялся немилосердно дразнить зверька, за что и был укушен острыми зубами. Следующие две минуты были истинным кошмаром, воспоминание о котором неотступно преследовало Аша многие месяцы и так никогда и не стерлось из памяти.
Лалджи, укушенный до крови, завопил от страха и боли и приказал одному из слуг убить мангуста немедленно – немедленно! Слуга выполнил приказ прежде, чем Аш успел вмешаться. Единственный удар меча в ножнах перебил Туку позвоночник. Несколько мгновений зверек корчился в смертных муках и пронзительно визжал, а потом испустил дух – и в руках у Аша остался лишь безжизненный комочек меха.
У него в голове не укладывалось, что Туку умер. Всего минуту назад он распушал хвост и недовольно свиристел, рассерженный грубым обхождением Лалджи, а теперь…
– Не смотри на меня так! – в ярости воскликнул Лалджи. – Подумаешь, велика важность! Он просто животное, дикое, злобное животное. Видишь, как он укусил меня?
– Ты дразнил его, – прошептал Аш. – Это ты дикое, злобное животное!
Ему захотелось закричать, заорать, завопить во все горло. Ярость вскипела в нем, и, уронив тельце Туку на пол, он бросился на Лалджи. Это была не настоящая драка, а детская потасовка. Постыдная потасовка, в которой Лалджи плевался, пинался и визжал дурным голосом, пока дюжина слуг, вбежавших в комнату со всех сторон, не растащила мальчиков.
– Я ухожу, – задыхаясь проговорил Аш, пытаясь вырваться из крепкой хватки объятых ужасом слуг и испепеляя Лалджи ненавидящим взглядом. – Я не останусь с тобой ни минуты. Уйду сейчас же и никогда не вернусь.
– А я говорю, ты никуда не уйдешь! – провизжал Лалджи, вне себя от ярости. – Ты не уйдешь без моего позволения, а если попытаешься – убедишься, что не можешь. Я позабочусь об этом.
Биджурам, который в знак своей готовности защитить ювраджа выхватил длинноствольный пистолет, по счастью незаряженный, небрежно указал стволом на Аша и лениво проговорил:
– Вам следует заклеймить этого жалкого конюшонка, как клеймят лошадей или мятежных рабов. Тогда у него не будет возможности скрыться: в нем сразу опознают вашу собственность и вернут вам.
Возможно, он не рассчитывал, что принц отнесется к предложению серьезно, но Лалджи, ослепленный гневом и плохо соображавший, ухватился за него. Встать на защиту Аша оказалось некому, ибо, к несчастью, единственный придворный ювраджа, имевший на него хоть какое-то влияние, в тот день лежал в постели с приступом лихорадки. Прямо на месте дело было сделано, причем самим Биджурамом. В комнате находилась горящая жаровня, поскольку стояла зима и во дворце было холодно, и Биджурам, с обычным своим мерзким смешком, сунул ствол пистолета в докрасна раскаленные угли. Хотя Ашу тогда едва исполнилось восемь лет, потребовалось четверо мужчин, чтобы удержать его. Он был сильным и ловким мальчиком, а когда понял, что должно произойти, стал драться, как дикая кошка, яростно кусаясь и царапаясь, так что досталось всем четверым. Однако в исходе схватки сомневаться не приходилось, и сопротивление было бесполезно.
Биджурам намеревался выжечь клеймо на лбу, и это, возможно, убило бы Аша. Но Лалджи, несмотря на ярость, все же сохранил толику здравого смысла и понял, что отец может не вполне одобрить такой поступок, а поэтому лучше заклеймить Аша в таком месте, где отметина не привлечет внимания раджи. Биджураму пришлось удовольствоваться тем, что он прижал дуло пистолета к обнаженной груди жертвы. Раздалось шипение, запахло горелым мясом, и, хотя Аш поклялся себе, что скорее умрет, чем доставит Биччху удовольствие услышать свой крик, он не сумел сдержаться. Пронзительный вопль боли вызвал у щеголя очередной мерзкий смешок, но на Лалджи произвел неожиданное воздействие, пробудив в нем лучшие качества его натуры. Юврадж бросился к Биджураму и оттащил его назад, истерически крича, что сам во всем виноват, а Ашок совершенно ни при чем. В следующий миг Аш лишился чувств.
– Он умирает! – провизжал Лалджи, охваченный раскаянием. – Ты убил его, Биччху! Сделайте же что-нибудь! Пошлите за хакимом! Приведите Данмайю! О Ашок, не умирай! Пожалуйста, не умирай!
Аш вовсе не собирался умирать и довольно скоро очнулся. Безобразный ожог благополучно зажил благодаря умелому уходу Ситы и Данмайи, а также крепкому здоровью мальчика, но шрам остался у него до конца жизни: не полный круг, а полумесяц, потому что он дернулся в сторону, почувствовав прикосновение раскаленного металла, и дуло прижалось к груди не полностью, а Лалджи оттащил Биджурама назад прежде, чем тот успел исправить оплошность.
– Я собирался выжечь на твоей груди солнце, – впоследствии сказал Биджурам, – но, похоже, ты этого недостоин. Своим трусливым поведением ты превратил солнце в ущербную луну.
Из осторожности он сказал это в отсутствие Лалджи, который не желал, чтобы ему напоминали о прискорбном эпизоде.
Как ни странно, после этого мальчики сошлись ближе. Аш прекрасно сознавал тяжесть своего проступка и знал, что в былые времена его за такое удавили бы или затоптали насмерть слонами раджи. Самое малое, его могли бы лишить руки или глаза, поскольку рукоприкладство по отношению к наследнику престола считалось отнюдь не мелким преступлением и многие взрослые мужчины поплатились жизнью за гораздо менее серьезные провинности, а потому он обрадовался сравнительной легкости наказания и удивился тому, что юврадж вступился за него. Тот факт, что Лалджи не только помешал довести дело до конца, но и во всеуслышание признал свою вину, произвел глубокое впечатление на Аша, хорошо понимавшего, чего стоило принцу такое признание.
Аш безумно тосковал по Туку, но не предпринял попытки приручить другого мангуста. Он вообще больше не заводил никаких животных, сознавая, что никогда уже не сможет доверять Лалджи и что для него полюбить какое-нибудь живое существо – значит дать в руки ювраджу оружие, которое тот сможет использовать против него в следующий раз, когда будет не в духе или пожелает наказать своего слугу. Однако, несмотря на это (и, уж конечно, не по собственному желанию), Аш получил неожиданную замену любимому Туку. Только на сей раз не животное, а крохотного человечка – Анджали-Баи, робкую, всеми заброшенную малолетнюю дочку несчастливой фаранги-рани.
Одним из достоинств Лалджи, а он обладал многими хорошими качествами, которые в нормальных обстоятельствах вполне могли бы перевесить дурные, было неизменно доброе отношение к маленькой сводной сестренке. Малышка часто наведывалась в его покои, поскольку в силу своего возраста еще не подлежала заточению в зенане и могла разгуливать везде, где ей вздумается. Она была крохотным худеньким созданием, с виду всегда полуголодным и одетым в убогие обноски, какие сочли бы неприличными во многих крестьянских семьях. Такое положение дел объяснялось враждебностью нотч, не видевшей причин тратить деньги или время на дочь умершей соперницы.
Джану-Баи не знала наверное, унаследовала ли девочка от матери часть красоты и очарования, некогда пленивших сердце раджи, и не желала допустить, чтобы он полюбил свою дочь или стал гордиться ею, а потому распорядилась перевести ребенка в самое дальнее крыло дворца и приставила к нему горстку неряшливых, не получающих жалованья служанок, которые прикарманивали скудные средства, выдаваемые на содержание принцессы.
Раджа редко спрашивал о своей дочери и со временем почти забыл о ее существовании. Джану-Баи заверяла мужа, что о девочке хорошо заботятся, и неизменно делала какое-нибудь пренебрежительное замечание по поводу ее невзрачности, которая сильно затруднит поиски хорошей партии для нее. «Такое маленькое угрюмое существо», – с притворным сочувствием вздыхала Джану-Баи. Она дала малышке прозвище Каири, что означает «маленький незрелый плод манго», и возликовала, когда оно прижилось во дворце.
Каири-Баи предпочитала покои сводного брата своим собственным: они были светлее и лучше обставлены, а кроме того, Лалджи иногда угощал ее сластями и позволял играть со своими мартышками, какаду или ручной газелью. Его слуги тоже обращались с ней ласковее, чем приставленные к ней женщины, и девочка сильно привязалась к самому юному из них, Ашоку, – он однажды нашел ее в дальнем уголке сада, где она тихо плакала от боли, укушенная мартышкой, которую дернула за хвост. Аш отвел Каири к Сите, чтобы она утешила и приласкала бедняжку, и Сита перевязала рану, дала малышке кусочек сахарного тростника и рассказала историю про Раму, прекрасная жена которого была похищена царем демонов с острова Ланка и впоследствии спасена с помощью Ханумана, царя обезьян.
– Так что дергать обезьян за хвост никак нельзя: это не только задевает их чувства, но и вызывает гнев Ханумана. А сейчас мы с тобой нарвем ноготков и сплетем маленький венок – я покажу тебе, как это делается, – который ты отнесешь к алтарю Ханумана в знак своего раскаяния. Мой сын Ашок отведет тебя туда.
Интересная история и плетение венка успешно отвлекли девочку от боли в укушенном пальце, и она, безбоязненно взяв Ашока за руку, радостно отправилась вместе с ним приносить извинения Хануману у алтаря возле слоновника, где гипсовая статуя обезьяньего царя плясала в сумерках. После этого она часто наведывалась в комнаты Ситы, хотя привязалась не к Сите, а к Ашу, и постоянно ходила за ним по пятам, точно упрямый бездомный щенок, который выбрал себе хозяина и от которого так просто не отделаешься. Впрочем, Аша это не слишком тяготило, тем более что Сита велела, чтобы он относился к одинокой маленькой девочке с особой добротой – не потому, что она принцесса, и не потому, что она сирота, обделенная вниманием и заботой, а потому, что родилась в день, вдвойне для него знаменательный: в годовщину его собственного рождения и в день их прибытия в Гулкот.
Главным образом поэтому Аш почувствовал себя в известном смысле ответственным за Каири, смирился с ролью предмета ее обожания и стал единственным человеком, который никогда не обращался к ней по прозвищу. Он называл девочку либо Джали (так она сама переиначила свое имя, еще не умея свободно выговорить все три слога), либо, в редких случаях, Ларла, то есть «милая», относился к ней с терпеливой нежностью, какую выказывал бы надоедливому котенку, и по мере своих сил защищал от насмешек или наглых выходок дворцовой челяди.
Слуги ювраджа в отместку дразнили Аша нянькой и называли айя-джи, покуда на помощь к нему неожиданно не пришел юврадж, который гневно отчитал своих людей, посоветовав не забывать, что Анджали-Баи – его сестра. После этого они смирились с ситуацией и со временем свыклись с ней. В любом случае до девочки никому не было дела, и вряд ли она, такая хилая и тощая, сумеет благополучно перенести обычные детские болезни и дожить до взрослого возраста, а на Ашока так и вовсе всем наплевать – похоже, даже ювраджу.
Но в последнем своем предположении слуги ошибались. Лалджи по-прежнему доверял Ашу, хотя сам не смог бы объяснить почему, и не собирался отпускать его. Об убийстве Туку и последовавшей за этим драке у них никогда не заходило разговора, но в скором времени Аш понял, что Лалджи не бросал слов на ветер, когда угрожал помешать ему покинуть Хава-Махал. Во дворец вели лишь одни ворота, Бадшахи-Дарваза, и с того самого дня Ашу не разрешалось выходить через них одному – только в обществе избранных слуг или чиновников, которые зорко следили, чтобы он не отбился от них и вернулся обратно.
– Это приказ, – вежливо сказали Ашу часовые и отправили его назад.
То же самое повторилось на следующий день и во все последующие дни, а когда Аш обратился с вопросом к Лалджи, тот ответил встречным вопросом:
– А зачем тебе выходить из дворца? Или тебе плохо здесь живется? Если что-нибудь нужно, ты только скажи Раму Дассу – и он пошлет кого-нибудь за этим. Тебе нет никакой нужды ходить по базарам.
– Но я хочу повидаться с друзьями, – возразил Аш.
– Разве я тебе не друг? – спросил юврадж.
На этот вопрос у Аша не было ответа, и он так никогда и не узнал, кто именно отдал приказ не выпускать его из дворца: раджа, сам Лалджи, который сказал, что не он, но его словам нельзя было верить, или же Джану-Баи, по каким-то своим причинам. Так или иначе, приказ оставался в силе, и Аш всегда сознавал это. Он был узником в крепости, хотя и имел относительную свободу передвижения в пределах ограниченного крепостными стенами пространства, а поскольку Хава-Махал занимал огромную площадь, Аш не мог пожаловаться на слишком уж строгое заключение. Как не мог пожаловаться и на одиночество, ведь в тот год он обзавелся двумя хорошими друзьями во дворце и нашел по меньшей мере одного союзника среди придворных ювраджа.
Тем не менее Аш остро сознавал свое положение узника. С крепостных стен, из полуразрушенных башен и венчающих их деревянных павильонов он видел мир, простиравшийся перед ним подобием разноцветной карты, – мир, который манил к свободе и далеким горизонтам. На юго-западе находился город, а за ним раскинулось широкое плато, на дальнем своем краю круто спускавшееся к реке и плодородным землям Пенджаба – порой, в ясные дни, даже можно было разглядеть пенджабские равнины. Но Аш редко обращал взор в ту сторону, ибо к северу от Хава-Махала начинались предгорья, а за ними, на всем горизонте от востока до запада, вздымались настоящие горы и зубчатая громада Дур-Хаймы, прекрасная и таинственная, поросшая рододендронами и гималайскими кедрами и увенчанная снежной шапкой.
Аш не знал, что появился на свет неподалеку от заснеженных пиков Дур-Хаймы и первые годы жизни провел высоко в Гималаях, что вечером перед сном он видел эти снежные шапки окрашенными в розовые тона заката или посеребренными луной, а по пробуждении наблюдал, как они меняют цвет с абрикосового и янтарного на ослепительно-белый с наступлением солнечного утра. Память о них хранилась лишь в его подсознании, потому что когда-то давно он накрепко запомнил их, как иной ребенок запоминает рисунок обоев на стене детской. Но, глядя на них сейчас, он точно знал, что где-то среди этих гор находится долина, о которой в прошлом Сита часто рассказывала на ночь. Их собственная долина. Безопасное укромное место, куда однажды они придут после многодневного путешествия по горным дорогам и через перевалы, где ветер пронзительно воет между черными скалами и зелеными ледниками, а холодный блеск снежных полей слепит глаза.
Теперь Сита редко заводила разговор о долине: днем она была слишком занята, а ночи Аш проводил в покоях ювраджа. Однако история, которую в детстве Аш часто слушал на сон грядущий, по-прежнему владела воображением мальчика, и он уже забыл, что речь в ней идет о вымышленном месте, а возможно, никогда и не сознавал этого. Он твердо верил в реальность долины и всякий раз, когда мог увильнуть от исполнения своих обязанностей – утром или вечером, но чаще в течение долгих праздных послеполуденных часов, когда весь дворец погружался в дрему и солнце нещадно припекало крепостные стены, – он поднимался на крытый балкончик, прилепившийся к стене Мор-Минар – Павлиньей башни, и, лежа там на теплом камне, завороженно смотрел на горы и думал о них. И строил планы.
Кроме него, о существовании балкончика знала только Каири. Они обнаружили его по счастливой случайности, так как из самой крепости он не был виден, скрытый за изгибом стены Мор-Минар. Мор-Минар являлась частью первоначальной крепости, сторожевой башней и наблюдательным постом, обращенным к предгорьям. Но крыша и лестница там давно обвалились, а вход в башню преграждала куча битого камня. Балкончик был пристроен позднее, вероятно для удовольствия какой-нибудь давно умершей рани, и казался здесь совершенно неуместным: изящная маленькая беседка из мрамора и красного песчаника, с ажурными узорчатыми стенками, увенчанная индусским куполом.
На ржавых дверных петлях болтались обломки истлевших досок, но хрупкие на вид ажурные стенки сохранились в целости, если не считать места, где в прошлом находилось вырезанное в мраморном кружеве окно, из которого рани со своими придворными дамами могла любоваться горами. Здесь, в передней части балкона, между изящными арками зияла пустота, а ниже стена башни отвесно уходила на сорок футов вниз, к поросшим кустарником скалам, которые, в свою очередь, круто уходили вниз на расстояние вчетверо большее – к самому плато. Через кустарник пролегали козьи тропы, но не многие люди отваживались забираться на такую высоту. А если бы даже кто и забрался, то едва ли заметил бы беседку, терявшуюся на фоне истрепанной дождями и ветрами каменной стены Мор-Минар.
В погоне за дикой мартышкой Аш и Каири перелезли через кучу камня при входе в башню и, посмотрев наверх, увидели беглянку на полпути к проему, зиявшему на месте рухнувшей крыши. Очевидно, некогда в башне были комнаты, и хотя перекрытия в них полностью исчезли, от обвалившейся лестницы, которая вела к ним, сохранились обломки ступенек, порой такие крохотные, что и мартышке-то нелегко было уместить ногу. Но куда может забраться мартышка, туда зачастую может последовать и проворный ребенок, а Аш в свое время поднаторел в лазании по городским крышам и не боялся высоты. Каири тоже лазила ловко, как белка, и подъем по обвалившейся лестнице оказался делом не особо трудным, если смести с разбитых ступенек неряшливые кучи прутиков и яичной скорлупы, оставленные здесь многими поколениями сов и галок. Дети благополучно забрались наверх и, проследовав за мартышкой в один из дверных проемов, очутились на крытом балкончике с ажурными стенками, который висел на головокружительной высоте, надежный и недоступный, как ласточкино гнездо.
Аш пришел в восторг от находки. Вот оно, наконец-то: укромное местечко, где он сможет уединяться в тяжелые минуты жизни, любоваться миром с высоты, мечтать о будущем – и наслаждаться одиночеством. Гнетущая атмосфера дворца с его неумолчным шепотом вероломства и интриганства, с постоянными заговорами, кознями и соперничеством здесь отступала, рассеянная чистым воздухом, который струился сквозь мраморное кружево, омывая и освежая маленькую беседку. И что самое замечательное, никто не станет оспаривать у Аша право собственности на нее, ибо, кроме мартышек, сов, ворон и крохотных желтых бюльбюлей с хохолками, сюда явно никто не наведывался уже лет пятьдесят и наверняка все давно забыли о существовании беседки.
Будь у Аша выбор, он без раздумий обменял бы свой балкончик на разрешение выходить в город, когда захочется, и, получив таковое, он не убежал бы – хотя бы из-за Ситы. Но, лишенный этого права, он обрадовался вдвойне, получив в свое распоряжение укромное убежище, где можно отдыхать от ссор и сплетен, вспышек раздражения и докучных разговоров. Убогие комнатушки, где обретались они с Ситой, не отвечали нужным требованиям, поскольку любой слуга, посланный на поиски Аша, всегда в первую очередь направлялся туда. Желательно было иметь укрытие понадежнее, откуда его не погонят выполнять какое-нибудь пустячное задание или отвечать на вздорный вопрос, который юврадж частенько успевал забыть к приходу своего слуги. С обнаружением этого балкона жизнь Аша в Хава-Махале стала терпимее. А с обретением двух таких друзей, как Кода Дад-хан, управляющий конюшнями, и его младший сын Зарин, он почти смирился с перспективой остаться во дворце навсегда…
Кода Дад был патаном, который в юности покинул родные пограничные горы и пустился в странствование по северным окраинам Пенджаба в поисках счастья. Он случайно забрел в Гулкот, где своим искусством соколиной охоты привлек внимание молодого раджи, всего два месяца назад взошедшего на престол после смерти отца. С тех пор минуло более тридцати лет, но Кода Дад так и не вернулся в родные края, разве только изредка туда наведывался. Он остался в Гулкоте служить при дворе раджи и ныне, в должности управляющего конюшнями, пользовался значительным влиянием в княжестве. О лошадях он знал абсолютно все и, по слухам, владел лошадиным языком – даже самые свирепые и норовистые жеребцы становились кроткими и послушными, когда он разговаривал с ними. Кода Дад стрелял так же хорошо, как ездил верхом, а в соколах и соколиной охоте разбирался не хуже, чем в лошадях. Сам раджа, человек весьма сведущий в данном предмете, часто спрашивал у него советов и неизменно им следовал. После первого визита в родные края Кода Дад вернулся с женой, которая в должный срок родила ему троих сыновей, и к настоящему времени он был гордым дедом нескольких внуков и порой разговаривал с Ашем об этих образцах совершенства:
– Они как две капли воды похожи на меня в молодости. Во всяком случае, так говорит моя мать, которая часто их навещает, ведь мы родом из страны юсуфзаев, что расположена неподалеку от Хоти-Мардана, где служит мой сын Авал-шах со своим полком и второй мой сын Афзал тоже.
Два старших сына Коды Дада поступили на службу к британцам, в тот самый Корпус разведчиков, где служил дядя Аша, Уильям, и теперь только Зарин-хан, самый младший, жил со своими родителями, хотя тоже мечтал о военной карьере.
Зарин был почти на шесть лет старше Аша и по азиатским меркам уже считался взрослым мужчиной. Но если не обращать внимания на разницу в росте, они двое очень походили друг на друга телосложением и мастью, ибо Зарин, как многие патаны, был сероглазым и светлокожим. Человек посторонний легко принял бы их за братьев, и Кода Дад действительно относился к ним как к таковым, называя обоих «сынок» и задавая обоим одинаково суровые трепки, когда полагал, что они заслуживают наказания. Подобные знаки внимания Аш почитал за великую честь, поскольку Кода Дад являлся реинкарнацией друга и героя его младенческих лет, чей образ потускнел в памяти, но оставался незабвенным, – мудрого, доброго и всезнающего дяди Акбара.
Именно Кода Дад научил Аша охотиться с соколом, дрессировать необъезженных жеребят, на полном скаку выдергивать из земли палаточный колышек острием копья и стрелять по движущейся мишени, попадая в нее девять раз из десяти, а по неподвижной мишени так вообще без единого промаха. И именно Кода Дад растолковал Ашу, что сдержанность благоразумна, а импульсивность опасна, и отчитал за привычку говорить или действовать без должного размышления. Речь шла, в частности, о его нападении на ювраджа и угрозе покинуть дворец.
– Если бы ты тогда придержал язык, то сейчас мог бы выходить в город, когда пожелаешь, а не сидел бы здесь взаперти, – сурово сказал Кода Дад.
Зарин тоже хорошо относился к мальчику и обращался с ним как с младшим братом, то награждая подзатыльниками, то поощряя добрым словом. И что самое замечательное, изредка Ашу разрешалось выходить с ними из Хава-Махала, каковые прогулки почти не отличались от одиночных вылазок: хотя Коде Даду и Зарину тоже строго было приказано не спускать с него глаз, они двое, в отличие от слуг ювраджа, нисколько не смахивали на тюремных конвоиров и с ними он наслаждался иллюзией свободы.
Аш успел забыть пушту, которым в малолетстве овладел в экспедиции отца, но сейчас снова научился говорить на нем, поскольку это был родной язык Коды Дада и Зарина, а Аш, как свойственно мальчишкам, хотел подражать своим героям во всем. В их обществе он говорил только на пушту, что приятно удивляло Коду Дада, но страшно раздражало Ситу – она стала ревновать мальчика к старому патану, как некогда ревновала к Акбар-хану.
– Он не поклоняется богам, – с осуждением сказала Сита. – Вдобавок хорошо известно, что все патаны – прирожденные преступники. Они воры, душегубы и убийцы коров, и меня печалит, Ашок, что ты проводишь столько времени в обществе дикарей. Они научат тебя плохому.
– Мама, разве плохо ездить верхом, стрелять и охотиться с соколом? – возразил Аш.
Он считал, что перечисленные достоинства с лихвой окупают такие незначительные недостатки, как склонность к воровству и убийству, и, несмотря на все наставления Ситы и предостережения жрецов, никогда не понимал, почему коров следует почитать за священных животных. Будь это лошади, или слоны, или тигры, он бы еще понял. Но коровы…
Удержать в голове всех богов маленькому мальчику было трудно, ведь их так много: Брахма, Вишну, Индра и Шива, которые все один и тот же бог, но одновременно разные боги; Митра, повелитель солнца, и грозная Кали, повелительница черепов и крови, она же Парвати, милостивая и прекрасная; Кришна Многолюбимый, Хануман-обезьяна и толстопузый Ганеша со слоновьей головой, рожденный, как ни странно, от союза Шивы и Парвати. Всех этих и сотни других богов и богинь надлежало умилостивлять дарами, приносимыми жрецам. Однако Кода Дад говорил, что есть лишь один Бог, чьим пророком является Магомет. Разумеется, это сильно упрощало дело, разве только порой казалось непонятным, кому же поклоняется Кода Дад в действительности: Богу или Магомету. Бог, по словам Коды Дада, живет на небе, но его почитатели не вправе произносить молитвы, покуда не обратятся лицом в сторону Мекки, где родился Магомет. И хотя Кода Дад с презрением отзывался об идолах и идолопоклонниках, он рассказал Ашу про священный камень в Мекке, который все мусульмане почитали святыней и которому поклонялись точно так же, как индусы – своим каменным изваяниям, символизирующим Вишну.
Не желая идти ни против Ситы, ни против Коды Дада, Аш после долгих раздумий решил, что лучше выбрать для поклонения своего собственного идола. Это право, по мнению мальчика, давала одна молитва, однажды услышанная Ашем в городском храме от священника, обращавшегося к богам следующим образом:
- О бог, прости мне ограниченность природы человеческой.
- Повсюду ты, но я тебе свершаю поклонение здесь.
- Бесформен ты, но поклоняюсь я тебе в сих формах.
- Ты не нуждаешься в хвалах, но возношу тебе молитвы и хвалы.
- Прости мне ограниченность природы человеческой.
Такой подход к делу показался Ашу в высшей степени разумным, и после непродолжительного размышления он выбрал группу заснеженных пиков, вид на которые открывался с балкона Павлиньей башни. Остроконечные вершины, возносившиеся над далекими горными грядами подобием крепостных башен некоего сказочного города, были известны в Гулкоте под названием Дур-Хайма – Далекие Шатры. Аш счел горы более приятным предметом поклонения, чем уродливый, размалеванный красной краской лингам[6], которому приносила жертвы Сита, и вдобавок он мог обращаться к ним лицом во время молитвы, как Кода Дад обращался в сторону Мекки. Кроме того, рассудил Аш, кто-то же создал их. Возможно, тот же самый «кто-то», кого признают и Сита со своими жрецами, и Кода Дад со своими мусульманами. Как наглядное проявление могущества этого существа, горы определенно достойны поклонения. И это был его личный объект поклонения. Выбранный им самим защитник, покровитель и благодетель Ашока, сына Ситы и слуги ювраджа Гулкота.
– О бог, – прошептал Аш, обращаясь к Дур-Хайме, – повсюду ты, но я тебе свершаю поклонение здесь…
Принятый в качестве такового, прекрасный многовершинный горный массив сразу обрел свою неповторимую индивидуальность и в конце концов стал казаться Ашу живым существом – тысячеликой богиней, которая в отличие от символических каменных изображений Вишну и священного камня в Мекке принимала разные обличья при каждой перемене погоды и смене сезона, в каждый час каждого дня. Подобная мерцающему пламени на заре и блистающему серебру в полдень. Золотая и розовая на закате, сиреневая и бледно-лиловая в сумерках. Серовато-синяя на фоне грозовых облаков, темная на фоне звездного неба. А в дождливый сезон она одевалась в многочисленные покровы туманов и пряталась за стальной завесой ливней.
Отправляясь в свое убежище, Аш всякий раз брал с собой пригоршню зерна или букетик цветов и клал их на осыпающийся край балкона как приношение Дур-Хайме. Птицы и белки с благодарностью поедали зерно и со временем стали на удивление ручными: они безбоязненно прыгали и шмыгали взад-вперед по телу лежащего мальчика, словно он был каменным изваянием, и требовали корма с настойчивостью профессиональных попрошаек.
– Где ты был, милый? – ворчливо спрашивала Сита. – За тобой приходили, и я сказала, что ты наверняка болтаешься где-нибудь с презренным патаном и его соколами или торчишь на конюшне с его никчемным сыном. Придворному ювраджа негоже водить знакомство с такими людьми.
– Похоже, слуги ювраджа считают меня твоим сторожем, – брюзжал Кода Дад. – Они явились сюда с расспросами: «Где он?», «Чем сейчас занимается?», «Почему его здесь нет?»
– Где ты шлялся? – сердито осведомлялся Лалджи. – Биджурам и Мохан искали тебя повсюду. Я не желаю, чтобы ты пропадал неведомо где. Ты мой слуга. Я хотел поиграть в чаупар[7].
Аш извинялся и говорил, что гулял в одном из садов либо наведывался в конюшни или в слоновник, а потом они садились играть в чаупар, и история забывалась – до следующего раза. В громадном Хава-Махале было легко затеряться, а Лалджи знал, что мальчику никак не выйти за ворота одному и что рано или поздно его разыщут. Но все же юврадж предпочитал постоянно иметь Ашока где-нибудь поблизости, интуитивно чувствуя, что он единственный, кого нельзя подкупить или склонить к измене. Впрочем, поскольку «несчастные случаи» больше не повторялись, он постепенно начинал приходить к мысли, что страхи старой Данмайи являлись в значительной мере плодом воображения и что Биджурам был прав, когда сказал, что никто, даже нотч, не посмеет причинить ему вреда. Коли так, у него больше не было причин держать Ашока при себе, тем более что он не находил мальчика таким занятным собеседником, как Пран, Мохан или Биджурам, который – пусть он не заслуживал доверия и был почти на десять лет старше (Биджураму уже стукнуло двадцать) – всегда с охотой развлекал его разными скандальными историями из жизни обитательниц зенаны или приобщал к каким-нибудь приятным порокам. На самом деле если бы не странная уверенность, что Ашок для него все равно что талисман, оберегающий от опасности, Лалджи, наверное, уволил бы его, уж слишком часто в пристальном взгляде младшего мальчика читалось чувство, очень похожее на презрение, а его решительное нежелание смеяться непристойным остротам Биджурама или жестоким выходкам Пунвы отдавало осуждением, унижавшим достоинство Лалджи. Помимо всего прочего, он начинал ревновать к Ашоку.
Все началось из-за Анджали, хотя в данном случае юврадж испытывал лишь самое слабое недовольство, так как она была всего-навсего глупым ребенком, к тому же невзрачным. Будь она красивой или обаятельной девочкой, он бы видел в ней соперницу в борьбе за любовь отца и ненавидел бы ее, как ненавидел проклятую нотч и ее старшего сына, своего сводного брата Нанду. Но Лалджи помнил доброе отношение к себе фаранги-рани и отплатил за него добрым отношением к ее дочери, молчаливо утвердив Ашока в должности неофициального наставника, воспитателя и защитника этого «маленького незрелого плода манго», Каири-Баи. Но он почувствовал досаду, когда один из его конюших, Хиралал, проникся симпатией к мальчику, и еще сильнее разозлился, когда Кода Дад, которого все молодые щеголи во дворце почитали живой легендой, сделал то же самое. Ибо Кода Дад пользовался благосклонным вниманием раджи и хорошо отзывался о мальчике.
Правитель Гулкота был тучным, апатичным мужчиной, который из-за непомерного пристрастия к вину, женщинам и опиуму преждевременно утратил былое здоровье и в свои пятьдесят с небольшим выглядел гораздо старше. Он любил своего старшего сына и испытал бы неописуемое потрясение при одной мысли, что кто-то может желать зла его наследнику. И он без колебаний предал бы смерти даже саму нотч, если бы узнал наверное, что она покушалась на жизнь мальчика. Но, будучи человеком немолодым и обремененным лишним весом, раджа избегал отрицательных эмоций. Он заметил, что всякий раз, когда он уделяет хоть самое малое внимание Лалджи, у него тут же начинаются нелады с очаровательной Джану-Баи. Посему в интересах собственного спокойствия он крайне редко виделся со своим старшим сыном, и Лалджи, любивший отца пылкой, ревнивой любовью, глубоко переживал такое небрежение и ужасно злился, если во время своих коротких визитов тот обращался хотя бы с несколькими словами еще к кому-либо.
Раджа заговаривал с Ашем только потому, что Кода Дад как-то заметил в беседе с ним, что мальчику стоит дать достойное воспитание, а также благодаря смутным воспоминаниям, что однажды мальчик спас жизнь Лалджи и это обстоятельство дает ему право на известное внимание. Поэтому он обращался с Ашем милостиво и иногда брал его с собой, когда выезжал опробовать нового сокола в охоте на пернатую дичь, в изобилии водившуюся на равнинных участках плато. В таких случаях Лалджи всегда впадал в хандру и раздражение, а впоследствии обязательно осуществлял какую-нибудь мелкую злобную месть. Например, неотлучно держал Аша при себе по многу часов подряд, не позволяя ни есть, ни пить, ни даже присесть на минутку, пока у того не начинала кружиться голова от усталости, или же, обнаруживая изощренное коварство, намеренно выводил его из себя бессмысленно жестоким обращением с одним из своих ручных животных, чтобы потом подвергнуть наказанию за неизбежную вспышку негодования.
Придворные Лалджи, равняясь на своего господина, всячески старались испортить жизнь малолетнему выскочке-конюшонку, чье неожиданное возвышение всегда их возмущало, и единственным исключением здесь был Хиралал, служебные обязанности которого туманно определялись названием «конюший ювраджа».
Хиралал единственный из всех относился к Ашу благожелательно, и он один никогда не восхищался садистскими выходками Биджурама и не смеялся его сальным шуткам. Вместо этого он обычно зевал и с рассеянным видом, явственно свидетельствующим о скуке, покорности обстоятельствам и отвращении, принимался теребить черную жемчужину, висящую у него в ухе. Сам по себе сей жест был всего лишь привычкой, но неизменно приводил в ярость Биджурама, подозревавшего (справедливо), что огромная жемчужина является умышленной пародией на бриллиантовую серьгу, которую носил он сам, и что на фоне ее редкой красоты (жемчужина имела форму груши и переливчатый цвет голубиного пера) его собственный бриллиант кажется дешевой стекляшкой – точно так же, как рядом со скромным серым шелковым ачканом конюшего его яркие наряды выглядели безвкусными и плохо скроенными.