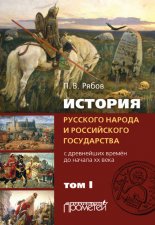Изюм из булки. Том 1 Шендерович Виктор

— Майорова, — ткнув пальцем в сторону экрана, объяснил я. Я не мог отойти от телевизора. Это был глоток из кислородной маски.
«Деды» посмотрели на экран. «Я прошу вас, князь!» — низким прекрасным голосом сказала высокая красивая женщина в белом платье с открытыми плечами…
— Ты что, ее знаешь? — спросил старослужащий.
— Да, — ответил я. — Учились вместе.
«Деды» еще раз посмотрели на женщину на экране — и на меня.
— Пиздишь, — сопоставив увиденное, заключил самый наблюдательный из «дедов».
— Честное слово! — поклялся я.
— Как ее фамилия? — прищурился «дед».
— Майорова, — сказал я.
— Майорова? — уточнил «дед».
— Да.
— Свободен, солдат, — сказал «дед». — Ушел от телевизора!
(Справка для женщин и невоеннообязанных: приказы в армии отдаются в прошедшем времени. «Ушел от телевизора!» — не выполнить такой приказ невозможно, ибо в воображении командира ты уже ушел. А за несовпадение реальности с командирским воображением — карается реальность.)
И я ушел от телевизора и, спрятавшись за колонну, в тоске слушал родной голос… Первая часть телеспектакля закончилась, и по экрану поплыли титры: «Зина — Елена Майорова»…
— Солдат! — диким голосом крикнул «дед». — Ко мне!
Я подбежал и столбиком встал у табуреток. Старослужащие смотрели на меня с недоверием и, на всякий случай, восторгом.
— Ты что, правда ее знаешь? — спросил наконец самый главный в роте «дед».
— Правда, — сказал я. — Учились вместе.
— Ты — с ней?
Диалог уходил на четвертый круг. Поверить в этот сюжет они не могли. Впрочем, после полугода жизни в ЗабВО им. Ленина я и сам верил во все это не сильно.
— Красивая баба, — сказал «дед», буровя меня взглядом.
— Очень, — подтвердил я.
«Деды» продолжали испытующе рассматривать меня. Прошло еще полминуты, прежде чем злой чечен Ваха Курбанов озвучил наконец вопрос, все это время одолевавший дембелей:
— Ты ее трахал?
— Нет, — честно доложил я.
Тяжелый выдох разочарования прокатился по казарме, и дембельский состав потерял ко мне всякий интерес. С таким идиотом, как я, разговаривать было не о чем.
— Иди, солдат! — раздраженно кинул самый главный «дед». — Иди, служи.
Курсант Керимов
Служба в ЗабВО имени Ленина могла завершить мою жизнь самым немудреным образом: гибли мы там регулярно. Но рулетка остановилась не на мне, и я вернулся домой, переполненный впечатлениями от этой марсианской командировки.
О возвращении чуть позже, а пока — о курсанте Керимове.
Начну, однако, с затакта…
Армия — вообще местечко не для эстетов, но в моем случае перепад был совершенно трагикомическим. До Читы мои впечатления о советском народе основывались, по преимуществу, на московских интеллигентах из родительского застолья и табаковской студии.
А добрый Олег Павлович, балуя нас, как балуют только первых детей, кого только в наш подвал не приводил! Бывал в студии первый мхатовский завлит Павел Марков («Миша Панин», молодой человек с траурными глазами из булгаковского «Театрального романа»!); Катаев пробовал на нас «алмазный свой венец» — устный вариант этой повести я помню отлично; приходили Ким и Окуджава…
Высоцкий пел в «табакерке»; пел, что называется, на разрыв аорты — по-другому не умел. Жилы на шее вздувались и натягивались хрипом-голосом, лицо становилось красным — помню, было немного тревожно и даже страшновато за него. Но понимания уникальности явления, кажется, не было: ну, Высоцкий и Высоцкий… Мы тут сами гении! (Кто ж не гений в восемнадцать лет?)
Даже немного обиделись, когда, пропев два часа напролет, Владимир Семенович отказался выполнить новую череду «заказов»: простите, ребятки, у меня вечером спектакль, голоса не будет совсем!
Володин во дворе нашей студии… Товстоногов, Питер Брук и Олег Ефремов — в зрительном зале… Аркадий Райкин, принимающий по Костиной протекции в своем доме, в Благовещенском переулке… Райкинская библиотека, с автографами Чарли Чаплина и английской королевы…
Все это я рассказываю для того, чтобы вы лучше поняли уровень ментальной катастрофы, пережитой мною во время встречи с курсантом Керимовым. Судьба свела нас за одним столом внезапной армейской зимой 1981 года.
За этим столом, кроме меня и Керимова, сидели еще восемь новобранцев из нашего отделения, а столовая выходила на плац образцового мотострелкового полка, входившего в состав образцовой мотострелковой дивизии, — в образцовом Забайкальском имени Ленина, мать его, военном округе, под Читой.
В этой дивизии когда-то служил Леонид Ильич Брежнев, и мы были обречены на образцовость до скончания его дней (впрочем, ждать оставалось уже недолго).
Как я тут оказался? Как все. В Институте культуры не было военной кафедры, а мой отец скорее бы умер, чем попытался дать «на лапу» военкому или кому-то еще.
Остается объяснить курсанта Керимова на лавке напротив. Тут все еще проще: взводы набирались по росту, и мне достался… нет, лучше сказать, я достался четвертому, узбеко-азербайджанскому, взводу. Я был единственным русским в третьем отделении этого взвода, извините.
И вот сидим мы, десять лысых дураков, за столом — и осуществляем, говоря уставным языком, «прием пищи». Причем принимают пищу девять человек, а десятый (я) на них смотрю. Теоретически (по уставу) пищи должно было хватать всем, и за этим должен был проследить строгий, но справедливый старшина. В реальности — еще на ступенях полковой столовки начинались бои рота на роту. Ворвавшиеся татаро-монгольской лавой рассыпались по проходам, сметая с чужих столов еду вместе с приборами. Добежавшие до лавок тут же начинали дележ, и это была уже чистая саванна…
К подходу последнего курсанта (а это был я) в чане и мисках не оставалось почти ничего. Умения дать человеку в рыло бог мне не дал, и в борьбе за существование я довольно скорыми темпами направлялся в сторону, противоположную естественному отбору.
В день, о котором я сейчас вспоминаю, в чане и мисках не осталось совсем ничего — девятеро боевых товарищей, между тем, уминали свои порции (заодно с моею) с неослабевающим аппетитом. Это зрелище было столь завершенным в этическом плане, что мне даже расхотелось есть.
Я стал по очереди рассматривать боевых товарищей — в ожидании момента, когда кто-нибудь из них заметит мой взгляд, а потом мою пустую миску. Я полагал, что у человека в этой ситуации должен встать кусок в горле.
Потом вертеть головой мне надоело, и я начал гипнотизировать сидевшего напротив. А напротив как раз и сидел курсант Керимов. Заметив мой взгляд, он, как я и предполагал, перевел глаза на мою пустую миску.
На этом мое знание человеческой природы завершилось.
Керимов вцепился в свое хлебово и быстро укрыл его локтями. А когда понял, что я не собираюсь вступать в схватку за калории, расслабился, улыбнулся и сказал мне негромко и доброжелательно:
— Хуй.
Чем и закрыл тему армейского братства.
«Сила богатырская»
Когда произошел мой личный раскол с государством и его мифологией?
Критическая масса накапливалась, конечно, помаленьку с давних времен — с отрочества, с застольных родительских разговоров, с книг и магнитофонных пленок… Но момент окончательного разрыва я помню очень хорошо — не только день, но именно секунду.
…Сотни московских призывников осени 1980 года, мы, как груда хлама, трое суток валялись вдоль стен на городском сборном пункте на Угрешской улице, будь она проклята. Трое суток мы ели дрянь и дышали запахами друг друга. Трое суток спали, сидя верхом на лавочке, роняя одурелые головы на спины тех, кто сидел в такой же позе впереди.
— Сажаем товарища на кость любви! — руководил процессом пьяный пехотный капитан и радостно ржал в голос.
К моменту отправки в войска все мы были уже в полускотском состоянии — полагаю, так и было задумано. И вот в самолете, гревшем двигатели, чтобы доставить все это призывное мясо в Читу, врубили патриотический репертуар.
«Эх, не перевелась еще сила богатырская!» — бодро гремел из динамика Стас Намин (группа «Цветы»). И еще долго, невыносимо громко и настойчиво этот внук Микояна призывал меня «отстоять дело правое, силой силушку превозмочь». Меня — голодного, бесправного, выброшенного пинком из человеческой жизни в неизвестный и бессмысленный ужас…
Кажется, именно там, в самолетном кресле, под бодрую патриотическую присядку, тупо глядя в иллюминатор на темные задворки аэропорта «Домодедово», я и отделился от государства.
Свидетельство очевидца
Три десятилетия спустя, указывая на степень нравственной деградации подсудимого (меня), депутат Государственной думы Абельцев цитировал в Пресненском суде кусок из моей автобиографии.
— «Служил в Советской Армии, — зачитывал он, — выжил и демобилизовался».
И обратившись к судье, сказал:
— Это кажется мне подозрительным, Ваша честь. Я служил в армии в те же годы, у нас никто не выживал!
Мемуары сержанта запаса
Ночное
Вы не пробовали чистить старую картошку черенком оловянной ложки? Я пробовал — с десяти вечера до четырех утра — и у меня получилось. Жить захочешь, все получится.
…Зимой 1981-го тихий курсант нашей образцовой мотострелковой «учебки», сойдя с ума от бессонницы и унижений, схватил здоровенный кухонный нож и начал гоняться за сержантом (дело было в ночном наряде по столовой).
Следующей ночью наш взвод, сидя вокруг ржавой ванны, чистил картошку черенками ложек: ножи были изъяты с кухни приказом командира полка. К рассвету требовалось заполнить ванну почищенным корнеплодом, и мы скребли старую картошку ложками, обеспечивая полку его утреннее пропитание, — без минуты сна и единого слова протеста.
История болезни
В конце февраля 1981 года меня прямо со стрельбища увезли в медсанбат. Из зеленой машины с крестом вылез незнакомый мне лейтенант и зычно крикнул:
— Шендерович тут есть?
Крикни это лейтенант на месяц позже, ответ мог быть и отрицательным. У меня болела спина. Зеленые круги перед глазами были намертво вписаны в квадрат полкового плаца. Я задыхался, у меня разжимались кулаки — не в переносном смысле, а в самом что ни на есть прямом: выпадали из рук носилки со шлаком во время нарядов в котельной.
Человек, не служивший в Советской Армии, спросит тут: не обращался ли я к врачам? Отслуживший такого не спросит, потому что знает: самое опасное для нашего солдата — не болезнь, а приход в санчасть. Тут ему открывается два пути: либо его госпитализируют, и он будет мыть полы с мылом каждые два часа, пока не сгниет окончательно, — либо не госпитализируют, и его умысел уклониться от несения службы будет считаться доказанным.
Меня из санчасти возвращали дважды, и оба раза с диагнозом «симуляция». В первый раз майор медицинской службы Жолоб постучал меня по позвоночнику и попросил нагнуться. Кажется, он искал перелом. Не найдя перелома, майор объявил мне, что я совершенно здоров. Через неделю после первичного обстукивания я снова приперся в этот нехитрый Красный Крест и попросил сделать мне рентген позвоночника.
Наглость этой просьбы была столь велика, что майор Жолоб потерял дар командной речи — и меня повезли на снимок, в госпиталь.
Еще через неделю я был вторично поставлен в известность о своем совершенном здоровье. A propos майор сообщил, что если еще раз увидит меня в санчасти, лечить меня будут на гауптвахте.
Проверять, как держит слово советский офицер, я не стал и вернулся в строй. Днем топтал плац, по ночам не вылезал из нарядов и с некоторым интересом, как бы уже со стороны, наблюдал за постепенным отказом организма бороться за существование…
Въезд на стрельбище машины с красным крестом и зов незнакомого лейтенанта были восприняты мною как внеочередное доказательство бытия Господня.
Меня отвезли в медсанбат, выдали пижаму, отвели в палату и велели лежать не вставая. В истории всех армий мира не наберется и десятка приказов, выполненных с такой педантичностью: я лег и тут же уснул.
Когда к концу дня меня растолкали на «прием пищи», я, одурев от сна, попросил принести мне чаю в постель. «А палкой тебе по яйцам не надо?» — спросили меня мои новые боевые товарищи. «Не надо», — вяло ответил я и снова уснул.
Что интересно, чаю мне принесли.
На третий день к моей койке начали сходиться ветераны медсанбата. Разлепляя глаза среди бела дня, я видел над собой их уважительные физиономии. Еще никогда выражение «солдат спит — служба идет» не иллюстрировалось так буквально.
При первой встрече со мной рентгенолог, лейтенант медслужбы Анкуддинов, переспросил с нескрываемым любопытством:
— Так это ты и есть Шендерович?
И я ответил:
— В этом не может быть сомнений.
Тут я был неправ дважды. Во-первых, окажись на месте Анкуддинова офицер попроще, я бы огреб за такой ответ по самое не могу, а во-вторых: сомнения в том, что я Шендерович, уже были.
На второй или третий день после доставки в ЗабВО имени Ленина нас построили в шеренгу, и прапорщик Кротович, глядя в листочек, выкликнул:
— Шендер е вич!
— Шендерович, товарищ прапорщик, — неназойливо поправил я.
Прапорщик внимательно посмотрел, но не на меня, а в листочек.
— Шендеревич, — повторил он, потому что так было написано.
Я занервничал.
— Шендерович, товарищ прапорщик.
Моя фамилия мне нравилась, и я не видел оснований ее менять.
Прапорщик снова внимательно посмотрел — но уже не на листочек, а на меня.
— Шендеревич, — сказал он.
И что-то подсказало мне, что ему виднее.
— Так точно, — ответил я и проходил Шендеревичем до следующей переписи.
А в начале марта 1981 года (уже под своей фамилией) я стоял перед лейтенантом медслужбы Анкуддиновым, и он держал в руках снимок моей грудной клетки. Не знаю, какими судьбами этот снимок попал от полковых ветеринаров к профессиональному рентгенологу — но, видимо, чудеса еще случаются в этом мире.
Рассмотрев на черном рентгеновском фоне мой позвоночник и узнав, что его владелец продолжает бегать по сопкам в противогазе, Лев Романович Анкуддинов предложил срочно доставить нас обоих (меня и мой позвоночник) в медсанбат. Лев Романович считал, что на такой стадии остеохондроза долго не бегают даже без противогаза.
Так благодаря чудесному случаю я все-таки сменил шинель на пижаму.
В медсанбате мне было хорошо
Я понимаю, что рискую потерять читательское доверие.
Что как раз в этом месте повествования должен вспомнить, как меня тянуло в родную часть, к боевым товарищам… как просыпался по ночам от мысли, что где-то там несет за меня нелегкую службу мой взвод… — но чего не было, того не было. Не тянуло. Не просыпался.
Зато именно в медсанбате мне впервые после призыва захотелось женщину. До того, целых пять месяцев, хотелось только есть, спать и чтобы ушли вон все мужчины. Признаться, я даже тревожился на свой счет, но тут как рукой сняло.
Здесь же, в медсанбате, впервые за эти месяцы, я наелся.
«Наелся» — это мягко сказано.
Однажды весенней ночью меня, ползшего в лунатическом состоянии в туалет, окликнул из кухни повар Толя.
— Солдат, — сказал он, — есть хочешь?
Ответ на этот вопрос был написан на моем лице с начала зимы восьмидесятого года.
Небольшое лирическое отступление о еде.
Еды в Советской Армии я не застал.
Я не утверждаю, что ее там никогда не было, но могу поклясться на общевойсковом Уставе Вооруженных Сил СССР, что однажды, уронив на затоптанный в серое месиво цементный пол кусочек сахара, я поднял его, обдул и съел. Подо всем, что читатель подумает о моем моральном облике, я готов безусловно подписаться.
Среди немногих секунд армейского счастья помяну с нежной благодарностью безымянный декабрьский вечер 1980 года в буфете воинской части № 12651-б. Забившись в угол, давясь и умирая от восторга, я жрал килограммовую булку с орехами и изюмом за 60 копеек, запивая все это молоком из литрового пакета.
Все последующее счастье в личной жизни блекнет рядом с памятью об этом процессе…
— Подгребай сюда через полчасика, солдат, — сказал медсанбатский повар Толя, — я тебя покормлю. Только без шума.
Полчаса я пролежал в кровати, боясь уснуть. Слово «покормлю» вызывало истерические реакции: это было слово из прошлой жизни. В ордена Ленина, мать его, Забайкальском военном округе, кроме уставного «прием пищи», на сей счет имелись только существительное «жрачка» и глагол «похавать».
Через полчаса, поскуливая, я стоял у кухонных дверей. Из-за дверей доносились немыслимые запахи. До армии Толя работал шеф-поваром в хорошем ресторане и не хотел терять квалификацию.
В ту ночь я обожрался. О, как я обожрался в ту ночь…
В общем, в медсанбате было вполне терпимо. Но это сначала. А потом вообще началась лафа…
Родственничек
Однажды, после утреннего осмотра, командир медроты капитан Красовский ни с того ни с сего конфиденциально поинтересовался у меня: не знаком ли я часом с генералом Громовым из военной прокуратуры?
Никакого генерала я, разумеется, не знал. «Ну хорошо, как-то неопределенно сказал Красовский, — иди лечись…»
Через несколько дней меня попросили зайти к командиру.
В кабинете сидел старлей со щитом и мечом в петлицах — сам же Красовский, пытливо на меня глянув, из кабинета вышел. Мне стало не по себе. Человек я мнительный, со стойкими предрассудками как к щиту, так и, в особенности, к мечу.
— Рядовой Шендерович? — спросил старлей.
Не вспомнив за собой вины, заслуживающей трибунала, я ответил утвердительно.
— Как себя чувствуете? Как лечение? Может быть, есть какие-нибудь жалобы?
И на лице офицера госбезопасности отразилась тревога за мое здоровье. В кабинете повисло и стало стремительно сгущаться ощущение некоторого сдвига по фазе.
— Все хорошо, — ответил я сквозь гул в голове.
— Где желаете продолжить службу? — поинтересовался лейтенант КГБ.
Эх! Ну, что мне стоило попроситься в кремлевские курсанты? Вот бы народу набежало посмотреть! Но я, как мешком ударенный, промямлил что-то благонравное.
Старлей светло улыбнулся и в последний раз спросил:
— Значит, все в порядке?
Мне захотелось зарыдать у него на погоне. Я ни черта не понимал.
После ухода чекиста, в кабинет тихо вошел капитан Красовский и совсем уже по-домашнему попросил меня не валять ваньку и сознаться, кем я прихожусь генералу Громову из военной прокуратуры.
Я призываю в свидетели всех, кто знает меня в лицо, и спрашиваю: могут ли быть такие родственники у генерала военной прокуратуры? Ну нет же, о господи! Я спросил капитана: в чем дело? Я поклялся, что фамилию генерала слышу второй раз в жизни, причем в первый раз слышал от него же.
Капитан задумался.
— Понимаешь, — сказал он наконец, — генерал Громов чрезвычайно интересуется состоянием твоего здоровья.
И с опаской заглянул ко мне в глаза.
Я был потрясен, а когда отошел от потрясения, сильно струхнул. Я догадался, что меня принимают за кого-то другого. Тень Хлестакова накрыла мою голову: я понял, что играю его роль, — с той лишь разницей, что не имею никаких шансов вовремя смыться. Только что, за пять минут, Советская армия израсходовала на меня стратегические запасы внимания к рядовому составу лет на пятнадцать вперед, — и мне страшно было подумать о том, какой монетой придется за это расплачиваться.
Но расплаты так и не последовало.
День за днем я читал в глазах госпитального персонала посвященность в мою родовую тайну — то ли тайный агент, то ли внебрачный генеральский сын… Новый статус располагал к комфорту, и в полном соответствии с гоголевской драматургией я начал входить во вкус: смотрел после отбоя телевизор с фельдшерами, в открытую шлялся на кухню — в общем, только что не врал про государя императора…
Я вообще не врал! И на прямые вопросы по-прежнему отвечал чистую правду, — вот только растущая нагловатость поведения придавала моим ответам смысл вполне прозрачный.
Потом я перестал ломать голову над этой шарадой — просто жил как человек, впервые со времени призыва…
Все открылось уже после демобилизации: весь этот неуставной рай мне устроила родная мама. Получив открытку из медсанбата, а обещанного письма вслед за тем не получив, мама начала фантазировать и дофантазировалась до полной бессонницы.
Уже в некоторой панике она позвонила доброму приятелю своей юности, который — так уж случилось — «вырос» до зампреда Верховного суда РСФСР; позвонила и попросила разузнать, где я и что со мной.
Зампред Верховного суда (видимо, припомнив, что все свое детство я называл его дядей Левой) позвонил по вертушке в Читинскую военную прокуратуру и, для скорости процесса назвавшись именно что моим дядей, попросил генерала Громова найти пропавшего племянничка.
Бедный генерал! Натерпелся он страху, пока меня искали. Если бы на вверенных ему просторах загнулся племянник зампреда Верховного суда РСФСР, — мало бы, конечно, никому не показалось…
Моя лафа закончилась в начале апреля 1981-го. Подлатанный капитаном Красовским, я убыл из госпиталя в родную, мать ее, часть.
Цветовая гамма
А в нашей родной (мать ее) части солдатам, носившим черные погоны, было западло уважать «краснопогонников», и наоборот. Отчего так повелось, не стоит даже задумываться. Просто: не упускать же человеку лишний повод дать в рыло другому человеку!
Дополнительное обаяние этой славной традиции придавал тот факт, что время от времени курсантов перебрасывали из «учебки» в «войска» и обратно, и цвет погон у отдельно взятого бойца мог меняться туда-сюда по несколько раз…
Пару раз перешивал погоны и я — и неизменно получал за это по морде.
Как я был сержантом
Я говорил им:
— Строиться, отделение!
И они строились, но как-то вяловато.
Я ставил им задачу. Я делал это правильным русским языком и говорил положенное по Уставу «разойдись». И они расходились, чем-то озадаченные… Им чего-то не хватало. Они шли делать то, что я велел, но сомневались. У них возникало справедливое ощущение, что их о чем-то попросили. И в глубине души они подозревали, что имеют право этого не делать…
В глубине души так считал и я.
Я был плохим сержантом.
Но однажды я вспомнил книгу Константина Сергеевича Станиславского «Работа актера над образом» и главу про «зерно роли» в этой книге; и собравшись с силами, ненадолго вырастил в себе страшного чечена, старшего сержанта Ваху Курбанова. Меня утяжелило на двадцать килограммов, меня раздуло тяжелым презрением к человечеству, и я проорал безо всякого «разойдись»:
— ……………………………………… бля!
И «салаги» как ошпаренные бросились выполнять приказ.
Хлеборез
На немыслимую блатную должность я попал в конце мая 1981 года.
Этому событию предшествовало исчезновение прежнего хлебореза — всесильного Соловья (до сих пор не знаю, фамилия это была или кликуха). То ли этот Соловей проворовался так, что продуктов перестало хватать уже и прапорщикам, то ли прибил кого-то сильнее нормы — только его отправили, наконец, в дисбат, наводить ужас на внутренние войска.
А вместо Соловья как раз вернулся из медсанбата я, отъевшийся, как хомяк, и с записью в медкарте об ограничении физических нагрузок. И — с высшим образованием, что в умах местных стратегов справедливо связалось со знанием арифметики…
Глубина моего морального падения к этому времени была такова, что, узнав о назначении, я не стал проситься обратно в строй, а напротив, очень обрадовался. Я вообще человек с кучей гуманистических предрассудков, тихий в быту и вялый в мордобое, и мое глубочайшее убеждение состоит в том, что чем меньшее я буду иметь отношение к обороноспособности, тем для нее же лучше.
В первый же день новой службы я получил от нового моего командира, подполковника Гусева, Устав тыловой службы с приказом выучить наизусть нормы выдачи продуктов.
После «Графа Монте-Кристо» я не держал в руках текста столь увлекательного. Тихо икая от волнения, я узнавал, что и в каких количествах нам полагалось все это время.
Потом я запер хлеборезку и начал следственный эксперимент.
Я взвесил указанные в Уставе шестьдесят пять граммов сахара и обнаружил, что это шесть кусочков. Я несколько раз перепроверял весы и менял кусочки, но их все равно получалось — шесть. А в дни моей курсантской молодости никогда не доставалось больше трех!
Двадцать уставных граммов масла оказались невиданной мною ранее, высоченной, с полпальца, пайкой! А то, что, по недосмотру Соловья, мы ели в курсанские времена, можно было взвешивать на микронных весах. И вообще, чаще всего мы жрали маргарин…
Подполковник Гусев приказал мне выучить нормы выдачи, и я их выучил, но дальше начались недоразумения. Я почему-то понял подполковника так, что в соответствии с нормами надо продукты и выдавать, но в этом заблуждении оказался совершенно одинок.
В первом часу первой же ночи в окошке выдачи появилась физиономия. Физиономия сказала: «Дай сахарку». — «Не дам», — сказал я. «Дай, — сказала физиономия. — Водилы велели». «Скажи им: нету сахара», — ответил я. «Дай», — сказала физиономия. «Нет», — сказал я. «Они меня убьют», — сообщила физиономия. «Откуда я возьму сахар?» — возмутился я. Физиономия оживилась, явно готовая помочь в поиске. «А вон там…» — «Это на завтрак», — сказал я. «Дай», — сказала физиономия. «Уйди отсюда», — попросил я. «Они меня убьют», — напомнила физиономия. «О господи!» Я выгреб из верхней пачки несколько кусков, положил на ломоть хлеба и протянул в окошко. «Мало», — вздохнула физиономия. Я молчал. Физиономия вздохнула. «И маслица бы три паечки», — сказала она и тут же пояснила: «Водилы велели!» — «Масла не дам!» — крикнул я. «Они меня убьют», — печально констатировала физиономия. «Я тебя сам убью», — прохрипел я и запустил в физиономию кружкой. Физиономия исчезла. Кружка вылетела в окошко выдачи и загрохотала по цементному полу. Я отдышался и вышел наружу. Физиономия сидела у стола, глядя мне в глаза с собачьей неотвратимостью. Я длинно и грязно выругался. Физиономия с пониманием выслушала весь пассаж и предложила: «Дай маслица».
Когда я резал ему маслица, в окошко всунулась совершенно бандитская рожа, подмигнула мне и сказала:
— Э, хлэборэз, масла дай?
Стояла весенняя ночь. Полк хотел жрать. Дневальные индейцами пробирались к столовой и занимали очередь у моего окошка. И когда я говорил им свое обреченное «нет», дневальные отвечали с поразительным однообразием:
— Они меня убьют.
И я давал чего просили.
Стезя порока
От заслуженной гауптвахты меня спасала лишь чудовищная слава предшественника — после него мои недовесы воспринимались как благодеяние.
Все это не мешало подполковнику Гусеву совершать утренние налеты на хлеборезку, отодвигать полки, шарить в холодильнике и заглядывать за хлебные лотки в поисках ворованного. Отсутствие заначек убеждало его только в моей небывалой хитрости.
«Где спрятал масло?» — доброжелательно интересовался подполковник. «Все на столах», — отвечал я. От такой наглости подполковник крякал почти восхищенно. «Найду — посажу», — предупреждал он. «Не найдете», — отвечал я. «Найду», — обещал подполковник. «Дело в том, — мягко, чтобы не обрушить вселенную в полковниьчей голове, пытался объяснить я, — что я не ворую». «Ты, Шендерович, нахал!» — отвечал на это подполковник Гусев и на рассвете опять выскакивал на меня из-за дверей, как засадный полк Боброка.
Через месяц полное отсутствие результата заставило его снизить обороты — может быть, он даже мне поверил, хотя, скорее всего, просто не мог больше видеть моей ухмыляющейся рожи.
Мне между тем было не до смеха. Бандит Соловей успел так прикормить дембелей и прапорщиков, что мои жалкие попытки откупиться от этой оравы двумя паечками и десятью кусками сахара только оттягивали час неминуемой расправы.
Лавируя между мордобоем и гауптвахтой, я обеспечивал полку пропитание. Наипростейшие процедуры превращались в цирк шапито. «Рыжим» в этом цирке работал кладовщик Витя Марченков. Он бухал на весы здоровенный кусище масла и кричал:
— О! Хорош! Забирай!
— Витя, — смиренно вступал я, — подожди, пока стрелка остановится.
Витя наливался бурым цветом.
— Хули ждать! — кричал он. — До хуя уже масла!
— Еще триста грамм надо, — говорил я.
— Я округлил! — кричал Витя, убедительно маша перед моим носом руками-окороками. — Уже до хуя!
Названная единица измерения доминировала в расчетах кладовщика Марченкова, равно как и округление в меньшую сторону с любого количества граммов.
На мои попытки вернуться к таблице мер и весов Марченков отвечал речами по национальному вопросу, впоследствии перешедшими в легкие формы погрома.
Получив масла на полкило меньше положенного, я, как Христос пятью хлебами, должен был накормить этим весь полк — плюс дежурных офицеров, сержантов и дембелей, в накладной не учтенных. И хотя ночные нормы я снизил до минимума, а начальника столовой прапорщика Кротовича вообще снял с довольствия (за наглость, чрезмерную даже по армейским меркам), а все равно: не прими я превентивных мер — трех тарелок на утренней выдаче не хватало бы, как пить дать.
Приходилось отворовывать все это обратно — и, взяв ручку, я погрузился в расчеты.
Расчеты оказались доступными даже выпускнику Института культуры. Полграмма, слизанные с каждой пайки и помноженные на количество бойцов, давали искомые три тарелки масла — плюс еще несколько, которые я мог бы съедать самолично, если бы меня не тошнило от одного запаха.