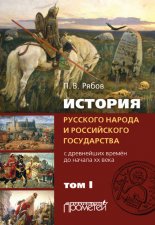Изюм из булки. Том 1 Шендерович Виктор

Прокипятите раз, и два,
И много, много раз все это.
Теперь — пишите! Но сперва
Родитесь все-таки поэтом.
Документ № 2 выглядел так.
Сергей Михалков СОВЕТ НАЧИНАЮЩЕМУ ПОЭТУ
Как мне помочь своим советом
Тому, кто хочет стать поэтом?
Чтоб написать стихотворенье,
Помножь желанье на терпенье…
Для экономии места опускаю десяток наспех зарифмованных банальностей. Заканчивалось стихотворение так:
Вот мой совет. Но и при этом
Сперва, мой друг, родись Поэтом!
Элегия (уже моего производства) была совсем короткой:
Лысеют бывшие ребята,
Бурьяном зарастает сквер,
А дядя Степа — плагиатор,
Хоть в прошлом — милиционер…
Сегодня, с высоты знания предмета, я думаю, что обвинение в плагиате было не по адресу. Наш гимнописец, скорее всего, не читал ни Раймона Кено, ни даже собственный текст в журнале «Аврора». Сварганил все это какой-нибудь бойкий литературный негр с михалковских плантаций…
Хмара вернул мне мой листок и сказал:
— Замечательно.
Я спросил: как насчет того, чтобы это напечатать? Павел Феликсович посмотрел на меня, как на тяжелобольного, и сказал:
— Виктор! Это Михалков.
Я сказал: ну и что?
Хмара посмотрел на меня так, как будто я только что на его глазах, с рожками на плоской голове, вышел из летающей тарелки.
— Вы молодой человек, — задумчиво обронил Павел Феликсович, — у вас все только начинается…
Сказавши это, Хмара замолчал, но отчего-то я понял его в том смысле, что если произведение будет напечатано, у меня тут же все и закончится. За окном стоял восемьдесят четвертый год. Не вполне оруэлловский, но все же.
В общем, конечно, я нарывался — и не исключено, что нарвался бы, но тут случилась перестройка. Яд, накопленный мною к двадцати восьми годам, понадобился аптеке, и меня начали помаленьку публиковать…
«Забавная история…»
За двухстраничный рассказ на радио платили двадцать рублей — отличные деньги, по советским временам! На бойком отхожем промысле промышляли стаи юмористов.
Игорь Иртеньев каждое воскресенье, с утра, не приходя в сознание, шарашил пару-тройку «радийных» рассказов, после чего целую неделю бесплатно писал стихи, впоследствии сделавшие его классиком.
Такое соотношение труда и заработной платы мне очень нравилось, но протиснуться в советский эфир я так и не сумел, хотя формула успеха была раскрыта, по знакомству, Львом Новоженовым.
— «Радийный» рассказ, — учил он, — это забавная история, приключившаяся с хорошим человеком…
Засим следовал пояснительный список запретов.
Нельзя было писать рассказ про старушку: среди слушателей имелись старушки, и они могли обидеться. Среди слушателей также имелись: военные, рабочие, колхозники, учителя, врачи, горожане, селяне, местные, приезжие… И все они могли обидеться!
Хорошему человеку, с которым приключилась забавная история, надлежало быть просто хорошим человеком, палка-палка-огуречик, без социального наполнения. В идеале, следовало избегать какого бы то ни было смысла вообще. Что же до смыслов политических — тут все было заминировано по периметру!
— На нашей полосе, — инструктировал Павел Хмара, — ни в каком контексте не могут появиться слова: «Андропов», «тюрьма», «КПСС»…
Черт возьми. А такие смешные слова!
Светлый путь
Иногда, впрочем, цензурный бетон давал течь в самых неожиданных местах.
На исходе брежневской эпохи в газете «Вечерний Киев», среди невинной юмористической ерунды, был напечатан многотысячным тиражом афоризм Владимира Голобородько: «Прошел путь от спермы до фельдмаршала».
Через неделю Голобородько выгнали из партии.
Для усиления комического эффекта судьба позаботилась, чтобы его звали — Владимир Ильич.
Градация времен деградации
На рабочем столе у предшественника Хмары, Ильи Суслова, заведовавшего полосой сатиры и юмора «Литгазеты» в ее лучшие годы, лежали три папки с текстами.
На первой было написано «Может быть».
На второй — «Никогда».
На третьей — «Что вы, вообще никогда!».
Самые отменные тексты, разумеется, находились в третьей папке…
Фамильные драгоценности
Илья Суслов и К° вообще любили играть с огнем.
Как-то раз (наверное, в память о записных книжках Ильфа) в «Клубе 12 стульев» объявили внутриредакционный конкурс на лучшую фамилию. Ветер легенды донес до меня две из них.
Серебряную медаль взял индейский вождь Неистребимый Коган. А первое место занял — Пал Палыч Смертью-Храбрых!
Спустя пару эпох
…по редакции журнала «Итоги» (лучшего журнала свободных девяностых) пронеслась эпидемия, виной которой стал поэт и эссеист Лев Рубинштейн: в небольшую, но беспрецедентную голову Льва Семеновича пришла фамилия чеченского террориста — Ушат Помоев!
В результате, в течение пяти минут, коллективным мозгом редакции была рождена такая «новость дня»:
«В следственном изоляторе “Лефортово” ведутся предварительные допросы таких известных террористов, как Ушат Помоев, Рулон Обоев, Квартет Гобоев, Улов Налимов, Букет Левкоев, Рекорд Надоев, Отряд Ковбоев, Подрыв Устоев, Черёд Застоев, Подшум Прибоев, Погром Евреев, Поджог Сараев, Захват Покоев, Исход Изгоев, Подсуд Злодеев, Обвал Забоев, Угон Харлеев, Загул Старлеев, Удел Плебеев, Камаз Отходов, Развод Супругов, Разгром Шалманов, Друган Братанов, Забег Дебилов, Учёт Расходов, Парад Уродов, Разбор Полётов.
В качестве подозреваемых задержаны также гражданки Чеченской республики Сиди Покудова и Вали Отседова. По некоторым сведениям, среди арестованных имеется также воевавший на стороне боевиков абхазский снайпер Партучёба…»
Рубка «хвоста»
Отделом «Сатиры & юмора» в «Московском комсомольце», в перестроечные времена, заведовал упомянутый выше Лев Новоженов. Делал он это так. Брал из рук у автора рассказик и знакомился с содержанием первого абзаца. Потом заглядывал в последний абзац, получая представление о размере текста, откладывал листки в сторону и говорил:
— Сдам в четверг.
Мое честолюбие рвалось наружу — мне надо было, чтобы меня оценили, похвалили…
— Лева! — просил я. — Ну прочти!
— Ну, чего я буду это читать? — резонно отвечал Лева. — Я же вижу: хороший рассказ…
Лев Юрьевич имел в виду размер.
Если на верстке выяснялось, что текст не влезает в полосу, его сокращали простым арифметическим способом: отсчитывали лишние знаки с конца и ставили точку в том месте, где заканчивался отсчет.
Эта процедура называлась — «рубить хвосты».
Когда однажды, эдаким образом, мне отрубили «хвост» по самые уши, я потерял пиетет и возопил дурным голосом. Лев Юрьевич переждал авторскую истерику и меланхолически поинтересовался:
— Фамилию твою набрали правильно?
— Да.
— Ну вот, — сказал Новоженов. — Сегодня еще сто тысяч человек узнают, что ты есть на свете. Скажи спасибо!
И я благодарил Новоженова, и учился у него относиться ко всему философски… Но так и не выучился, кажется.
Эстрада ждет
А насчет правильно набранной фамилии — Лев Юрьевич как в воду глядел!
Летом восемьдесят четвертого случилось одно из моих первых эстрадных выступлений. Этот дневной ужас происходил на окраине Москвы, в парке имени Дзержинского. За кулисами маялся пьяный в зюзю конферансье — москонцертовский детинушка в розовой рубахе.
— Старик, — сказал он, когда я втолковал ему, кто я и зачем пришел. — Как тебя объявить?
Видя состояние товарища по эстраде, я печатными буквами написал в тетрадке имя-фамилию, выдрал лист и отдал его в нетрезвые руки. Конферансье глянул в листок и сказал:
— Это мало.
— Нет-нет, — торопливо заметил я. — Совсем не мало. Больше ничего не надо!
— Старик! — улыбнулся детинушка и, приобняв, обдал меня запахом, свойственным здешней местности. — Ты не волнуйся, я тебя объявлю!
И он меня объявил.
— Выступает! — крикнул детинушка, как будто за кулисами ждал выхода как минимум Кобзон. — Лауреат премии журнала «Крокодил»! лауреат «Клуба 12 стульев» «Литературной газеты»! лауреат…
Минуты полторы пьяница, набирая высоту, пророчил мне мои будущие лауреатства, и закончил незабываемо:
— Виталий Шендрякевич!
Напутствие
В те годы я частенько приходил в «МК» — и не только к Новоженову. Через пару дверей по тому же коридору в «Комсомольце» работал Александр Аронов.
Простенькая песенка «Если у вас нету тети…», ставшая классикой после выхода «Иронии судьбы», почему-то не сделала известным ее автора. Поразительным образом Аронов не умел — или не хотел — быть знаменитым!
Его поэзия — мощная, самобытная (как невозможно было ни с кем перепутать и самого Аронова: кряжистого, похожего на сильно выросшего тролля), — еще ждет настоящего признания.
Хорошему стихотворению некуда торопиться, но прочтите «Когда горело гетто…», прочтите «Остановиться, оглянуться…», прочтите «1956 год» — и вы удивитесь, что прожили десятки лет, не зная ни этих стихов, ни фамилии их автора.
История, однако, не про стихи, а про практическое напутствие, данное Ароновым перед моей женитьбой (невеста обитала в том же редакционном коридоре).
— Жениться, — сказал он, — нужно один раз, потому что каждая следующая жена хуже предыдущей!
И блистательно развил этот сомнительный тезис.
— Ей не можешь простить не только ее недостатки, но и отсутствие достоинств, которые были у предыдущих жен…
«Не делайте этого…»
Однако и единственная моя свадьба чуть было не расстроилась уже в ЗАГСе.
Мы пришли подавать документы и сели заполнять бумажки в кабинете у какой-то государственной тетушки. Тетушка включила радио, и строгий голос из приемника сказал:
— Не делайте этого!
Наши руки дрогнули и замерли над заявлениями.
— И скажите своим друзьям, чтобы этого не делали! — распорядился голос.
Через пару секунд выяснилось, что речь идет о разрушении муравейников.
Напоследок зловредная радиоточка спела:
Нам дворцов заманчивые своды
Не заменят никогда свобо-оды!
Сцендвижение
Из армии я вернулся в некондиционном виде: оплывший от дембельской жизни, растолстевший от капусты с водой и забывший, что такое обычный кувырок через голову.
Не имея в виду ничего, кроме восстановления организма, я начал ходить на тренинг в Щукинское театральное училище — к родному со студийных времен Андрею Борисовичу Дрознину. Вставал сзади — и потел заодно с первокурсниками.
Тело возвращалось в человеческое состояние неохотно, зато помаленьку происходила реабилитация психическая: я снова был при деле, при людях, при театре…
Занятия Дрознина были интеллектуальным наслаждением: он гнул тела, одновременно атакуя мозги. Один из самых парадоксальных и штучных людей, которых послала мне щедрая судьба, Андрей Борисович всегда был немного миссионером!
И вот, будучи, так сказать, «дембелем» табаковской студии, я помаленьку втянулся в преподавание: сначала просто ассистировал Дрознину, а потом его куда-то вызвали с занятий, и, убегая, он оставил меня за себя…
Как сказано у О. Генри, «песок — неважная замена овсу», но провести разминку я был уже в состоянии. Ну, и пошло-поехало…
В один прекрасный день я провел с первым курсом целое занятие.
Потом судьба пошла на второй круг — Табаков набрал в ГИТИСе новый курс, и я начал преподавать в том же «табаковском» подвале на улице Чаплыгина, где провел юность.
И еще восемь лет потом работал на курсах Гончарова, Хейфеца, Захарова, Фоменко… Полы в помещении гитисовского тира, где проходили занятия по сцендвижению, крепко пропахли моим потом. Скажем так: и моим тоже!
Педагог я был, полагаю, на крепкую троечку, не выше, — зато сегодня, поймав в разговоре фамилию какой-нибудь звезды театра и кино, имею право небрежно кивнуть: а-а, да-да… мой ученик!
Без разнарядки
В 1986-м черт дернул меня подать документы в аспирантуру ГИТИСа.
Сдавши на пятерки специальность, я доковылял до экзамена по истории партии (другой истории, как и другой партии, в стране еще не было).
Взявши билет, я сразу понял, что сдам на пять.
Первым вопросом стояла дискуссия по нацвопросу на каком-то раннем съезде ВКП(б), вторым — доклад Андропова к 60-летию образования СССР. Все это, как назло, я знал назубок и, быстренько набросав конспект ответа, стал слушать, как комиссия допрашивает абитуру, шедшую по разнарядке из братских республик.
У экзаменационного стола мучалась девушка Лена из Киргизии. Зоя Космодемьянская рассказала немцам больше, чем эта несчастная — приемной комиссии.
Проблема экзаменаторов состояла в том, что повесить Лену они не могли: это был ценный республиканский кадр, который следовало принять в аспирантуру.
— Лена! — сказали ей наконец, — вы не волнуйтесь. Назовите нам коммунистов, героев Гражданской войны!
— Чапаев, — сказала Лена, выполнив ровно половину условия.
Комиссия тяжко вздохнула.
— А еще?
— Фурманов, — сказала Лена, выполнив вторую половину условия.
Ждать большего не имело смысла. Комиссионные головы переглянулись промеж собой, как опечаленный Змей Горыныч.
— Лена, — тактично подсказала одна голова. — Вот вы откуда приехали? Из какого города?
— Фрунзе, — сказала Лена.
Змей Горыныч светло заулыбался и закивал всеми головами, давая понять, что в поиске коммуниста-героя девушка находится на верном пути.
— Фрунзе! — не веря своему счастью, сказала Лена.
— Ну вот видите, — сказала комиссия. — Вы же все знаете, просто волнуетесь…
Получив «четыре», посланница советской Киргизии освободила место у стола, и я пошел за своей пятеркой с плюсом. Мне не терпелось возблагодарить экзаменаторов за их муки, и я сходу обрушил на них свою эрудицию.
Первым делом — подробно изложил ленинскую позицию по национальному вопросу. Упомянул про сталинскую. Отдельно остановился на дискуссии по позиции группы Рыкова — Пятакова. Экзаменаторы слушали меня, мрачнея от минуты к минуте.
К концу ответа у меня появилось тревожное ощущение, что я рассказал что-то лишнее.
— Все? — сухо поинтересовалась дама, чьей фамилии я, к ее счастью, не запомнил. Я кивнул. — Переходите ко второму вопросу.
Я снова кивнул и начал цитировать доклад Юрия Владимировича Андропова. Вывалив его наружу крупными кусками, я посчитал вопрос закрытым. И совершенно напрасно.
— Когда был сделан доклад? — поинтересовалась дама.
Я прибавил к двадцати двум шестьдесят и ответил:
— В восемьдесят втором году. В декабре.
— Какого числа? — уточнила дама.
— Образован Союз? Двадцать второго.
— Я спрашивала про доклад.
— Не знаю. — Я мог предположить, что и доклад случился двадцать второго, но не хотел гадать. Мне казалось, что это непринципиально.
— В декабре, — сказал я.
— Числа не знаете, — зафиксировала дама и скорбно переглянулась с другими головами.
И вдруг, в долю секунды, я понял, что не поступлю в аспирантуру!
В течение следующих двадцати минут я не смог ответить на простейшие вопросы. Самым простым из них была просьба назвать точную дату подписания Парижского договора о прекращении войны во Вьетнаме. Если бы я вспомнил дату, меня бы попросили перечислить погибших вьетнамцев поименно.
Шансов не было.
Как некогда говорил нам, студийцам, Костя Райкин: «Что такое страшный сон артиста? Это когда тебя не надо, а ты есть».
Я понял, что меня — не надо, получил свои два балла и пошел прочь.
Статус
Я ехал после того экзамена домой, стараясь не смотреть в отражение в темном стекле вагона. Из стекла на меня смотрел неудачник. Окончательный лузер, полное социальное ничтожество, полунищий графоман…
Сегодня я вспоминаю об этом с печалью совершенно иного рода.
О господи, — ну зачем, зачем была мне та аспирантура? Ведь я же видел, что близко не подхожу к высотам, на которых ведут восхождение мои учителя по театральной профессии — Дрознин, Карпов, Морозова?
Видел.
Я же понимал, что мое место — за письменным столом? Понимал.
Но батюшка «совок» еще крепко сидел во мне и требовал статуса. Аспирант, кандидат, доктор наук, место в президиуме, венок от месткома… Чтобы все, как у людей!
Через год, запасшись разнарядкой , я, сам не знаю зачем, поступил в эту чертову аспирантуру, чтобы бросить ее перед самой защитой.
Я писал каждый день, я жил пишмашинкой «Эрика» и своими листочками на скрепочках, я был все свободнее и веселее в этом волшебном занятии и всем организмом чувствовал, что хочу заниматься только этим, — но еще несколько лет по инерции продолжал поливать потом полы гитисовского тира и гимнастического зала в Щукинском училище…
Сила воображения
Нас, ассистентов-стажеров, было в Щукинском училище четверо. Однажды, придя в назначенный день к окошечку кассы, мы, вместо ассигнаций, получили вежливое сообщение о том, что денег нет.
— Как нет?
А так — нет, и все! Перед нами закончились.
Год на дворе стоял восемьдесят восьмой, советская машина на ходу отбрасывала колеса, и взятки были гладки.
Но дома хотела есть маленькая дочь, и я пошел к ректору.
Ректор Пелисов, устало глядя на меня, подтвердил: денег нет. При всем его желании и сочувствии. Через месяц отдадут непременно, а сейчас — увы. И ректор коротко развел руками, давая понять, что диалог закончен.
Но мне уходить было некуда.
— Может быть, попробуете их где-нибудь найти? — в растерянности спросил я.
— Где я найду? — пожал плечами Пелисов.
Найти надо было четыреста рублей (по стольнику на стажера). Искомая цифра встала у меня перед глазами, и вдруг я понял, что недавно видел ее наяву. И вспомнил, где именно видел.
В ведомости я ее видел, разумеется, и много раз!
Напротив строчки «Симонов Евгений Рубенович».
— Георгий Александрович, — холодея от собственной наглости, сказал я. — А вот если бы этих четырехсот рублей не хватило на зарплату Евгению Рубеновичу, — как вы думаете, они бы нашлись?
Я сказал это — и сам представил эту картину. Вот Евгений Рубенович приходит в кассу училища; вот ему говорят: знаете, а вам денег нет (всем есть, а вам — нет)…
Вот Щукинское училище взлетает на воздух…
Видимо, перед глазами ректора прошла та же картина, потому что он сильно изменился в лице.
— …нашлись бы деньги? — спросил я.
— Нашлись бы, — угрюмо согласился ректор и только тут, кажется, в первый раз посмотрел на меня, а не сквозь.
Назавтра нам выдали наши стольники.
Экзамен
Я веду предварительное прослушивание, принимая на себя первый вал абитуриентов: по семьдесят страждущих в день, с перепадами репертуара от Цветаевой до Асадова…
«Балладу о зенитчицах» Роберта Рождественского я выучил за это время наизусть, сцену Наташи и Сони из «Войны и мира» — близко к тексту… Однажды мне прочли стихи Баратынского, объявив их автором Евтушенко. Какая, действительно, разница? — Евгений и Евгений!
А однажды…
В тот день я позвал на прослушивание свою молодую жену. Решил подраспустить хвост: мол, знай наших, принимаю экзамены в Щукинском училище! Ну, и довыпендривался.
Со стула поднялась девушка и без лишних формальностей (фамилия, имя, возраст, город, имя автора, название произведения), приблизившись ко мне почти вплотную, сказала интимным голосом:
— Я хотела бы жить….
Она внимательно посмотрела мне в глаза и уточнила:
— …с вами.
Я похолодел. Девушка была хороша; грудь ее неровно вздымалась в полуметре от моих глаз.
— В каком-нибудь маленьком городе… — прикинула девушка обстоятельства нашей совместной жизни. Давая, впрочем, понять, что готова рассмотреть варианты. Кажется, в крайнем случае, она была готова пожить со мною и в большом городе.
— У тебя трудная работа, милый, — сказала жена после прослушивания.
Да на износ!
Танцы с народными
Я работал во МХАТе…
Звучит нагловато, но факт есть факт: пластические номера в одном тамошнем спектакле в конце восьмидесятых — моих рук дело. Особого следа в драматическом искусстве от этого спектакля не осталось, зато какие воспоминания!
Главную мужскую роль играл замечательный Петр Иванович Щербаков. По замыслу драматурга, ближе к финалу он должен был танцевать с героиней (народной артисткой Гуляевой) некое танго…
Я придумал совсем простенький рисунок, но добиться его выполнения от двух «народных» не мог, хоть убей! Опытным путем я выяснил, что если с ними «пройти» танго три раза подряд, на четвертый они начинают попадать в нужную долю. Проблема, таким образом, заключалась в том, чтобы этот четвертый раз приходился на спектакль… Но тут-то меня и ждал облом.
На мой трудовой энтузиазм народные артисты реагировали сдержанно. Говоря определеннее, на репетицию перед прогоном приходил только я. День сдачи спектакля приближался. Я начинал вибрировать.
— Маэстро, — сказал Щербаков, — ты не волнуйся. Мы же артисты. На сдаче все сделаем… Вот увидишь!