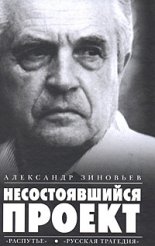Дерево на твоем окне Штиль Евгений

– Здрасьте! Это ж финская сантехника, что в ней хорошего! – Санька поглядел на меня снисходительно. – Я, брат, пятнадцать лет в слесарях оттрубил, вот этими самыми ручонками тысячи кранов сменил, а потому знаю, что говорю. То есть краны у них еще худо-бедно работают, но унитазы, это, брат, шалишь!
– Да ты что?
– Точно тебе говорю! Унитазы у капиталистов – фуфло в сравнении с нашими! – Санька хмыкнул. – Так что тут соревнование с социализмом они вчистую проиграли.
– Да почему проиграли-то? – не выдержал я.
– Потому, что в наших социалистических унитазах – терпеливо пояснил он, – геометрия насквозь продумана. Ты сам понаблюдай, как идет смыв у них и у нас.
– Ну?
– Баранки гну! У них все в воду плюхается – да еще с приличной высоты. Уходишь потом мокрый до поясницы. Потому, кстати, биде и придумали. Говорят, для женщин, а на самом деле – для нашего брата… И потом, если, скажем, надо печень почистить, камушки посчитать, у нас это просто и удобно.
– Ты, правда, чистил печень?
– А как же? Другие, может, стесняются, а я прямо говорю! Хочешь пить, держи печень в форме! А камней в наших печенках, знаешь, сколько? – Санька утробно хохотнул. – И не узнаешь никогда, если евросантехникой будешь пользоваться… Да ты не спеши раздеваться, сейчас гулять пойдем. Познакомишься с местными достопримечательностями.
– А они имеются?
– Кое-что есть.
– Это радует.
– Еще бы… – не теряя времени, Санька вывел меня из номера, по-дружески взял за руку. – Короче, запоминай: грязь у них – на втором этаже – почти рядом с бильярдом.
– Грязь?
– Ну, да. В смысле – лечебная, ее всем прописывают. Массаж, ептыть, на шестом, а сауна – на первом. И все, прикинь, в разных корпусах. То есть это вроде как одно здание, но нумерация везде своя, и количество этажей тоже везде разное. Скажем, у нас с тобой двести тридцатый номер, так ты его здесь еще дважды встретишь. Сначала в центральном крыле, а потом в правом дальнем.
– А мы с тобой сейчас где?
– Мы в левом крыле… Да ты не удивляйся, у них тут везде крылья. Это ж реальный пентагон! В нашем крыле – четыре этажа, в дальнем – пять, в центральном – все шесть. Короче, познакомишься с тем самым, что называется беговней…
Пророчество насчет «беговни» я понял, а вот насчет множественных «крыльев» – не совсем.
– А почему курорт назвали «Самоцветом»?
– Не знаю. – Санька пожал костлявыми плечами. – Наверное, водились тут какие-нибудь камушки. Урал же, ептыть…
Вспомнив соседку по вагону, оставившую в сумке каменные поделки, я понятливо кивнул. Уж камней-то на Урале хватало во все времена. В отличие от груш, авокадо и всевозможных киви.
В общем, сосед мне понравился. Душевный парень с нормальным прибабахами – вполне годный для скоротечной дружбы. Щетину он принципиально не брил, рядился как художник восьмидесятых – в узкие джинсы и вольный свитер. Под свитером Санька прятал впалую грудь, а кадыкастую шею украшал веревочкой с замысловатым брелком из циркония. И хотя выглядел Санька на верный полтинник, сам себя он именовал юношей. Впрочем, как я успел сообразить – по здешним меркам он и впрямь был чистокровным «юношей», первым парнем на деревне (а с моим приездом, увы, уже вторым).
– Зря ты только на поезде пёрся, – мягко пожурил сосед. – Считай, на все процедуры опоздал. Обед проморгал, ужин пропустил.
– Это не моя вина, – стал я оправдываться. – Так мне объяснили в агентстве. Сказали, близко – всего два часа. Думал, успею.
– Вот и успел, ептыть! Два часа – это на машине да по шоссе, а паровозы здесь медленно ползут – считай, втрое дольше, да еще у каждого семафора кукуют. Теперь останешься без приема пищи. На довольствие только завтра поставят.
– Ничего страшного, потерплю.
– Во, дает! Чего терпеть-то? Мы свой фуршет зафуганим! Все равно кормят паршиво. Народ в буфет бегает, в столовку поселковую – вот и сообразим что-нибудь… – Санька разухабисто махнул рукой. – А бабешкам из агентства не верь. Сам должен понимать, у них задача такая – обувать нашего брата и зелень косить. Я тоже сначала повелся: они ж мне трендели, что пива тут море, что молодых – пруд пруди и, типа, каждый вечер танцы-шманцы с шашлыками.
– А на самом деле?
– На самом деле – полный фарш. В смысле – финиш. Погулять-то, конечно, можешь – от нового санатория к старому и обратно, но на кормежку особо не рассчитывай. Умереть с голода не дадут, но и брюхом приличным не обзаведешься.
Мы вышли из здания, и Санька тут же браво сиганул через ров, перегородивший тротуар. Я последовал его примеру и едва не поскользнулся. Под ногами злорадно чавкнуло.
– Ты поосторожнее, – предупредил Санька. – Тут кругом канавы. Местные пациенты даже не гуляют.
– А что делают?
– Старики в окна смотрят, кто помоложе – в телевизоры. Ну, а самые бравые выбираются через черный ход. Там канав нет, и до леса рукой подать. Вот туда в основном и шастают. За грибами да за травками.
– А зачем им грибы?
– Как зачем? Запас на зиму. Это ж пенсионеры! Старая гвардия. Кто солит, кто сушит – и все, прикинь, прямо в номерах! – Санька вновь хохотнул, и я немедленно припомнил недавнюю передачу про бегемотов. При желании Санька мог бы их запросто передразнивать. Я глянул на него с уважением. Об этом своем таланте он наверняка не догадывался.
– Я поначалу команду пытался собрать для бильярда, – продолжал соседушка, – так не поверишь, – после каждого удара за корвалол с валокордином хватались.
– Корвалол – это грустно… А зачем роют-то? Я про канавы с ямами? Сокровища ищут?
– У нас вся страна сокровища ищет… Говорят, зал с дискотекой собираются пристраивать. Это, значит, еще одно крыло. Молодых, видать, мечтают заманить. Я ведь сказал уже: тут все население – полторы сотни старух да два десятка дедов. Мы с тобой, считай, самые юные.
– Да уж, весело.
– Теперь-то ты понял, куда попал?
– Кажется, понял…
– Если поискать, можно, конечно, найти фигурку поприличнее, но и то – из медперсонала, а они там капризные да корыстные. Капитализм, ептыть… – Санька наморщил лоб и сотворил сосательное движение губами. По крайней мере, с мимикой у него тоже наблюдался полный порядок.
– Зато свобода… – решил я его подразнить.
– Чего? – изумился Санька. – Какая свобода, Димон! О чем ты? Я про эту грусть давно уж все знаю!
– Неужели?
– А то! У нас обормот один гриппом в Израиле заболел. У него, видишь ли, температура под сорок скакнула, вот он и завибрировал. «Скорую», дурак, вызвал. Они, конечно, приехали, увезли, но как узнали, что он не свой, да еще без страховки, тут же и сбросили в коридоре. Прикинь, сутки мужик пролежал на полу! И ни одна собака близко не подошла! У нас бы уборщица аспирину дала или врачуган какой поинтересовался, а там хренушки! – Санька яростно потряс перед моим лицом пальцем. – Сам, короче, оклемался и уполз. А потом еще, прикинь, счет прибежал по почте. За скорую и место на полу. Вот такая, ептыть, у них свобода. И у нас такая скоро будет… – Санькины брови вагончиками сердито столкнулись на переносице, снова раскатились в стороны. – Только я, Димон, к этим вещам проще отношусь. Что бизнес, что политика – все по большому счету говно. По мне – так тот строй лучше, где старикам хорошо и яблок дешевых полно. Про это еще Задорнов толковал – и правильно, между прочим! Где деткам дают возможность на великах гонять, и где женщины добрые да отзывчивые. Думаешь, чушь несу?
– Почему же? Совсем даже не чушь.
– Вот видишь! А нынешних шмарочек добрыми сложно назвать. Все как одна жилплощадью интересуются. А уж деньги так научились считать, что любое желание пропадает. Подари им букетик, они шубу норковую попросят! Или колье какое… – голос Саньки горестно дрогнул. – Дети-то наши, конечно, привыкнут, а мы уже все – ржавь и лом. Только в переплавку годимся.
– Брось, – постарался я утешить соседа. – Все, что ни делается, все к лучшему.
– Но мир-то ведь катится!
– Это, смотря, чей и куда.
– Да у всех, Димон, катится! У всех – и в одно и то же отхожее место. Потому как с бабами нынче полный абзац. Причем – как внутренне, так и внешне.
– То есть?
– Ты сам приглядись, – что ни грудь, то слезы. Либо, значит, напрочь отсутствует, либо силикон. Ляжек нет, одно желе. А женщина без хороших ляжек – что машина без колес! – Санька по-змеиному зашипел, вдыхая и выдыхая воздух. – С мозгами – еще хуже. Раньше-то, помнишь, наверное, при тоталитарном режиме – на трамваях ездили, книжки читали, на физмат рвались. Да что физмат, – с последней вешалкой можно было про Луну потрендеть, про Шукшина с Гагариным или человека снежного. Сейчас иной коленкор: куда ни плюнь, кругом экономисты с юристами, а кто не юрист, так ножки перед начальством раздвигает. В головенках – циферки, в мечтах – яхты с машинами. И прикинь, все норовят сразу на иномарку скакнуть. Это они, типа, перед мужиками так выдрючиваются: мол, у них права и власть, а у нас шиш с пеплом… – Санька грустновато примолк. То ли вспомнил о чем-то своем, то ли устал от непростой философии.
Пользуясь нечаянным затишьем, я более внимательно оглядел окрестности. Судя по тому, что канавы со рвами закончились, территорию нового санатория мы успели покинуть. Теперь дорога тянулась по уютной деревенской улочке, и шеренга неработающих фонарей провожала нас безмолвным караулом. Лениво кашляли собаки, и в небесных сгущающихся чернилах все чаще мелькали тени летучих мышей. Некоторые из них умудрялись скользить прямо над нашими головами – то ли играли, то ли приглядывались к незваным гостям. Хотел бы я знать, кем мы были для них – страшноватыми монстрами или еще одним медлительным явлением природы. По крайней мере, в скорости мы им безнадежно проигрывали. Я успел подсчитать, что пока мы двигались от одного фонарного столба к другому, эти летуны успевали заложить над нами с дюжину виражей. Оставалось только радоваться тому, что поселок принадлежал к разряду карманных, и даже при таком улиточном продвижении путь наш долго не затянулся. Очень скоро мы оказались возле живописных развалин.
Сталинские соколы
– Вот оно – старое здание санатория, – не без торжественности объявил Санька. – Тоже, между прочим, «Самоцветом» называлось. Мы-то сейчас в новом прохлаждаемся, а тут прежний корпус – аж с сорок девятого года. Хочешь верь, а хочешь нет, но построен по именному указанию Иосифа Виссарионовича.
– Не может быть, – вяло усомнился я.
– Может, Димон! Еще как может! Он ведь только и знал, что ездить в Кунцево да на озеро Рица. Видать, надоело. А тут ему про Урал нашептали, объяснили про целебную грязь. Кроме грязи здесь, конечно, больше ничего не наблюдалось, но вождь клюнул. А может, чуял уже, что недолго ему вековать осталось…
Мы остановились возле развалин. Разглядывая широчнный фриз здания колонны, пилястры и уцелевшую лепнину с гербом Советского Союза, я поневоле впал в задумчивость. Собственно, всей информации у меня и было: сюда, в «Самоцвет», собиралась Настя. Кто-то расхвалил ей курорт и тоже не забыл помянуть про намерение вождя отдохнуть среди сосен Урала. Однако не вышло. Сначала удерживали «безродные космополиты» да необходимость восстанавливать разрушенное войной хозяйство, потом происки Шостаковича с Прокофьевым, а после пошла завариваться каша в расчлененной Корее. Жизнь не притормаживала ни на секунду, выпекая одно событие за другим. То и дело норовили взбрыкнуть Китай с Албанией, не оправдал надежд новоиспеченный Израиль. А после грянул пасмурный пятьдесят третий с его неловким переворотом и подозрительной гибелью великого инквизитора. Вот и получилось, что со строительством «Матросской Тишины» вождь успел, а с грязевой лечебницей припоздал.
Впрочем, время было суровое, и санаторий все равно построили – причем в рекордные сроки, выбрав место на скалистых берегах реки Реж, эшелонами нагнав сюда строителей-арестантов. Чуть позже те же эшелоны, но с другими вагонами, повезли сюда на лечение сталинских питомцев. Соколы и соколята, так их тогда называли. Они и не ведали, что порхать им оставалось очень недолго. Уйдя в иной мир, вождь повлек за собой и большую часть своей плечистой гвардии. Кукурузный секретарь с сокольим племенем особо не церемонился, и в качестве курорта уральские земли более не рассматривались.
Капали месяцы, текли годы, – санаторий ветшал. В запустенье приходил главный корпус, на метр с лишним обмелело грязевое озеро Молтаево. И все же окончательный кирдык санаторию настал в шестьдесят пятом, когда решено было построить новое здание – более комфортное и более скучное. Во всяком случае, разницу между старым и новым я имел возможность наблюдать воочию. Новое поражало размерами и убивало безвкусицей, в старом – полуразрушенном и опустошенном – поныне угадывался страшноватый и загадочный космос убежавшего прошлого. Мы стояли над развалинами и молчали. Соответствующее настроение усиливала спустившаяся на землю вечерняя тишина. Для меня, вечного горожанина, это само по себе было в диковинку, и потому особенно остро воспринимались звуки, исходящие от древнего санатория. Черные окна напоминали бойницы, и казалось, кто-то там временами бродит – то ли призраки мерзлых лет, то ли здешние бомжи.
– Это пацанва, – угадал мои мысли Санька. – Тут под зданием подвалов прорва, – вот они и ползают туда стаями.
– Странно… Что им там делать?
– Как что? Тискаться, само собой. Взрослые-то сюда носа не суют, так что никаких помех. – Санька лениво бросил камушек в сторону здания, но не докинул. – Мне один козырь рассказывал, что у них там и койки с матрасами, и столы с табуретами. Так что пацанва не скучает, бегает сюда практически каждый вечер. Аккурат – в это самое время.
– Ты что, следишь за ними?
– А чего следить! Они и не скрываются. Дело-то молодое, азартное. Прикинь, старше четырнадцати ни одного нет. Тинэйджеры, блин. Малолетки… – Санька в сердцах сплюнул. – Эти, не сомневайся, найдут, чем себя развлечь.
Я задумчиво глянул на него.
– Думаешь, они умеют развлекаться?
– Ты шутишь? Еще как умеют! Картишки, ширево, то-се… Могут клею порадоваться, а могут и бухлу с сексом… Чего так смотришь? Первый раз слышишь? – Санькино фырканье напоминало уханье филина. – Это мы с тобой в вагину женскую после двадцати лазить учились, а ныне – век акселератов, тайны интима в десять лет постигают. Интернет, ептыть, – он и сюда добрался!
– Мда… – я поглядел в сторону темнеющей махины леса и подумал, что издалека он напоминает припавшего к земле мохнатого зверя. Желание говорить о подрастающем поколении начисто пропало. – Слушай, а ты вот про грибы толковал…
– Ну?
– А как здесь с рыбалкой. Рыба в реке еще водится?
– Откуда мне знать? – Санька пожал плечами. – Старики из местных вроде сидят с удочками, только я лично сюда за другой рыбалкой приехал… Кстати, уже и время подступило.
– В каком смысле?
– В том самом, – Санька постучал расплющенным ногтем по ручным часам. – Через полчаса начнется караоке, потом свет потушат, объявят пляски-таски. Тухловато, конечно, но все веселее, чем в ящик пялиться… Так что давай разворачиваться.
– Нет, Сань… – я мотнул головой. – Ты иди, я здесь еще покурю.
– Чего ты? – искренне удивился Санька. – Или задумал чего? Так зря это, сразу тебе говорю. Женского контингента здесь нет, а вот говна по углам – выше крыши. Разве что пятиклассницу какую склеишь, но учти, это статья. Им, соплякам, можно, а нам нет.
– Да мне другое, – успокоил я соседа. – Тишину послушать, воздухом подышать. Я ведь только-только после города. Привыкнуть надо.
– Ах, это… – Санька упихал свои длиннопалые кисти в карманы, ловко и далеко циркнул слюной. – Ну, давай дыши. Только не заблудись потом. Дорога тут, конечно, одна-единственная, но станет темно – поплутаешь.
– Ничего, выберусь.
Санька покачал головой.
– Смотри, я предупредил… Если что, дождись луны, посветлее станет.
Кивнув на прощание, Санька заковылял по дороге. Я глядел ему вслед и наблюдал, как он растворяется в сгущающихся сумерках – все равно как кусок сахара в черном кофе. Еще немного, и я остался с санаторием Иосифа Виссарионовича один на один.
***
Я продолжал молчать, хотя та же Настя, наверняка, назвала бы это беседой. Между мной и чем-то, что осталось здесь после Него. Хоть и не ездил сюда вождь и, возможно, даже не собирался, но печать его имени, словно тень грозовой тучи, успела лечь на развалины. Невольно подумалось, что вздумай он все-таки посетить «Самоцвет», поселок превратился бы в подобие Мекки. И рекламы бы никакой не понадобилось.
Переместившись чуть левее, я всмотрелся в широченный зев стенного провала. Взгляд выловил из полумрака бледные тела колонн, остатки свисающей с потолка проводки, просторный пол с сохранившимся кое-где паркетом. В этом зале наверняка проводились собрания, а может, даже танцевали под музыку оркестрантов. Само лечение, верно, проходило в дальнем крыле, сразу за столовой, а это место отводилось под различного рода торжества.
Исследовательский дух все больше овладевал мной. Я не изучал кладку и не бродил под щербатыми сводами – я просто внимал звукам и шорохам, проистекающим от здания, глотками впитывал ауру той далекой эпохи, что на одних наводила ужас, других заставляла петь гимны и пить горькую.
Со зрением тоже творилось занятное. Я воочию видел фигуры людей, прогуливающихся между уцелевшими колоннами. Ладонями они оглаживали на себе мундиры, а справа и слева от них семенили улыбающиеся матроны. Пожалуй, они имели право на улыбку – то время казалось им лучшим из всех. Оно познакомило их с бдительным страхом, но оно же наделило их невиданной властью – властью, которую знавали разве что в древнем рабовладельческом мире. Собственно, для того и создаются империи, чтобы наслаждаться кушаньем под названием «власть». Блюдо – откровенно плебейское, но голову кружит почище водки. И подсесть на него проще, чем на наркотики. Только раз и стоит попробовать. Не зря толкуют, что испытание богатством выдерживает половина людей, испытания властью не проходит никто. Для того и режут президентские сроки, для того и меняют сенаторов с депутатами. Власть – гигантская коптильня, над которой, скукоженные и подсушенные, вывешиваются лоскутки душ. Чтобы обуглиться и сгореть, времени требуется совсем немного…
Я шагнул в тень здания, рукой притронулся к одной из колонн. Странная судорога прошла по телу, слуха коснулись бравурные звуки незнакомого марша. Неожиданно представилось, что, переброшенный в тело следователя МГБ, я приехал сюда на отдых – поправить пошатнувшееся здоровье, успокоить натруженные нервы. И то сказать – пережевывать живых людей без болезненных колик, да еще в таком количестве – не всякому дано. Тут даже не нервы нужны, а подобие арматуры – стальной и титановой. Так что без лечебной грязи было никак: она питала наши ослабевшие мышцы, высасывала шлаки с сомнениями, подчищала гудящую память. И почему нет? Грязь, в сущности, та же земля, – ей в итоге обгладывать наши мощи, перемалывать в труху кости, переваривать надежды подчерепного пространства. Почему же не начать то же самое делать при жизни? Полтора десятка ванн, курс электротока на ночь – и можно снова браться за наган.
Впрочем, не все и не всегда хватались за наганы. Если верить смешному семейному преданию, с именем Иосифа Виссарионовича была связана история освобождения одного из моих дедушек. То есть дед Михаил с грозным Сталиным, по счастью, не встречался. Подобно многим другим он трудился на производстве, выдавал рекордные показатели и во что-то, конечно же, верил. И хоть внутренне не одобрял войны, на финскую бойню все же угодил по призыву. В ту неласковую пору мнением граждан никто особо не интересовался, и красивая Карельская земля приютила косточки многих тысяч наших соплеменников. Дед тоже был ранен в грудь, однако, провалявшись на госпитальной койке около полугода, вернулся в итоге домой. Даже умудрился прожить после той мясорубки еще около десяти лет, хоть и страдал от давления, мучился от жестоких головных болей. От инсульта, в конце концов, и умер.
А вот дед Петр, отчаянный забияка и большой любитель «зеленого змия», на предложение добровольно отправиться в Финляндию дерзко ответил, что писать заявления не будет. Мол, на шее три пацана, которых растить и кормить, да еще старенькие родители в далеком Ирбите – словом, послал всех куда подальше. Дерзкий ответ проглотили, но в роковые списки бунтаря, понятно, внесли. Дед работал тогда на номерном московском предприятии, однако каких-то там особых должностей не занимал, посему и не имел никакого отмаза от войны. Иначе говоря, бронь ему была не положена. Разумеется, друзья и приятели стали обходить строптивца стороной, начальство замерло в ожидании. Ну, а далее произошло то, что проверить и отследить было никак невозможно. Тем более что подписывать подобной силы документы грозный Иосиф никогда не любил. Однако просматривать – все же порой просматривал. Во всяком случае, родня моя любила торжественно пересказывать по праздникам байку о том, что фамилия «Щупов» из расстрельного списка каким-то чудом все же попалась на глаза всевидящему вождю и даже крепко его рассмешила. Кто-то из близстоящих тут же разъяснил грузину нехитрую этимологию слова. Дескать, прадед отказчика, видимо, крепко любил пощупать слабый пол за вымя – вот и угодил в Щуповы. Одни выбивались в Орловы, Соколовы и Львовы (верно, в подражание страшноватым гербам), а эти оказались Щуповыми… Отсмеявшись, седовласый Иосиф не поленился вникнуть в подробности дела, а, вникнув, собственноручно перечеркнул решение тройки. То ли оценил отвагу деда (а по тем временам это, действительно, было отвагой), то ли решил внести каплю забавного разнообразия в поток приговоров.
Как бы то ни было, фамилия уцелела. Бунтаря выпнули из столицы обратно на историческую родину, но тем дело и ограничилось. А дед Петр еще на протяжении многих лет куролесил и выстраивал по струнке всех окрестных забияк. В красивую байку мало кто верил, однако в семейные скрижали история все-таки угодила.
Если поминать деда Петра, то было еще и такое, что пришлось ему раз повторить подвиг Михаила Ломоносова. Возвращаясь с ночной смены, дед подвергся нападению грабителей и вступил с ними в неравный бой. В отличие от статного Ломоносова дед был сухощав и невысок, однако кулаки имел страшные. Этими самыми кулаками он и загнал грабителей в речку Ницу (жили они тогда уже не в Москве, а в Ирбите), да еще сумел отнять в бою симпатичную финку с наборной рукоятью и жутковатой формы лезвием, которую и принес домой в качестве законной добычи. История была славная, и я очень жалел, что заветный ножик не уцелел. Сразу после войны население подверглось тотальному разоружению, и большинство трофеев того времени погибло в желудках мартеновских печей. Между тем, по рассказам того же отца, в доме было полным-полно оружия – российского, немецкого, американского и даже такого вот самопально-воровского. К слову сказать, любимой игрушкой отца была мелкокалиберная американская винтовка, из которой он, пятилетний карапуз, однажды всерьез собирался стрелять по громилам, пытавшимся в отсутствие родителей сломать дверь и ворваться в их маленькую квартирку…
Откуда-то сверху упал кусок штукатурки, скрипнул шифер, и я торопливо отступил в сторону. Неспешным шагом двинулся вдоль облупленного фасада. Двухэтажное, украшенное лепниной здание тянулось на верную спринтерскую дистанцию. Ровная асфальтовая дорожка окаймляла бывший санаторий, и я бездумно шагал по ней, ловя напряженным слухом шепотки и вздохи, доносящиеся со стороны руин. Справа и слева тянулись густые заросли барбариса, и, машинально срывая ягоды, я отправлял их в рот. Смешно, но в детстве я знал только леденцы под таким названием, а вот ягоды довелось попробовать сравнительно недавно. Впрочем, это тоже укладывалось в Санькину теорию о сегодняшней акселерации. Гниение – процесс неспешный, но и его при желании можно ускорить.
Вздрогнув, я внезапно увидел, как из черного лаза одного из разломов стремительно прорастает нелепая тень – совсем невысокая, в широченном одеянии, по комплекции вытягивающая лет на восемь или девять. Окончательно вынырнув из земли, парнишка с пыхтением отряхнул перепачканные локти. Рассмотрев меня, в свою очередь вздрогнул. Впрочем, он был из местных – и праздновать труса не спешил.
– Здравствуйте, – вежливо, совсем как в иных деревнях, поздоровался он.
– Здравствуй, – я несколько растерялся. Должно быть, от растерянности спросил: – Время случайно не подскажешь?
– Так это… Часов десять уже. – Он деловито поднес к глазам руку, чертыхнувшись включил подсветку, которая и позволила мне рассмотреть пятнистый нос, перепачканные щеки и вполне солидные ручные часы. – Ну да, десять часов. Почти.
– А как там в подвале? – полюбопытствовал я. – Интересно?
– Так это… Нормально.
– В карты, небось, играете?
– Чего сразу в карты-то! Вовсе даже не в карты.
– А чего не гоняет вас никто?
– Кому гонять-то? Нет здесь никого. Только мы одни…
– Эй, жук навозный! – приглушенно скрипнула тьма за его спиной. – Ты где?
Повернув голову, паренек необидчиво отозвался:
– Тута! Ползи сюда, гнида, не ошибешься.
– Ща, урою! Только стой, где стоишь, слышишь?
Крик по-прежнему казался приглушенным, поскольку исходил все из того же подземного разлома. Кто-то громко сопел, приближаясь к выходу. Шуршала земля, потрескивали невидимые доски.
– Ладно, я пошел – пацаненок кивнул мне и, не дожидаясь появления приятеля, стрекотнул в темноту.
– Ты куда, гадость коматозная! Ну-ка, стоять!…
На всякий случай я развернулся чуть боком – все равно как дуэлянт из прошлых столетий. А в следующую минуту на моих глазах из разлома одна за другой стали прорастать темные фигуры подростков. Самое странное, что вели они себя поразительно одинаково. Все, как один, торопливо отряхивались, и, заметив меня, вежливо здоровались. После чего привидениями ныряли в лесную тьму, вероятно, надеясь догнать первого сорванца – дети катакомб, рожденные во втором тысячелетии, короткими своими ножками успевшие ступить в третье – еще не соколы, но уже соколята, акселераты, имеющие реальную возможность увидеть гибель эпохи. Возможно, кое-кто успеет даже заснять. На фото и видео. Чтобы гонять потом ностальгическими вечерами в таких же катакомбах и ронять слезу под забытые звуки рэпа. Что поделаешь, в мире по-прежнему воевали – и не в абстрактном «далеко», а совсем даже рядышком – где-то в районе земной печени или селезенки. Немудрено, что эхо толкалось отравленной кровью в екающих сердечках, туманило головы и звенящей тетивой натягивало мышцы. Так, верно, и должно было быть. В дни войн нет ничего страшнее беспечности.
Реж
Первый раз близость настоящей войны я ощутил в Грузии, когда, будучи студентом, отправился прокатиться до Абхазии и обратно. Поездка оказалась для меня роковой – я познакомился с морем и влюбился в него, как только могут влюбляться розовые юноши в ослепительных дам. Впрочем, даму я в нем тогда не разглядел. Море представилось мне огромным, мерно вздыхающим существом, легко и просто взгромоздившим на загорбок небесный свод. В восторженном онемении я стоял и смотрел на него, чувствуя, как неведомая энергия растекается от соленого гиганта, заливая улочки города, наполняя людей живительной силой, одним-единственным касанием приобщая к вечности. Наверное, именно в те мгновения у меня впервые получилось заглянуть в недалекое завтра, всмотревшись в которое, я торопливо закрыл глаза. Завтрашний день Кавказа отдавал пеплом и кровью, и самое страшное заключалось в том, что непрошенное видение посетило меня в день, когда о подобных вещах думать кощунственно.
Дело было в том, что в столицу Абхазии я угодил точнехонько в Первое сентября. Сухуми утопал в цветах и радостной суете, тамошние детишки, маленькие и красивые, шагали в новенькой униформе в направлении школ. По кавказскому обычаю девочки были одеты в черное, мальчишки же ничем не отличались от наших – и все, как один улыбались, согреваемые посетившим их внутренним таинством. С этого дня они вступали в мир взрослых, изначально подчиняясь школьному расписанию, соглашаясь на суровые отметки учителей, трепетно надеясь на хорошие. Сказочное преображение я наблюдал практически на всех лицах, и тогда же ощутил, как мерзлое шило вонзилось мне в бок. Я даже вздрогнул, точно боец, получивший пулю. Потому что с пугающей ясностью вдруг увидел, как зыбко и хрупко величие детской радости, осознал, как просто разбивается хрустальное вместилище, укрывающее до поры до времени умение улыбаться и верить во все хорошее. Ни с того, ни с сего – прямо посреди солнечного утра – мне захотелось расплакаться. Это было так нелепо и по-девчоночьи, что я не выдержал и устремился к морю. Соль и глубина успокоили мои нервы, убедили в том, что все привидевшееся – блажь. Я и потом старался пореже вспоминать о страшном прозрении, тем более что мир сдетонировал значительно позже. Тем не менее, с сожженным Сухуми, с разбитым и опустошенным обезьяньим питомником я еще однажды увиделся. И тогда же, помнится, подумал, что в этой бессмысленной войне наверняка успели поучаствовать те самые дети, которых я видел в то утро Первого сентября…
Ноги мои опять соскользнули, я едва успел ухватиться за крючковатый ствол случайного деревца. Без того крутой спуск перешел в каменистый обрыв, и теперь я уже не спешил, до рези в глазах всматриваясь в малейшие уступы и трещины, стараясь ставить ноги в места, не внушающие опасения.
Чистейшая авантюра – спускаться по скалам в вечернем полумраке, но мои поступки редко отличал здоровый практицизм. Да и не в практицизме тут было дело. Вероятно, таким поведением я просто отпугивал от себя навязчивые фобии, боролся с холодом, что норовил огладить спину, пузырьком яда пробежаться по сосудам. Правильно рассуждали древние: чтобы не бояться смерти, надо ее испытать, чтобы не бояться войны, надо на ней побывать. Со мной пока не приключилось ни первого, ни второго, и по этой самой причине я предпочитал карабкаться по мокрым скалам, прыгать с парашютом и нырять в глубины, которые в бытность Фалько и Новелли считались абсолютным рекордом погружений. И сейчас, чтобы спуститься к берегу реки, мне на минуту-другую пришлось обратиться в скалолаза. Я снова рисковал, но рисковал обдуманно, и, в конце концов, у меня все получилось. Последний метр был пройден, и, оказавшись внизу, я наконец-то различил шелест струящегося течения, услышал шепот реки. Подойдя к воде, я с наслаждением погрузил руки в прохладные воды, даже плеснул себе в лицо. Теперь мы стали с рекой единым целым, и я с полным правом мог глядеть в свое убегающее отражение.
В этом месте Реж был довольно широк, и, наверное, поэтому ребячливой журчащей тональности предпочитал звучание более солидное. Кроме того, не следовало забывать про осеннее время. Река еще не спала, но уже готовилась впасть в зимнюю кому. Рыбьи блестки, вспыхивающие там и тут, лишь добавляли ей снулой загадочности. Слева, подавляя все и вся, бесчисленными складками вздымались темные тела скал, направо, терпкий и черный, тянулся беспредельный лес. Он жил и дышал, с расстояния овевая волнами хвойных мыслей. В него хотелось нырнуть, как в реку, но я не шевелился, понимая, что удивительное и славное в очередной раз состоялось: я снова оказался на срезе времен, увидев череду людей, что стояли на этом самом месте задолго до моего появления на свет, и что будут стоять значительно позже. И, Боже мой, сколько нас еще появится на этой планете, скольких она обнимет, скольких сожжет! Волоокой Фортуне будет доверено тасовать нас, меняя местами, словно стеклышки в детском калейдоскопе, и только скалы, река и лес будут пребывать в неизменности. С тем же мрачноватым добродушием они будут взирать на мельтешение двуногих, возомнивших себя пупами земли.
Пройдя чуть дальше, я обнаружил уютную поляну. На таких в прежние времена обожали стреляться. Назначали время, приезжали в крытых двуколках и, горделиво откинув голову, в присутствии секундантов пускали друг в дружку свинцовые пули. Пространство затаивалось в ожидании стонов, а сопровождающий стрелков врач заранее хмурился, отлично понимая, что расхлебывать этот компот в итоге придется ему. Сначала останавливать кровь и сооружать повязку, а после таскаться по инстанциям и сочинять объяснения для въедливых жандармов.
Я повторно огляделся. Место и впрямь идеально подходило для дуэлей. Присутствовали все основные стихии – небо, вода и горы. Четвертая стихия, огонь, обычно являлась забиякам в последнюю секунду. Приведись мне стреляться, я бы и сам выбрал похожее местечко. Все равно как Максимилиан Волошин, сумевший выгадать для себя прекраснейшую из могил. Пусть и не на дуэли умер, но ведь тоже стрелялся. Хоть и несерьезно, в отличие от того же Пушкина или Лермонтова. Уж эти двое толк в хорошей драке знали. Оба были опытными скандалистами и меткими стрелками, оба умели целиться и плавно спускать курки. Лермонтов, помимо всего прочего, успел и повоевать. Награды, к которым не раз его представляли, тогдашний двухметровый самодержец зажал. Не понял венценосный того, что конфликт – всего лишь одна из ипостасей таланта, данность, с которой нужно считаться. Как не понял того, что жить в мире с природой у талантов еще получается, но жить в мире с людьми для них дело архисложное. Словом, неважным царь оказался игроком – в сущности, проиграл и сдал двух величайших российских поэтов. И даже позднее, оплатив долги Пушкина, положения тем не спас. Пришлось расплачиваться с Судьбой более весомой монетой – Силистрией, Альмой, Севастополем…
Я задрал голову и разглядел черный ствол сосны, секущий смуглое небо пополам. Дерево не отличалось особенной высотой, но оно стояло на этой поляне в полном одиночестве, и мне с необъяснимой силой вдруг захотелось залезть на него – залезть как можно выше, чтобы потрогать рукой смолистую слюну ветвей, а то и пощекотать брюхо нависшей над кроной туче. Я даже прижался на пару секунд ухом к шероховатому стволу, испрашивая разрешения на дерзкую атаку. Древесное сердце не безмолвствовало, но костяной рокот, глухо перекатывающийся от корней к небу и обратно, был мне непонятен. Я много лазил в детстве по деревьям, обнимал березы, клены, тополя и даже огромные кедры, но их загадочного языка освоить так и не сумел. Между тем, мне требовался пропуск в небо, и дерево означенный пропуск вполне могло выдать. Зачем? Не знаю. Наверное, таким образом, я мог бы оказаться чуть ближе к моей улетевшей за облака Насте. Мне было без нее жутко, и мне было без нее страшно тоскливо.
Досуг
От дискотеки, на которую меня так упорно зазывал Санька, за версту веяло соевым шоколадом и нафталином. Зал напоминал салон похоронного автобуса – с множеством пухлых диванов и куцей горсткой провожающих, с обилием неживых, расставленных вдоль стен цветов, и бильярдом, напоминающим широченный гроб великана. Одну из стен украшал цветной безликий витраж, на другой солдатской шеренгой громоздились сетчатые колонки. Именно из них проистекал эликсир здешней молодости – некий салат из шлягеров семидесятых, умеренно разведенных перцовыми частушками третьего тысячелетия. Громыхающие ударники ускоряли вялый сердечный ритм, песенные голоса пыльным ветерком врывались в головы. Жить становилось лучше, жить становилось веселее. Во всяком случае, некоторым из собравшихся было действительно весело. Выстроившись кружком в центре зала, дамочки бальзаковского возраста задорно потряхивали ягодицами и грудями, звонко притопывали каблучками. Музыку то и дело заглушали их азартные взвизги, а полные руки томно взмывали вверх, покачиваясь вправо и влево, изображая то ли морские волны, то ли ветви деревьев.