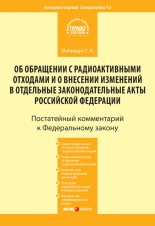Notice: Undefined variable: contentRead in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 681
Notice: Undefined variable: row in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 719
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/knizh.ru/funcs.php on line 719
ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
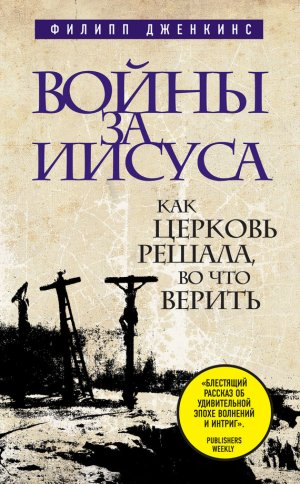
ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ[55]. ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ,ïżœïżœ gyne/gynaikos. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ Q. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ 90 ïżœïżœ 140 ïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ Q ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ; ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ,ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ II ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ II ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ?ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ 180 ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ:
ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ; ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ; ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ; ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ; ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ:
ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ [ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ] ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[56].
ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ. (ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.) ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ II ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ 6 ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ 6 ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[57].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ III ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 260-ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ [Christos], ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[58]. ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ dokein, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ (ïżœïżœ. ïżœïżœ 1:7). ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ (morphe) ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (2:7). ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ 60-ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ II ïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ (ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ) ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ! ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ 200 ïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ De Carne Christi (ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ) ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ! [59]
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 200 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ II ïżœ III ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 200 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ; ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ[60].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ (ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ) ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ III ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ persona (ïżœïżœïżœïżœïżœ), ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ substantiae, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[61].
ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ 325 ïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœ ïżœ 200 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœ ïżœ 200 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ?
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ[62]. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (homoousios) ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (homoiousios) ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ 325 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ:
[ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ] ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœ.ïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ [ousia] ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ [homoousios], ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ [sarkothenta] ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ [enanthropesanta]ïżœ[63]
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ (ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ VI ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ), ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ IV ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ V ïżœïżœïżœïżœ[64].
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, anthropos. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (sarx), ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ Logos-sarx (ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœ) ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, anthropos, ïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ Logos-anthropos (ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ). ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ anthropos ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ[65].
ïżœ 268 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ homoousios ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ; ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ homoousios, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 268 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ homoousios, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ 268 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ; ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[66].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[67]. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ 360ïżœ370-ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ (soma), ïżœïżœïżœïżœïżœ (psyche) ïżœ ïżœïżœïżœïżœ (nous). Psyche ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ nous ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (homoousios) ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, nous, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ[68].
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ soma ïżœ psyche ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ (nous) ïżœïżœïżœ (psyche logike) ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ hypostasis, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[69].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ XIX ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ 381 ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ). ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ[70]. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ[71].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ IV ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ = ïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ V ïżœïżœïżœïżœ[72].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ousia, physis, hypostasis ïżœ prosopon. (ïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ 2.)
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ 2
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
Physis ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœ. Hypostasis ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. Prosopon ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ persona. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ; ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[73].
ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ,ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, hypostasis, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ousia. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ousia, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ousia ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ homoousios ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ[74].
ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (physis), ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœ? ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ?
ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ,ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ?
ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: V ïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ V ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ III ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ousia ïżœ hypostasis. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ homoousios ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[75].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (henosis kathïżœ hypostasin), ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ[76].
ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[77].
ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (mia physis) ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[78].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[79]. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ; ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ IV ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[80].
ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (350ïżœ428), ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ[81]. ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ prosopon, ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ Theotokos, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[82].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ V ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ prosopon, ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ,ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ 390 ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ 499 ïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœ 550-ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 428 ïżœïżœïżœïżœ) ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[83].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ousia ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ hypostasis ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ 380-ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ:
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[84].
ïżœ V ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ:
ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ hypostases, ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ (ek duo), ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ; ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, homoousios ïżœïżœïżœ homoiousios? ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (ek duo) ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (en duo)? [85]
ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, homoousios ïżœïżœïżœ homoiousios? ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (ek duo) ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (en duo)?
ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ; ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ:
ïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ V ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ 320-ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ousia (ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ) ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ hypostasis. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ousia ïżœïżœ hypostasis[86].
ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ V ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ V ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[87].
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ) ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ! ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ! ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ Theotokos, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ! ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ! ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ), ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[88].
ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ Y[89].
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ IV ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ 2
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ:
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ IV ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ (381) ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ II ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ II ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ (nous) ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 440-ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (ïżœïżœïżœïżœïżœ 100 ïżœïżœïżœïżœ), ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ; ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ) ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ III ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
(ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ 85ïżœ160 ïżœïżœïżœïżœ). ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœ VII ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ), ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ III ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ III ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (451). ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, Logos, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (Sarx), ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, Logos, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
3.ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ.
ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[90].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 412 ïżœïżœ 444 ïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ IV ïżœïżœïżœïżœ) ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ IV ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ[91].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ,ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ 328 ïżœ 444 ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (328ïżœ373), ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (385ïżœ412) ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (412ïżœ444), ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ (ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ). ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ 34 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (422ïżœ432) ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœ 440-ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 461 ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ I ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 401 ïżœïżœ 417 ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[92].
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 451 ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ!ïżœ[93] ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ) ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ IV ïżœ V ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ V ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ V ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ 325 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 381 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ I ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ [ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ] pontifex ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[94].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. (ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ V ïżœïżœïżœïżœ.) ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 498 ïżœïżœïżœïżœ[95].
ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 325, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 330 ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 408 ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ 1453 ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ,ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ,ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ 381 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[96].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ V ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ 381 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 451 ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ 401, 431 ïżœ 449 ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ 458 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ IV ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ V ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 431 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[97].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 422 ïżœïżœ 458 ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœ 451 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[98].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ XVIII ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ,/ ïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ V ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[99].
ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ IV ïżœ V ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ; ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ 370 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ 370 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ 460 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[100].
ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ 370 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœ 370 ïżœ 430 ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (ïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ 3). ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ 3
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ 366ïżœ468
366ïżœ384 ïżœïżœïżœïżœïżœ I
384ïżœ399 ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
399ïżœ401 ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ I
401ïżœ417 ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ I
417ïżœ418 ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
418ïżœ422 ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ I
422ïżœ432 ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ I
432ïżœ44ïżœïżœCïżœïżœïżœïżœ III
440ïżœ461 ïżœïżœïżœ I
461ïżœ468 ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ I (366ïżœ384) ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ sedes apostolica, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ pontifex maximus ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ I ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ 220 ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ IV ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ[101].
ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (384ïżœ399), ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ 1600 ïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœ 380-ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ cathedra Petri, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ[102].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ I (401ïżœ417) ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ? ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ecclesia Romana ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ primatum, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœ 420 ïżœ 460 ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ 431 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ I ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœ 440 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ [ïżœïżœïżœïżœïżœ] ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[103].
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ indignus haeres beati Petri, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ 420-ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ 370 ïżœïżœ 460 ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœ III ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ (ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ) ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ) ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ IV ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ 378 ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ 406 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ 410 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ 410 ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœ 420-ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ 476 ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ; ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ 476 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[104].
ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ (ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ) ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœ 440-ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[105].
ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœ IV ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ 800 ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ 450 ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ 350 ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœ 350-ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ 60 ïżœïżœïżœïżœïżœ[106].
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ 330 ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœ 430-ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ.
ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ V ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ: ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ-ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ[107].
ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ
ïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ V ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ-ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ. ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœ, ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ, ïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœ ïżœïżœ ïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœïżœ[108].