Последний в Мариинском дворце. Воспоминания министра иностранных дел Покровский Николай
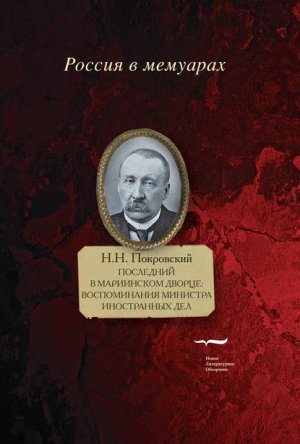
Собран был съезд представителей промышленности и торговли для обсуждения проекта. Это было весною 1908 г.[400] Съехалась громадная масса народа со всех концов России, значительно более 100 человек. Здесь обнаружилось в особенности ярко, как трудно проводить податные реформы. В первые дни промышленники и торговцы объединились непроницаемою стеною под водительством москвичей: Г.А. Крестовникова и других. Крупные промышленники ни за что не хотели идти на отмену патентного сбора, который для них был совершенно нечувствителен. Мелкие же, которых они собрали до заседания, подчинились крупным, увлекаясь, главным образом, наружным удобством патентного сбора: тем, что не приходилось исчислять для него оборотов и прибылей, а также опасением повышения платежей, которым, главным образом, и пугали их крупные промышленники. Споры были настолько горячи, что Г.А. Крестовников позволил себе даже резкие выпады против Г.М. Курило, так что мне пришлось пригласить его к порядку; он на это обиделся и перестал ездить в заседания. В пользу отмены патента высказалось только два представителя мелкой торговли. Тогда я сделал перерыв в сессии совещания, чтобы дать обдумать этот вопрос на местах. Прием оказался целесообразным: по возвращении на совещание два сторонника отмены патента приобрели больше адептов, а когда я сделал еще перерыв, то на третьей сессии их оказалось еще больше. Конечно, мы, со своей стороны, приняли все меры, чтобы разъяснить колеблющимся те соображения, которыми мы руководились. Но все-таки число сторонников отмены патента было еще далеко от большинства. Тогда, чувствуя, что в Петербурге влияние крупной промышленности слишком сильно, я, после окончания сессии, направил вопрос об отмене патента на заключение местных учреждений по промышленности и торговле: биржевых комитетов[401], разных съездов и т. п. Результат оказался успешным: голоса разделились на этот раз поровну, и мотивы, приведенные сторонниками отмены в их отзывах, были очень сильны. Надо еще прибавить, что в Петербурге противники реформы находили сильную поддержку в Министерстве торговли, которое неизменно держалось взглядов крупных промышленников.
Когда таким образом мы получили достаточные по этому предмету материалы, то вопрос пошел уже о разногласии между министерствами финансов и торговли. Для окончательного его разрешения было образовано особое маленькое совещание под председательством государственного контролера П.А. Харитонова. Здесь участвовали сами министры. П.А. Харитонов стал определенно на нашу сторону. Министерство торговли хотело было подтасовать наши материалы: оно помимо нас само стало собирать отзывы торгово-промышленных организаций и доказывало, будто большинство против отмены патента. Однако этот образ действия, предпринятый даже без ведома самого министра торговли В.И. Тимирязева, был признан неприличным, и эти данные были оставлены без внимания. Таким образом, мы вошли в Государственную думу с уже согласованным предположением об отмене патентного сбора с заменою его окладным в размере 6 % с прибылей.
Другой вопрос в деле промыслового обложения касался судьбы раскладочного сбора с неотчетных предприятий. Здесь принципиально следовало бы идти также на замену его окладным сбором. Но наши финансовые чины все хором были против этого: они в раскладке видели обеспечение правильного показания оборотов и прибылей самими плательщиками, для которых неверное показание прибылей одними отражалось повышением оклада со всех прочих. Ввиду этого, чисто технического значения раскладочного сбора, я не настаивал на замене его окладным, рассчитывая сделать это в будущем; оказалось потом, что сама Финансовая комиссия Государственной думы стала настаивать на такой замене.
Что касается отчетных, акционерных предприятий, то здесь была, главным образом, детализирована и сделана более уравнительною шкала их обложения, а затем внесены некоторые улучшения в самые правила об исчислении сбора с их прибыли. В этих вопросах мы шли довольно согласно с промышленниками, тем более, что вся работа происходила под лозунгом сохранения прежних финансовых результатов: на повышение сборов мы рассчитывали только от общего развития промышленности и торговли. Надо заметить, что добиться даже сохранения прежних размеров казенного дохода было вовсе не так легко. Дело в том, что в начале 1906 г., по закону 2 января, промысловый налог, особенно с акционерных предприятий, был значительно увеличен по случаю трудного положения казны, в связи с войною и революцией[402]. Представители промышленности и торговли утверждали, что они согласились на такое увеличение только временно и что затем оно подлежало отмене. На этой почве разыгралась крупная и нелегкая борьба. Действительно, законом 2 января 1906 г. повышенные ставки были установлены на два года, но в расчете на то, что за это время удастся провести общую реформу промыслового налога. Но эта реформа еще осуществлена не была и, ввиду трудного положения казны, пришлось просить Думу о продлении закона 1906 года впредь до пересмотра положения о налоге. Тут в Финансовой комиссии Думы началась жестокая полемика: члены ее были, несомненно, обхаживаемы представителями промышленности. И полемика эта, как и вообще по податным делам, усложнялась тем, что представители министерства не могли найти сторонников ни в каких партиях. После долгих споров и предложения массы поправок закон был все-таки продлен, но опять на срок[403]. К истечению его мы, однако, успели уже внести в Думу представление об общей реформе промыслового налога: теперь нельзя уже было говорить, что министерство не исполняет своей обязанности[404]. Но все-таки и новое представление о продлении закона 2 января 1906 г. вызвало прежние споры в Финансовой комиссии; однако, на этот раз уже от самой Думы зависело скорейшее осуществление общей реформы. Но кому же охота подгонять себя самого! И вот поэтому закон 2 января был продлен уже без назначения срока – впредь до реформы промыслового налога вообще[405]. Эта же реформа благополучно застряла в Думе: в конце 1912 г. или в начале 1913 г. (а представление наше было внесено в 1909 г.) ею, правда, занялась Финансовая комиссия, но настолько вяло, что дело до Общего собрания так и не дошло.
Вообще, ни один налог не извел меня до такой степени, как промысловый, вследствие той постоянной оппозиции, с которою приходилось тут бороться и в министерстве, и в совещаниях, и в Государственной думе. После совещания с промышленниками, суждения которого выразились в громадном томе его стенографических отчетов[406], я почувствовал себя прямо физически разрушенным.
Систему реальных налогов мы имели в виду дополнить еще налогом с недвижимостей, расположенных в так называемых уездных поселениях. Дело в том, что в России есть много слобод, сел и т. п., имеющих совершенно городской характер и даже более крупных, чем многие города. Но находящиеся в них недвижимости, нередко большие дома и иные строения, остаются не обложенными, тогда как в очень маленьких городах, скорее похожих на села, особенно в местечках Западного края, они его платят. Поэтому мы составили подробный список тех поселений, где, по справедливости, налог мог быть введен. Идти дальше – облагать всякие строения в уездах – мы не решились. За границею такое обложение, правда, существует. Но условия там совершенно иные.
У нас же самая оценка чисто деревенских построек, обслуживающих нужды сельского хозяйства, была бы донельзя затруднительна, если не прямо невозможна. Эти строения должны быть обложены, вместе с землею, поземельным налогом. Поселения же, где должен быть введен городской налог, были бы совершенно освобождены от поземельного налога. В этом смысле нами и было внесено представление в Думу, которая занялась им с большим вниманием, тем более что вопрос был очень простой, да и компетентность членов Думы относительно характера того или иного поселения была больше нашей. Вот они и устремились на критику составленного нами списка и потребовали новых сношений с местными земствами. Список был пересоставлен и вновь внесен в Думу, но после того дело опять застряло и так и не дождалось своего осуществления[407].
Налога с доходов от денежных капиталов мы не трогали: по форме своей он удовлетворял требованиям, а по существу повышение или понижение его было бы одинаково несправедливым. Ведь капитализированная его стоимость была, конечно, в общем и среднем, уже амортизирована и переложена на прежних владельцев процентных бумаг при продаже последних. Таким образом, и в дальнейшем можно было ожидать, что владельцам процентных бумаг придется платить не годовой оклад налога, а капитализированную стоимость его повышения; при понижении же сбора – воспользоваться тою суммою, которую они уже успели переложить на прежних собственников бумаг. Так выходит по теории, которая на практике терпит, конечно, много исключений, в зависимости от тех фактических условий, в коих происходит продажа и покупка бумаг.
С другой стороны, на изменение в размере налога не согласился бы, вероятно, и министр финансов, в интересах государственного и общественного кредита, хотя я должен сказать, что введение налога в 80-х годах не произвело никакого ощутительного влияния на курсовую их стоимость. Впоследствии, в самом начале войны, был составлен проект единовременного обложения денежных капиталов сбором в 0,1 % с ценности бумаг, но в совещании П.А. Харитонова о сведении росписи на 1915 г. и этот сбор встретил такие возражения со стороны графа С.Ю. Витте с точки зрения государственного кредита, что мысль о нем была оставлена[408].
Отказавшись, в силу всех этих соображений, от каких-либо изменений в купонном налоге, мы имели все же в виду, что от налога с капиталов остается изъятою такая группа их, как ссужаемые под залог недвижимостей. Для проектирования сбора с этих капиталов созвано было при Министерстве финансов совещание, где были против него высказаны принципиальные возражения. Но мы все-таки приступили к его разработке. Конечно, и этот налог до войны не был утвержден; он введен в порядке военного законодательства[409]. Главная заслуга в его составлении принадлежала проф[ессору] П.П. Цитовичу. Я не могу удержаться, чтобы не сказать здесь нескольких слов об этом выдающемся деятеле и человеке. Биография его достаточно известна. Сын священника какого-то малороссийского села, он воспитывался на медные деньги: медный пятак считал он тогда состоянием. Из семинарии П.П. Цитович пробился в университет и затем сделал блестящую ученую карьеру. Жизнь его прошла бурно: сперва близкий к представителям нашей либеральной интеллигенции, он, по личным причинам, резко с нею порывает и начинает страстную с нею борьбу. Наши кадетствующие профессора громко называли его изменником. Это была, однако, не измена определенным честным убеждениям, а отчаяние, происходящее от сознания фальшивости тех ложных богов, которым воскуривались фимиамы. Истинный православный, глубоко верующий человек, он подолгу живет за границей в католическом монастыре, ища в строгости монашеской жизни контраста нашей религиозной распущенности. Его даже подозревали в переходе в католическую религию, но едва ли это верно: православие, и притом православие воинствующее, борющееся с католичеством, пустило в душе П.П. слишком глубокие корни. То, что всего сильнее возмущало его дух, это была недобросовестность во всех ее проявлениях. Ее искал он и обличал везде, где только мог, обличал со свойственною ему образностью речи и остроумием. Говорят, что лекции его по торговому праву, чтению которого он положил начало в наших университетах, были замечательно интересны именно раскрытием целых картин нашей коммерческой недобросовестности[410].
Речь П.П. не отличалась красноречием: говорил он с очень сильным малороссийским акцентом, произнося «хв» вместо «ф» и т. п. Претензии в его речах не было никакой, начинал он их очень нескладно; но сила убеждения его была так велика, образность выражений так сильна, что приковывала к себе общее внимание. Я приглашал его нередко как члена Совета министра финансов в заседания по вопросам, касавшимся обложения торговли и промышленности, и всегда, как только он начинал говорить, все – и чиновники, и купцы – настораживались и старались не проронить ни одного слова, хотя нередко он резко высказывался, что называется, против шерсти своей аудитории. Ему возражали, горячо с ним спорили, но не могли отрицать силы и искренности его аргументации.
В университете в последние годы жизни П.П. Цитович не читал, но нередко председательствовал в юридических испытательных комиссиях. Желудочные страдания почти ежегодно заставляли П.П. ездить летом в Киссинген, где он был более 20 раз подряд. Но там его только подправляли, радикально не излечивая. С годами болезнь его чрезвычайно обострилась, и страдания сделались очень сильными, даже невыносимыми. Но зато дух был очень крепок. Сперва П.П. даже выезжал с болями, потом, уже совсем слабый, лежа в кресле, все-таки беседовал по университетским делам. После одной из таких бесед, когда я видел его в последний раз, он через несколько дней скончался. Болезнь его была, по-видимому, рак, но с уверенностью я этого утверждать не могу.
В последние годы жизни П.П. Цитович был сенатором Судебного департамента[411]. Надо только удивляться, что такой выдающийся юрист так долго не был сенатором: все от отсутствия искательства. На его похороны собрались отдать последний долг как его друзья, так и многие его политические противники: все одинаково не могли не оценить нравственную высоту усопшего и его выдающееся значение в науке и жизни.
Но возвращаюсь к податным проектам. Надстройкою, дополнением к системе реального обложения должны были явиться, по нашему плану, личные налоги, т. е. главным образом подоходный налог. Вопрос о введении у нас этого налога возбуждался еще в известной Податной комиссии, которая даже выработала некоторые проекты, направленные к этой цели. Тот же вопрос возникал несколько раз и впоследствии, но всегда разрешался в отрицательном смысле еще до внесения в Государственный совет. Подоходный налог не пользовался и симпатиями министров финансов, которые не ожидали от него серьезного дохода для казны, а предвидели очень много неприятностей и беспокойства и для плательщиков, и для финансовой администрации. Подоходному налогу придавали притом какое-то политическое значение: с одной стороны, это было требование левых партий, с другой – введение какого-то социалистического элемента в наше законодательство. Поэтому правительство относилось к нему с опаскою и по всем приведенным соображениям. Однако финансовые потребности вызывали необходимость серьезно подумывать о новых формах обложения. Настаивали на этом и некоторые общественные круги, далекие от левых политических течений и социализма, а именно промышленники и торговцы: в промысловом налоге они, в сущности, были уже привлечены к подоходному обложению и основательно указывали на несправедливость изъятия от него всех других плательщиков. Когда в 1893 г. ожидался крупный дефицит по бюджету, новому министру финансов С.Ю. Витте пришлось подумать о новых налогах. Конечно, явилась мысль и о подоходном налоге. Но он отверг ее с самого начала, как по техническим, так и по политическим соображениям: для него лично, конечно, было неудобно начинать с введения такого налога, который вызвал бы против него общее неудовольствие влиятельных классов общества[412].
Поэтому С.Ю. Витте изобрел два суррогата подоходного налога: квартирный налог[413] и военный налог с освобождаемых от отбывания воинской повинности натурою. Первый падал бы на городских жителей, второй, очень ничтожный, по 3 р[убля] в год, явился бы своего рода возвратом к подушному обложению. Воинский налог так и не был тогда введен ввиду крайней его незначительности и сведения бюджета другими средствами. Но квартирный осуществился. С.Ю. Витте ожидал от него больших доходов. Вскоре, однако, обнаружилось, что этот налог не дал даже того, что от него рассчитывали получить. Это обстоятельство еще более расхолодило С.Ю. Витте ко всем формам лично-подоходного обложения. Вообще, к прямым налогам он относился безо всякого энтузиазма: все его внимание сосредоточилось на косвенных и главным образом на его детище, винной монополии, которая действительно оправдала все финансовые расчеты[414]. Однако когда во время японской войны вопрос об изыскании новых источников государственных доходов стал очень остро, опять пришлось подумать о подоходном налоге. На этот раз вопрос о нем был поднят в бюджетной речи государственного контролера П.Л. Лобко, думаю, что не без влияния его просвещенного товарища Д.А. Философова[415]. Эта ли речь или другие обстоятельства, но подоходный налог был вновь поставлен на очередь и, как я уже упоминал выше, весною 1905 г. образована была комиссия из профессоров. С тех пор Департамент окладных сборов принялся работать над проектом подоходного налога прямо не покладая рук. Много пришлось за него бороться еще до внесения его в Государственную думу. Собственно говоря, сам министр финансов В.Н. Коковцов относился к этому делу довольно безразлично. Возможно, что он принял такой тон, чтобы избегнуть обвинений в левых тенденциях, или просто не рассчитывал на успех. Во всяком случае, нам он не чинил никаких препятствий, а, напротив, оказывал всякую поддержку, когда была в ней надобность. Проект вчерне был закончен Департаментом уже зимою 1905 г. или в самом начале 1906 г. Мы докладывали его тогдашнему министру финансов И.П. Шипову, который остался им очень доволен[416]. Тогда проект был внесен в междуведомственное совещание. Здесь он прошел без особых трений, хотя А.В. Кривошеин, представитель Главного управления землеустройства и земледелия, высказался принципиально против него, как против уступки левым партиям, в программе которых стоял подоходный налог. Но он все же не настаивал на своем мнении, так как вопрос о внесении проекта в Думу был уже решен правительством в положительном смысле[417]. Особые споры вызвал вопрос о нарушении коммерческой тайны ради получения данных о доходах плательщиков, об обязанности кредитных учреждений давать фиску сведения о находящихся у них вкладах и т. п. Для обсуждения этого частного вопроса было образовано отдельное совещание при участии представителей банков и Кредитной канцелярии[418]. Председательствовал в нем И.П. Шипов; хотя в то время он уже не был министром, но он желал довести лично до конца дело о подоходном налоге[419], а также о реформе наследственных пошлин; о них я еще буду говорить впереди. На этом совещании Департамент окладных сборов и проф[ессор] И.Х. Озеров были за открытие коммерческой тайны; представители банков и директор Кредитной канцелярии Л.Ф. Давыдов – против. Между банкирами и И.Х. Озеровым произошли даже очень резкие пререкания. Таким образом, вопрос остался в крупном разногласии и был решен В.Н. Коковцовым в согласии с мнением банков. Противоположное решение восторжествовало уже в Финансовой комиссии Государственной думы.
После наших внутренних комиссий проект подоходного налога поступил в 1906 г. в Совет министров[420]. Здесь, еще до рассмотрения его в заседании Совета, им подробно занялся государственный контролер П.Х. Шванебах. Как представитель охранительных начал в Совете министров, он был резко против этого налога; но так как внесение проекта было все-таки предрешено, то он стал останавливаться на разных частностях и делать замечания, которые все дело сводили на нет. Мне пришлось ездить к П.Х. Шванебаху несколько раз по этому предмету. Это была довольно любопытная индивидуальность на нашем бюрократическом небосклоне. Немец, кажется, даже иностранного происхождения[421], плохо говоривший по-русски, не обнаруживший особых талантов ни в одной из тех отраслей управления, коими ведал, он держался, главным образом, на политическом своем миросозерцании. Но должен отдать ему справедливость, что и с принципиальных своих точек зрения он сходил довольно быстро, под влиянием разного рода посторонних соображений, благодаря чему мои с ним беседы привели лишь к самым незначительным поправкам в проекте. Однако на заседании Совета министров П.Х. Шванебах все-таки возражал, настаивая на полной переделке проекта, как подражания иностранным образцам, не заключающего в себе элементов национального творчества[422]. Это в особенности было оригинальное замечание в его устах; да и в чем должны были заключаться элементы национального творчества, он, к сожалению, так и не объяснил. Прочие министры предлагали несущественные поправки. В.Н. Коковцов принял по отношению к проекту особую позу: он просил пропустить его и разрешить внести, наконец, в Думу – для него-де проект сам по себе не так ценен, но внесение его обещано и надо с этим делом покончить. Он просил отпустить его душу на покаяние[423].
Совет в принципе высказался за внесение, некоторые же частные разногласия поручил разрешить малому совещанию из В.Н. Коковцова, П.Х. Шванебаха, главноуправляющего землеустройством и земледелием князя Б.А. Васильчикова и министра торговли Д.А. Философова, которое собралось у В.Н. Коковцова и покончило с этим делом в один вечер. Так, наконец, в начале 1907 г. нам удалось внести проект подоходного налога в Государственную думу[424]. Взяло это у нас почти два года очень усидчивой работы. Вторая Дума, куда попало это дело, конечно, не имела никакого намерения им заниматься, так как вообще заниматься она не собиралась. Таким образом, подоходный налог докатился позднею осенью 1907 г. до Третьей Думы, где и нашел упокоение[425]. Здесь вовсе не спешили с его рассмотрением, напротив, в большинстве относились к нему даже отрицательно. Стоит ли, рассуждали тогда, поднимать такое дело, которое произведет полную пертурбацию в налоговых условиях населения, а даст сравнительно небольшие финансовые результаты! Финансовая комиссия, впрочем, занялась проектом и составила доклад; докладчиком, и очень усердным, был барон Н.Г. Черкасов; но дело шло все-таки вяло, хотя Департамент[426], чтобы хоть несколько оживить его, представил новые статистические данные, которые доказывали, что финансовые результаты налога будут значительно больше, чем ожидали ранее[427]. Теперь уже стали бояться, как бы этот налог, подобно налогу с городских недвижимых имуществ, не взял у плательщиков гораздо больших сумм, чем даже рассчитывало Министерство финансов. Вообще, нас с этих пор стали постоянно подозревать в стремлении приуменьшить цифры ожидаемых от налогов поступлений. Так дело протянулось все пять лет существования Третьей Государственной думы. Любопытно отметить, что в начале пятилетия Дума обыкновенно смотрела на податные вопросы гораздо шире – выборы были далеко. Но в четвертом и пятом году нельзя было и надеяться провести что-нибудь подобное налоговым реформам: так был велик страх перед избирателями. И страх основательный: некоторые городские депутаты Третьей Думы так и не были переизбраны в Четвертую[428] за то, что пропустили закон о налоге с городских недвижимых имуществ.
Когда собралась Четвертая Дума, то вопрос о подоходном налоге опять всплыл на поверхность[429]. Но при этом получилось неожиданное осложнение: для Четвертой Думы этот налог был новым делом, вся работа Третьей Думы подлежала возобновлению. Опять была образована подкомиссия, а затем Финансовая комиссия приступила к рассмотрению этого дела сызнова, и новым докладчиком Б.И. Кринским был составлен новый доклад. Так было с формальной стороны; но, разумеется, работа Финансовой комиссии Третьей Думы не могла остаться совершенно бесследною и легла в основу работы Четвертой Думы. Особенную заслугу в деле нового и сравнительно быстрого прохождения проекта в Четвертой Думе я приписываю председателю подкомиссии и товарищу председателя Финансовой комиссии проф[ессору] А.С. Посникову: он не дал ни заснуть этому делу, ни внести в него такие поправки, которые испортили бы его смысл и значение. Напротив, проект подоходного налога вышел из Финансовой комиссии улучшенным, потребовав от нее много заседаний, и дневных, и вечерних. Я не привожу здесь перипетий этого рассмотрения, во-первых, потому, что многое испарилось уже из памяти, а во-вторых, в том внимании, что в отчетах Финансовой комиссии и в докладах ее это изображено полно и подробно. Но, как я уже говорил, судьба податных дел разрешалась не в комиссии, а в Общем собрании. Тем паче это применимо было к подоходному налогу. Если бы даже удалось протащить его через Думу, то можно было почти наверное сказать, что он застрянет в Государственном совете. Когда в феврале 1914 г. мне пришлось быть на первом докладе у П.Л. Барка, нового министра финансов[430], то я ему рассказал обо всех делах, внесенных в Государственную думу, в том числе и о подоходном налоге. «Неужели вы думаете, – спросил он, – что подоходный налог когда-нибудь будет введен?» «Я думаю, – сказал я, – что он будет обязательно введен тогда, когда забьют барабаны, затрубят трубы и раздадутся выстрелы новой войны». Я не думал, что это предсказание осуществится с такою точностью и притом так скоро. Между тем, так думали далеко не все, изыскивая иные пути получения новых источников дохода. Еще до войны возникло опять предположение о введении личного налога взамен отбывания воинской повинности натурою. Я уже говорил, что вопрос о таком налоге был возбужден при вступлении С.Ю. Витте в управление Министерством финансов; но тогда он был оставлен. На этот раз мысль о военном налоге появилась с разных сторон. Говорили о нем и в Государственной думе, в частности, А.И. Гучков[431]. Ухватились за эту мысль и правые, усматривая в военном налоге способ обложения вроде подушной подати, отзывавшейся добрым старым временем. Думали о нем серьезно и другие партии, надеясь отклонить от себя этим способом грозу подоходного обложения: от воинского налога ожидали громадных сумм. Наконец, решительно высказывалось за налог и Военное министерство, с чисто технической точки зрения борьбы с уклонением от воинской повинности. Все эти ожидания и надежды были, в сущности, построены на песке и на недостаточном знании дела. Для обсуждения вопроса была образована при Министерстве финансов очень многочисленная комиссия. Эта комиссия выяснила с большой определенностью, что, пока нет подоходного налога, воинский налог может быть установлен только в одинаковом размере со всех плательщиков, т. е. быть очень несправедливым, подобно подушной подати, и, при чрезвычайных затруднениях исчисления и взимания, дать гроши. Генерал Янушкевич, будущий начальник Генерального штаба[432] и Штаба верховного главнокомандующего[433], с большим одушевлением отстаивал воинский налог и представил проект распределения плательщиков на многочисленные классы, по роду занятий и состоятельности, с различными окладами для каждого класса. Но сразу же, при первоначальном ознакомлении с этой классификацией, в ней обнаружилось столько дефектов, что пришлось ее оставить и убедиться, что и всякая иная классификация будет страдать подобными же дефектами. Таким образом, проект был внесен в Думу в виде однообразного оклада с каждого плательщика, впредь до введения подоходного налога. Финансовая комиссия, однако, усвоила себе всю неудовлетворительность подобного налога и, видя, кроме того, что и министерство на нем не настаивает, отклонила проект впредь до введения подоходного налога[434].
Тем не менее, вслед за объявлением войны, опять остановились на мысли ввести воинский налог, не ожидая подоходного. На этот раз ход мыслей не был ясно формулирован. Под военным налогом некоторые разумели какой-то вид личного обложения, падающий чуть ли не на все население, взамен отмененного дохода от казенной монополии, взимавшегося с широких народных масс. Вообще, идея восстановления подушной подати стала в это время довольно популярной и поддерживалась многими. Формою введения такого обложения и должен был явиться военный налог. В Совещании, собранном П.Л. Барком в конце августа 1914 г., главноуправляющий землеустройством и земледелием А.В. Кривошеин прямо высказывал, что для введения подоходного налога не время по военным обстоятельствам, а нужна личная подать. Так как однообразная для всех плательщиков личная подать была бы неуравнительна, то А.В. Кривошеин предлагал – мысль эта принадлежала его сотруднику В.С. Кошко – дифференцировать оклады по степени полученного образования, являющегося в известной степени показателем уровня возможного заработка: низший оклад налога возможно было бы установить в 5 рублей; для окончивших 4-х классное училище – в 10 рублей; для получивших среднее образование – в 25 рублей и, наконец, для лиц с высшим образованием – в 50 рублей. Этот проект исходил от влиятельнейшего члена правительства, а потому, как водится, нашел сторонников уже в Совещании[435]. Вопрос был передан в специальную Комиссию[436], где, однако, несмотря на энергичную защиту В.С. Кошко, его изобретение принято не было, и Комиссия весьма рационально остановилась на той мысли, что надо поскорее со всего населения, кроме находящегося на фронте, ввести подоходный налог и притом в несколько увеличенном размере; а с лиц, освобождаемых от призыва, взимать, сверх того, 50 % с уплачиваемого ими подоходного налога, если же они этого налога не платят, то брать с них по 6-ти рублей с души. В этом виде Министерство финансов и внесло проект в Совет министров[437]. Но там посмотрели на дело иначе. Ввести подоходный налог в чистом виде все-таки не решились, разряды же по образованию, проектированные В.С. Кошко, постановили заменить разрядами по доходу, определяемому самым приблизительным образом, без подачи деклараций. Таких разрядов должно было быть только четыре: получавшие до 1000 рублей дохода платили бы 6 рублей; от 1000 до 5000 рублей – 25 рублей; от 5000 до 10000 рублей – 50 рублей, а свыше 10000 рублей – 100 рублей. Конечно, это был уже налог только с освобождаемых от призыва, а не военный налог, распространяющийся на все население. В этом виде он и был введен[438], и это в то время, когда в Государственной думе подходило к концу, если уже не было закончено, рассмотрение проекта подоходного налога: спешили ввести какой-то суррогат, быть может, в надежде, при его успешности, как-нибудь избавиться от ненавистного подоходного налога. Так слабо было у нас сознание государственного значения податных вопросов.
Между тем, еще в конце 1914 г. в общественных собраниях, напр[имер], в Совете съездов представителей промышленности и торговли, сами промышленники громко высказывались за введение подоходного налога. Я помню одно такое весьма многолюдное собрание, куда приглашены были разные специалисты податного дела, между прочим, граф С.Ю. Витте, Н.Н. Кутлер, многие профессора; помню горячие речи в пользу налога; помню впечатление, произведенное и моими словами по этому поводу. Граф С.Ю. Витте, который всегда был противником подоходного налога, приехав после этого в Комиссию П.А. Харитонова по сведению росписи на 1915 г., со свойственным ему практическим провидением сказал, что он убедился отныне, что подоходный налог должен быть введен и будет введен. И в самом деле, через полтора года закон о подоходном налоге получил высочайшее утверждение[439]. Мне уже не пришлось защищать его проект с кафедры Государственной думы: я был в это время членом Государственного совета. Да в Общем собрании Думы и не понадобилось бы его отстаивать: дело, помнится, ограничилось речью А.С. Посникова, покрытою аплодисментами[440]. Главный мотив, превыше всех по своей убедительности и даже императивности, была война.
Проект встретился со мною снова, когда он поступил в Государственный совет. Желая хоть чем-нибудь содействовать его прохождению, я к этому времени напечатал в «Вестнике финансов»[441] ряд статей о подоходном налоге за границею и у нас[442] и о мотивах pro и contra[443] этого налога. С дополнением очерка истории русского прямого обложения эти статьи образовали книгу, которая появилась в 1915 году[444]. Я разослал ее тогда всем видным членам Думы и Совета и думаю, что кое-кто ее прочитал. В Финансовой комиссии Государственного совета[445] была сделана попытка отклонить весь проект. Застрельщиком явился на этот раз представитель Гродненской губернии Скирмунт. Но было уже ясно, что идти назад с этим делом не приходится. Поговорили, конечно, и довольно долго, но, в конце концов, проект был принят и вошел в Общее собрание с поправками, направленными даже к большему его обострению, к повышению налоговых ставок[446]. В это время особенно стали повторять крылатое слово графа В.Н. Коковцова о необходимости, по обстоятельствам времени, налоговой беспощадности. Какая, однако, добрая была эта беспощадность по сравнению с тем, что было потом. Доклад дела в Государственном совете был поручен мне. Но до этого так и не дошло: 25 января 1916 г. я был назначен государственным контролером, и доклад передан был проф[ессору] А.В. Васильеву. Опасаясь, как бы со стороны правительства защита в Общем собрании не оказалась слишком слабою, я просил поручить ее мне, П.Л. Барк даже просил меня об этом. Сперва было еще заседание Совета министров, где был поставлен вопрос о том, будет ли правительство отстаивать проект в Государственном совете. Некоторые члены Совета министров готовы были отказаться от него даже в этой последней стадии его прохождения. Слышались все старые погудки, даже не на новый, а на старый лад, что подоходный налог есть уступка левым партиям, что это социалистическая реформа и т. п. Пришлось и тут спорить. В конце концов, было все-таки решено, что идти назад уже поздно, хотя некоторые члены Совета министров, бывшие одновременно и членами Государственного совета, не хотели приезжать в заседания последнего, чтобы не быть вынужденными голосовать за налог против своего убеждения[447]. В Общем собрании Государственного совета проект прошел с гораздо бльшими затруднениями, нежели в Думе[448]. Правые выставили оппонентом самого И.Г. Щегловитова, который ссылками на социалистических писателей старался доказать, что налог этот есть одно из ярких выражений социалистической доктрины[449]. Были и другие ораторы против налога. Но в его защиту выступили гораздо более блестящие сторонники. Особенно решающее значение имела, бесспорно, великолепная речь гр[афа] В.Н. Коковцова; она прямо решила дело[450]. Прекрасно говорили М.М. Ковалевский, князь Е.Н. Трубецкой, А.Ф. Кони, которого я еще до заседания просил выступить[451]. Я не привожу содержания всех этих речей, прежде всего потому, что плохо их помню, а затем, при стенограммах, их всегда можно найти и прочесть[452]. Здесь, как ранее в Финансовой комиссии по поводу бюджета, граф В.Н. Коковцов говорил о налоговой беспощадности и ее необходимости в условиях военного времени. По поддержанному им предложению прошло повышение ставок для крупных доходов до 12%. На заседаниях в императорской ложе все время присутствовал великий князь Николай Михайлович.
Вопро о переходе к постатейному чтению был решен в одном заседании, а затем, помнится, еще два заседания были посвящены рассмотрению проекта по статьям. Здесь тоже оказались большие трудности. Особенный спор вызвал вопрос о привлечении к налогу юридических лиц, т. е. главным образом акционерных компаний. Против этого с блестящей речью выступил В.И. Гурко, но безуспешно. В конце концов, с некоторыми несущественными изменениями, кроме повышения окладов, дело прошло и передано было в согласительную комиссию[453]. Но и там соглашение состоялось по всем пунктам, и, таким образом, весною 1916 г., т. е. через одиннадцать лет после приступа к разработке, закон о подоходном налоге[454] получил, наконец, высочайшее утверждение[455].
История прохождения его в наших законодательных учреждениях очень поучительна и характерна. Ведь подоходный налог был крупными буквами написан на знамени Первой Государственной думы, не говоря уже о Второй. Однако ни в Третьей, ни в Четвертой Думе кадетская партия, так поддерживавшая эту идею, не проявила решительно никакой энергии, чтобы ускорить дело и двинуть его вперед[456]. Восклицаний была масса, но содействия никакого. Напротив, во всех почти налоговых вопросах эта партия оказывалась в оппозиции, потому что эти вопросы слишком затрагивали ее материальные интересы. В подоходном налоге более, чем в каком-либо другом вопросе, выяснилась слабая способность народного представительства стать на общегосударственную точку зрения. Я убежден, что не будь войны, никогда этот налог не увидал бы света. Правые партии высказывались против него собственно потому, что это был один из лозунгов левых. Но и здесь, как и у кадетов, не было искренности, а главным образом – себялюбивая защита личных интересов. Правые не могли не понимать совершенно ясно, что для кадетов подоходный налог – простая вывеска, которую они вовсе и не предполагали осуществить на деле. Это, напр[имер], отлично усвоил Н.Е. Марков 2-й, который в налоговых вопросах всегда подзадоривал кадетов своим радикализмом, отлично зная, что они так далеко не пойдут. Что касается характеристики подоходного налога как меры социалистической, то здесь, мне кажется, я и печатно, и в Думе, и в Совете опроверг это заблуждение. Подоходный налог есть средство защиты от социализации имуществ; теперь, после того, как мы дожили до большевизма, это не может уже подлежать никакому сомнению. Ведь подоходный налог предполагает непременно и неизбежно собственность, дающую доход; а коммунизм и социализм ее отрицают. Поэтому подоходный налог является компромиссом, при котором сохранение принципа частной собственности и капиталистического строя обеспечивается при одновременном удовлетворении требований справедливого распределения налогового бремени сообразно имущественной состоятельности каждого. Коммунистический же строй в налогах вообще не нуждается, так как все имущество, все капиталы при этом строе национализируются. Народное представительство, которое правильно понимало бы свою обязанность поддержания существующего экономического строя, должно было бы всегда идти навстречу таким реформам, как подоходный налог. Но против этого выступали классовые интересы и неизвестно на чем построенная надежда, что можно будет еще просуществовать и так. И вот, благодаря этой узкой точке зрения, не только в налоговой, но и в других областях экономической жизни, мы теперь и дожили до полного разрушения индивидуалистического строя, восстановление которого потребует совершенно исключительных усилий и жертв.
Само собою разумеется, нет той истины, которая, при ничем не ограниченном ее проведении, не могла бы довести до абсурда. Если увеличить ставки подоходного налога до бесконечности, то можно уничтожить всякую собственность. Но это же не аргумент против подоходного налога, а против злоупотребления принципом прогрессивного обложения. Этого не поняло после Февральской революции Временное правительство и его министр финансов А.И. Шингарев: они полагали, что налог, как бы он велик ни был, остается все-таки налогом, и забывали элементарное правило, что объект обложения не должен подвергаться уничтожению. В силу этого оклады подоходного налога и добавочного к нему дополнительного налога были доведены до 60 %, а для промышленных предприятий, вместе с обложением военной прибыли, до 90 %. А так как доход исчислялся по размерам его в 1916 г., то зачастую обложение дохода 1917 [г.] превышало значительно 100 %, т. е. поглощало весь доход и часть капитала[457]. Разрушая объект, такое обложение разрушало самого себя. Это было, конечно, на руку социалистам, так как в таком размере налог являлся не гарантиею существующего экономического строя, а способом его разрушения. Большевикам, впрочем, и этого оказалось мало: они теперь проводят всевозможные нормы национализации собственности, после чего им уже никаких налогов не понадобится[458]. К этому они, как известно, и стремятся, а слепые вожди слепых, кадеты, попав в правительство, оказали им самое усердное содействие, разрушив ту систему подоходного обложения, которую сами защищали.
Третий этаж податной системы в западноевропейских странах – в Германии и в Англии – образуют в последнее время налоги имущественные. Они являются до известной степени коррективом к подоходному налогу, устанавливая более высокое обложение так называемых фундированных доходов, т. е. доходов от имущества, в противоположность доходам от личного заработка. В Пруссии, а затем и в некоторых других германских государствах, в этой роли явился дополнительный имущественный налог, заменивший в этом смысле реальные налоги, переданные местному самоуправлению. Другую форму обложения имуществ составили налоги с наследств и с прироста ценности. Этими налогами настигается та часть имущества, которая нормально не подлежит иным видам обложения. В частности, наследственный налог является могущественным способом поверки показаний, сделанных для подоходного налога: здесь, при открытии наследства, обнаруживаются нередко скрытые плательщиками при декларациях по подоходному налогу источники доходов.
Таким образом, третьей областью, где открывалась возможность дальнейших преобразований, могли быть налоги имущественные и наследственные. Я думал, однако, да остаюсь при этом убеждении и сейчас, что для введения у нас имущественного налога время еще не наступило: это дело не столь близкого будущего. Во-первых, нет и надобности в этом налоге для более высокого обложения фундированных доходов, пока у нас существует в бюджете реальное обложение: земель, домов, промыслов и капиталов. А во-вторых, оценка имуществ по их ценности, а не доходности, представляет чрезвычайные затруднения, а ведь мы до сих пор не выполнили оценки земель по их доходности, которая несравненно легче. Наши профессора-финансисты вроде П.П. Гензеля убеждены, что это очень все просто, и уверили в этом Временное правительство, которое включило имущественный налог в свою податную программу[459]. Но я убежден, что практика очень разочарует в этом отношении. Свои возражения против имущественного налога я в 1917 г. напечатал в «Новом времени»[460]. Мне возражал, между прочим, проф[ессор] Ф.А. Меньков в «Новом экономисте»[461], но его доводы меня нисколько не убедили. Другое дело – налоги с прироста ценности и наследственные. Налоги с прироста ценности могли бы быть у нас предоставлены городам, которым легче оценить этот прирост, происходящий нередко от различных городских мероприятий: проведения новых улиц, трамваев и т. п. Что касается наследственного налога, то реформа его была проектирована нами одновременно с подоходным налогом[462]. Как известно, наши пошлины с безмездного перехода имуществ имеют прогрессивные ставки в зависимости от степени родства наследника с наследодателем, но не от размера наследственных долей. Кроме того, от обложения изъяты земли, переходящие по наследству к родственникам первой степени. Наконец, оценка наследственных имуществ производится по нормам и притом судами, а не податными учреждениями. Попытка передачи исчисления и взимания пошлин финансовым органам была проектирована еще в 1903 (?) г.[463], но потерпела неудачу в Государственном совете. Поэтому мы предприняли более широкую реформу, сводившуюся к исчислению прогрессивных окладов не только по степени родства, но и по ценности наследственных долей; к установлению, вместо законных, индивидуальных, специальных оценок наследств, к отмене ничем не оправдываемого изъятия земель и к передаче дела исчисления и взимания пошлин финансовым органам.
Для обсуждения этого проекта была также образована Комиссия под председательством И.П. Шипова, и проект был внесен в Думу также в 1907 г., но и до сих пор он не увидал света[464]. Впрочем, для его рассмотрения при Финансовой комиссии Государственной думы была образована подкомиссия под председательством П.В. Синадино, которая приложила все меры к тому, чтобы испортить проект, т. е. внести разного рода правила в целях нормализации оценок и ограничения вмешательства фиска. Доклад подкомиссии был рассмотрен и Финансовою комиссиею, и затем его предполагалось назначить к слушанию в Общем собрании Думы даже раньше подоходного налога. Но дело на этом и остановилось. Поэтому параллельно с этим проектом Департаментом окладных сборов была разработана, на основании новых статистических данных, новая табель законных оценок земель для взимания наследственных, гербовых и крепостных пошлин, которая получила утверждение уже в порядке военного законодательства[465]. Но до какой степени всякие законные оценки вообще не могут угнаться за действительными изменениями в стоимости имуществ, это лучше всего показывает нынешнее время: теперь эта табель, утвержденная в 1915 г., не имеет уже никакого практического значения. Что касается общей реформы наследственного налога, то она была предположена и Временным правительством, которое пошло в этом отношении даже несколько дальше нас: по его проекту ставки налога будут прогрессировать в зависимости от размера не наследственных долей, а всей наследственной массы[466]. Такой порядок ближе отвечает задаче наследственного налога – служить коррективом подоходного обложения не наследников, а именно наследодателя; при этом и финансовые результаты будут больше. Теперь, однако, с упразднением наследств, нет места и для их обложения: новое доказательство того, что налоги не имеют ничего общего с социализмом и коммунизмом, а, напротив, составляют принадлежность совершенно иного экономического и социального строя.
Я не буду здесь касаться разного рода менее существенных проектов податного характера, получивших силу закона после 1905 г. уже в силу своей незначительности. Упомяну еще только о проекте финансирования местного самоуправления – городов и земств. Этот вопрос стоял давно на очереди, с 1885 г., с Комиссии А.А. Рихтера о земском обложении. С одной стороны, земства справедливо жаловались, что у них нет средств, так как они не располагали никакими иными источниками, кроме обложения недвижимых имуществ. В силу этого, под предлогом обложения земель, содержащих горные месторождения, и строений и других помещений торгово-промышленных предприятий, создался, рядом с государственным, очень обременительный и неуравнительный промысловый земский сбор. Равным образом, и земли были, по крайней мере в некоторых местностях, обложены очень высоко. В 1900 г. пробовали помешать неограниченному росту земских сборов, установив известную предельность роста земских расходов[467]. Но эти расходы сами по себе были у нас так невелики сравнительно с потребностями местного благоустройства, что мера эта осталась совершенно без практического результата, создав только трения между правительством и земствами. Таким образом, и плательщики земских сборов чрезвычайно жаловались на их обременительность и неуравнительность, и земства не менее жаловались на недостаток средств. В то же время земская и городская система обложения, стоявшая, в сущности, вне всякой связи с государственною, препятствовала проведению серьезных преобразований в этой последней. Мы остановились поэтому на мысли в основу местного обложения положить государственные налоги, отменив несовместимые с ними местные сборы, а происходящие от этого недоборы пополнить из нового источника, который земства и города получили бы в виде дополнительного ко всем видам казенного налога сбора с торговли и промышленности[468]. Вопрос обсуждался сперва в междуведомственных комиссиях, куда были приглашены представители местного самоуправления и торговли и промышленности. Любопытно было здесь наблюдать, как складываются интересы в вопросах обложения: для земских деятелей наша система казалась приемлемою, так как земства получали этим способом доступ к обложению торговли и промышленности. Они опасались только, как бы не прогадать, отказываясь от сборов с торгово-промышленных помещений и рудных месторождений. Представители тех местностей, где эти сборы давали крупные доходы, возражали против их отмены. Напротив, промышленники и торговцы были очень рады отмене этих совершенно произвольных сборов, но справедливо чувствовали, что в виде добавок ко всем видам промыслового налога им придется платить, пожалуй, еще больше. Между этими Сциллой и Харибдой нам удалось все-таки провести свой проект и внести его в Государственную думу[469]. Но здесь на него напали кадеты: они восклицали, что мы этим способом ничего не даем земствам, что надо поставить вопрос несравненно шире. Припертые к стене, кадеты на этот раз внесли свой проект, сводившийся к передаче поземельного и подомового налогов, а также патентного сбора целиком земствам и городам[470]. Это приводило бы к разрушению всей нашей податной системы. Но для кадетов это, конечно, было безразлично. Так дело это и застряло. Ограничились изданием закона о снятии с земств и городов ряда расходов государственного характера, с перенесением их на казну. Любопытен самый процесс прохождения этого дела в Думе. Хотя правительство заявило, что берет на себя разработку проекта закона об улучшении земских финансов, Дума все-таки постановила сама выработать такой законопроект, или не доверяя тому, что правительство исполнит свое обещание, или, что вернее, желая показать свое усердие в этом деле перед избирателями[471]. И вот председатель Финансовой комиссии Г.Г. Лерхе взялся лично за это дело. И что же он сделал! Он ознакомился с предположениями министерства и с необыкновенною быстротою внес их от себя, напутав при этом так, что все стали в тупик. Тем не менее, Финансовая комиссия все-таки приступила к обсуждению его проекта, хотя мы предупреждали ее, что министерский проект будет внесен очень скоро. Часть доклада Г.Г. Лерхе – о налогах – была, за неясностью ее, оставлена пока без рассмотрения, ограничились самою элементарною частью – о снятии с земств и городов некоторых расходов, и в январе 1912 г. внесли об этом доклад в Общее собрание Думы. Но его еще не успели там рассмотреть, как в марте было внесено и правительственное представление. Тогда первый доклад Финансовой комиссии пришлось пока бросить и заняться этим представлением. Но опять-таки часть налоговую, по ее сложности, комиссия не осилила и ограничилась частью о перенесении на казну некоторых земских и городских расходов, что затем и получило силу закона[472]. А более существенная, но затрагивающая серьезные интересы плательщиков налоговая часть так и остается до сих пор в пространстве. Кадеты достигли своей цели: правительственный проект они затормозили, да и свой, который они в глубине души вовсе не поддерживали, не провели.
Итак, если теперь взять баланс того, что было предположено, и что удалось провести с 1905 г. до войны, то окажется крайняя бедность: преобразован был только налог с городских недвижимых имуществ, да отнесены на казну некоторые земские и городские расходы. Война дала сильный толчок податным преобразованиям: она дала подоходный налог, налог с закладных, военный налог и повышение целого ряда сборов. Для будущего остались завершение земельных оценок и преобразование поземельного налога, введение налога с уездных поселений и реформы промыслового налога, наследственного налога и всей системы местного обложения. Революция в первом февральском своем фазисе пробовала создать у нас поимущественное обложение и расширить реформу наследственного налога, но на деле форсированием ставок только в корне разрушила надежды на успех подоходного обложения. Октябрьский же переворот и дальнейшие события ведут к уничтожению всякого правильного обложения и к замене его национализацией предприятий и конфискацией имуществ и капиталов.
В податном деле, может быть, яснее, чем в каком-нибудь другом, видны ошибки нашего думского представительства, которое должно было отрешиться от личных и классовых интересов, стать на общегосударственную точку зрения и взять реформу податного дела в свои руки. Между тем, ради плохо понятых интересов избирателей, оно ограничивалось борьбою с правительством за их карман. И в результате (конечно, не в одной податной области) не сумело предупредить революции, которая сразу же принялась за экспроприацию всех имущих классов. Очевидно, в государственных делах мало одной осторожности – необходима и предусмотрительность.
Глава 5
ВОСПОМИНАНИЯ 1914–1917 ГГ
27 июня 1914 года окончилась фактически моя служба по Министерству финансов (я был назначен членом Государственного совета еще 1 февраля 1914 года, но продолжал исполнять обязанности товарища министра финансов до окончания сессии законодательных учреждений 27 июня того же года), и 1 июля я уже был в деревне. Первые полторы недели прошли совершенно спокойно, и я предавался полному отдыху. Но 12 июля получено было первое известие о конфликте между Сербией и Австрией[473] и о русской интервенции[474]. Мне уже тогда стало ясно, что войны не избежать, хотя еще теплилась слабая надежда на возможность соглашения.
17 июля мы с женою ездили к родным и, когда возвращались оттуда мимо кейданского вокзала, то увидели его против обыкновения ярко освещенным. Мне надо было бросить письмо в ящик, и я зашел на вокзал, где узнал, что только что получено распоряжение об общей мобилизации[475]. Кейданы в 70 верстах от германской границы по прямой линии; поэтому неприятеля можно было ожидать через несколько дней, тем более что было совершенно известно, что никаких войск на дороге он пока не встретит. Ввиду сего мы решили уехать в Петроград на другой же день. Собирались и укладывались всю ночь и отбыли с вечерним поездом 18 июля. Впоследствии оказалось, что такая поспешность была напрасна: мы могли прожить все это лето в деревне, потому что немцы заняли Ковенскую губернию только в 1915 году[476]. Но кто ж мог знать это заранее?
Из Кейдан нагрузилось в поезд бесконечное множество народа: в вагонах стояли во всех коридорах. Тогда это было в диковину. Такая масса отъезжающих бросилась потому, что говорили, будто на следующий день поездов уже не будет. В Вильно прибыли мы поздно ночью. Нас, кейданцев, было очень много – всего более 30 человек. Сразу найти помещение для такой толпы было нелегко. Однако мы его все-таки добыли и разместились в гостинице. Весь следующий день прошел в ожидании и подготовке вечернего отъезда. Нам обещаны были отдельные купе в первом классе и выданы были билеты. На деле мы попали во второй класс и в общие с другой публикой помещения. Да счастливы были, что хоть так устроились: такая была давка. Вещи приходилось втискивать через окна. Наше положение усложнялось еще тем, что у нас на руках были больные и старики. Но все-таки кое-как устроились, не без столкновений. Ехали по тогдашнему бесконечно долго – кажется, около 25–30 часов. По дороге навстречу нам проходили поезда с войсками. Солдаты были бодры, пели песни. Но на некоторых станциях, главным образом в Пскове, шел форменный вой, бабы провожали запасных, призванных на войну. Этот вой и плач был какой-то нечеловеческий и производил ужасно тяжелое впечатление.
В Петербург мы приехали очень поздно ночью, чуть ли не в два часа, и тут выяснилось новое препятствие: не было не только карет, но даже извозчиков. Пришлось идти на извозчичьи дворы и будить. О получении вещей нечего было и думать: они отстали, а может быть даже не были отправлены из Вильны. Целую неделю пришлось за ними ездить на вокзал, но, в конце концов, все они все-таки были по частям получены, ни одна не пропала. Теперь это уж не прошло бы так удачно.
Проезжая по улицам Петербурга ночью, мы встретили остатки патриотических манифестаций[477]. Между тем, еще недавно, когда мы были в деревне и война не была объявлена, были сильные рабочие беспорядки, которые дошли до переворачивания трамваев. Их тогда приписывали влиянию немецких и австрийских агентов. С объявлением войны все эти явления совершенно прекратились[478].
В Петербурге мы встретились с новыми страхами и слухами: здесь также боялись внезапного появления немцев и с суши, и с моря и гоняли народ рыть окопы где-то у Ораниенбаума и Парголова. Все эти опасения вскоре рассеялись, а первоначальные успехи русских войск в Восточной Пруссии внесли значительное успокоение[479]. Условия жизни в Петербурге почти не изменились против мирного времени. Тяжело было только жить в жаркую погоду в городе.
Вскоре после приезда моего состоялся в Зимнем дворце торжественный молебен и прием членов Думы и Государственного совета по случаю войны. Речи к Государю произнесли Родзянко и Голубев. Государь отвечал. Этим прием и окончился[480]. Настроение было очень бодрое и твердое.
Первое время пребывания в Петербурге мне почти нечего было делать. Стал читать Соловьева, а затем принялся усердно за статьи о подоходном налоге, впоследствии составившие особую книжку. Официальные мои занятия сводились пока к участию в Романовском комитете[481] в качестве товарища председателя. Этот комитет был учрежден под председательством А.Н. Куломзина еще весною 191[4] г.[482] для призрения сирот сельского состояния. В первоначальной его организации я принимал довольно большое участие при проведении дела в комиссиях Государственной думы. Этот комитет, учреждение чисто благотворительное, благодаря свойственной А.Н. Куломзину инициативе собрал большие средства и успел открыть много приютов по всей России, развив и местную сеть комитетов. Кроме меня, товарищем председателя был еще А.А. Макаров, а членами были назначены разные лица из состава Думы, [Государственного] cовета, Сената и благотворительных учреждений.
В обществе к Романовскому комитету относились вообще очень сочувственно.
Другая область благотворительной деятельности открылась для меня с назначением членом Верховного совета[483] и Попечительства о материнстве и младенчестве[484]. В эти оба учреждения меня привлек мой старший друг и товарищ по гимназии Г.Г. фон Витте[485]. После непродолжительной службы в прокуратуре Г.Г. фон Витте перешел в Хозяйственный департамент Министерства внутренних дел[486], где сосредоточился на вопросах санитарии и общественного призрения и сделался настоящим специалистом этого дела. Когда Хозяйственный департамент был превращен в Главное управление[487], Г.Г. получил должность управляющего Отделом народного здравия и общественного призрения[488]. Здесь ему часто приходилось ездить на международные конгрессы, и результатом его работ была записка о призрении материнства и младенчества[489]. На этом вопросе он очень сблизился со знаменитым доктором К.А. Раухфусом, человеком огромных знаний и большой инициативы. Раухфус пользовался большим доверием у императрицы Александры Федоровны, которая задумала учредить в Петрограде Институт материнства и младенчества. Она близко интересовалась этим делом еще в Германии. Для сооружения Института был путем пожертвований, кажется, банков составлен капитал чуть ли не в миллион рублей. Но к постройке так и не пришлось приступить: началась война, не было ни рабочих, ни строительных материалов, да и все цены возросли до чрезвычайности. Поэтому Попечительство занялось устройством, и не без успеха, целого ряда яслей и приютов. Председательницей Попечительства была императрица, а товарищем К.А. Раухфус, который фактически и председательствовал, а Г.Г. фон Витте управлял делами[490]. В это Попечительство, в его Совет я и был назначен членом. В состав совета входили как лица близкие к императрице (ее секретарь граф Я.Н. Ростовцев, его помощник Б.К. Ордин), так и несколько профессоров, докторов и женщин-врачей. К.А. Раухфус чрезвычайно горячо относился к делу. Умилительно было видеть этого глубокого старика, несмотря на годы не терявшего энергии в задуманном им большом добром деле. Необыкновенно светлый ум, широкие взгляды, привлекательное обращение, не только формальное, но душевное, делали К.А. чрезвычайно симпатичным. К сожалению, ему так и не удалось увидеть осуществления заветной своей мечты – Института материнства и младенчества; но к этой идее, конечно, вернутся. К.А. угас просто от старости. Замечательно, что перед смертью он подумал о всех нас, своих сотрудниках, всем оставил по себе память. Даже мне, хотя я никогда много с ним не работал, прислали после его кончины изящную серебряную пепельницу, которую он мне предназначил. Всегда остроумный, он шутил, что ищет, как переменить фамилию (тогда многие немцы переменили свои фамилии на русский лад), и нашел: «Дымоногов». Мы все очень этому смеялись.
Императрица Александра Федоровна, хотя чрезвычайно редко председательствовала (даже и не помню такого случая), но по докладам К.А. Раухфуса постоянно интересовалась делами Попечительства и давала свои указания.
В начале войны под ее председательством возникло другое, гораздо более обширное и торжественно обставленное учреждение – Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов. Этот Совет был поставлен сразу на линию высших государственных учреждений. В состав его вошли все заинтересованные министры, председатель Совета министров, как товарищ августейшей председательницы, председатели Думы и Государственного совета и ряд членов Государственного совета и Думы, а также другие деятели. Кроме императрицы, членами Совета состояли великие княжны Ольга и Татьяна, затем великая княгиня Ксения Александровна и некоторые великие князья[491]. Управляющим делами и личным докладчиком у императрицы по Верховному совету был по личному ее указанию назначен Г.Г. фон Витте. Очевидно, императрица успела ознакомиться с его работою в Попечительстве, и выбор ее, надо сказать, был чрезвычайно удачен: Витте был человек ловкий, умевший себя держать, красноречивый, но вместе с тем это был человек дела, специально знакомый с вопросами призрения. Я как-то высказал ему, что немного скучаю от безделья в такое серьезное время, и он устроил мне назначение членом Верховного совета. Я не могу сказать, чтобы в первое время у меня оказалось много дела по этому учреждению. Заседания Совета в полном составе под председательством императрицы были редки. Они происходили обычно в Малахитовом зале Зимнего дворца. Все являлись в вицмундирах, звездах и лентах. Императрица входила в сопровождении великих княжон и обходила стол, подавая всем руку, а с некоторыми – и останавливаясь для разговора.
В первом заседании императрица произнесла короткое приветствие по бумажке, на всех прочих ограничивалась молчанием и знаком головы указывала на свое согласие с докладами. Докладывал, чрезвычайно ясно и сжато, Г.Г. фон Витте. Горемыкин давал краткие пояснения. Редко когда говорил кто-нибудь из прочих членов. Обычно заседание тянулось полчаса, после чего императрица и великие княжны вновь обходили весь стол, подавали всем руку, не исключая и чинов канцелярии, и уходили во внутренние покои. Забыл упомянуть, что в числе членов была и статс-дама императрицы Е.А. Нарышкина. Великие княжны, конечно, молчали на заседаниях, и только Ольга Николаевна рисовала портреты присутствующих.
Вся работа шла вне общих собраний Совета, в специальных комиссиях, при нем образованных. Здесь разрабатывались и законодательные предположения, касавшиеся быта запасных, и финансовые меры. Я также участвовал и в комиссиях, которые собирались в Мариинском дворце; Финансовая была под председательством П.А. Харитонова, Законодательная под председательством А.С. Стишинского и Распорядительная под председательством С.Е. Крыжановского[492]. Помимо участия в заседаниях, мне лично было поручено нелегкое дело – устройство лотереи в пользу семей запасных, т. е. для усиления средств Верховного совета. Для обсуждения общего вопроса о способах осуществления этой лотереи собрались в Учетном банке[493] представители всех коммерческих банков, которые высказались за удвоение предположенной суммы – с десяти до двадцати миллионов рублей – и приняли на себя обязанность содействовать распространению билетов лотереи. Было постановлено выпустить две серии, по десять миллионов каждую. Под моим председательством образован маленький лотерейный комитет, куда вошли представители Кредитной канцелярии[494], Государственного банка, В.П. Семенов Тян-Шанский от Татьянинского комитета[495], который также имел получить долю в выручке, князь Н.Д. Голицын, будущий последний председатель Совета министров, от Комитета о военнопленных[496] и Е.К. Ордина от лазарета Зимнего дворца. Но душою дела был, без сомнения, В.К. Скворцов, делопроизводитель комитета, чиновник Кредитной канцелярии. Необыкновенно энергичный и практичный, он умел прекрасно организовать и дело публикации, и дело продажи билетов. Надеялись первый выпуск продать почти полностью накануне Рождества, в три дня. Но результаты далеко не оправдали надежд. Пришлось очень много позаботиться о распространении билетов, особенно содействовать продаже их в провинции через посредство местных органов. Дело это испортило мне много крови. Когда пришлось давать первый отчет в Верховном совете, то проданными оказались билеты всего на одиннадцать миллионов рублей. Затем, однако, дело пошло бойчее, и в результате была выручена почти вся сумма – не хватало 200–300 тысяч рублей. Однако дело было настолько трудное, что его уже не повторяли. Как бы то ни было, а Верховный совет прожил на средства лотереи почти год: чистая выручка, за вычетом выигрышей и расходов, дала Совету около шестнадцати миллионов рублей.
Верховный совет был учрежден для призрения семей запасных, раненых и убитых, для призрения же самих раненых не существовало специального учреждения. Этот пробел был пополнен в начале 1915 года расширением компетенции Верховного совета, в ведении которого организована была Особая комиссия для призрения самих раненых[497]. Председательницею ее была сделана великая княгиня Ксения Александровна, а я был назначен товарищем, т. е. фактическим руководителем этого сложного дела. Оно очень затруднялось тем, что одновременно на непосредственное его ведение претендовал московский Комитет великой княгини Елизаветы Федоровны[498]. Сама великая княгиня Ксения Александровна, хотя и сестра Государя, не пользовалась у императрицы никаким влиянием и авторитетом.
Местными органами Верховного совета были в Петрограде Комитет под председательством вел[икой] княжны Ольги Николаевны, так называемый Ольгинский комитет[499], а по всей остальной России – так называемые Елизаветинские комитеты, под руководством центрального московского Комитета великой княгини Елизаветы Федоровны. Этот последний и считал, что забота о раненых на местах принадлежит ему. Но в Положении об Особой комиссии вел[икой] княгини Ксении Александровны было сказано, что Комиссия эта может иметь самостоятельные органы на местах[500]. В Комиссию управляющим делами был, могу сказать, навязан великой княгине Ксении Александровне ее супругом капитан 1-го ранга П.В. Верховский, работавший с великим князем Александром Михайловичем в Комитете по сооружению воздушного флота[501]. Этот Верховский, чахоточный, необыкновенно желчный, считал себя почему-то большим авторитетом в канцелярском деле, где он ровно ничего не понимал. Докладывая великой княгине чуть не ежедневно, он все сводил к тому, чтобы, под видом ограждения интересов великой княгини, вести какую-то совершенно ненужную борьбу с великой княгиней Елизаветой Федоровной и ее комитетом. Да и не только с ним, а с канцелярией всего Верховного совета. Присосеживались тут и разнообразные дамы, окружавшие великую княгиню. Бедная Ксения Александровна, насколько я успел ее узнать, была вовсе не такою, как старались ее изобразить; она была только необыкновенно скромна и застенчива. Возложенную на нее задачу председательства в Особой комиссии она считала превосходящею свои силы и положительно была бы рада отказаться от нее совершенно и все дело передать великой княгине Елизавете Федоровне. Но окружающие ни за что не хотели на это согласиться. И борьба шла, глухая и упорная, не только с великой княгиней Елизаветой Федоровной, но, в конце концов, и с поддерживавшей ее императрицей. Теряло от этого дело. От нас требовали составления особого положения о Комиссии и инструкции. Приходилось это делать при помощи П.В. Верховского, совершенно к подобному делу не способного, но убежденного, что он должен все делать сам. А сам только запутывал все, нередко блуждая среди трех сосен. В результате получилось компромиссное положение, при котором за Особой комиссией была сохранена известная доля самостоятельности[502].
Видя, что, в сущности, мы занимаемся почти исключительно бумажным делом, между тем, увечные и пленные начинают возвращаться из Германии и Австрии, я поднял вопрос об открытии в Петрограде хотя[503]…
В поезде я прочитал в газетах, что И.Л. Горемыкин вышел в отставку и заменен Б.В. Штюрмером[504]. Это известие очень удивило меня своею неожиданностью. Горемыкин был стар и дряхл, его надо было, конечно, заменить. Но почему же Штюрмером? О последнем я слышал не много хорошего. Штюрмер был когда-то губернатором, затем – директором Департамента общих дел. С этого места он был прямо назначен членом Государственного совета. И тогда удивлялись этому назначению, так как репутация Штюрмера как директора была неважная[505]. Назначение в Государственный совет приписывали церемониймейстерским талантам Штюрмера, который исправлял эти обязанности на коронации[506]. По происхождению просто немец, он старался связать себя чуть ли не с Рюриковичами, доказывая свое происхождение или родство с княгиней Анной Кашинской, на открытии мощей которой он являлся в качестве ее родича[507]. В Государственном совете Штюрмер ничем не выделялся и никогда не выступал, даже в Финансовой комиссии, где на него возложен был доклад какой-то маленькой сметы, он никогда не говорил[508]. С виду совсем старый, еле говоривший, он производил впечатление ходячего склероза. Чем объяснялось поэтому назначение одной развалины вместо другой – мне было, да и до сих пор осталось, совершенно непонятным[509].
Вскоре по возвращении в Петроград я отправился к Барку по делам Особой комиссии великой княгини Ксении Александровны. Барк принял меня чрезвычайно любезно и сказал, что по его докладу я назначен членом Комитета финансов[510]. Эта благосклонность с его стороны меня очень удивила. Оттуда я пошел с обычным докладом к великой княгине, и вот, во время доклада (это было, кажется, 24 января) явился камердинер и сказал, что статс-секретарь Танеев просил меня немедленно к телефону. Я, тем не менее, окончил доклад и, откланявшись великой княгине, вызвал Танеева к телефону: оказалось, что Государь приказал мне явиться в Царское к шести или семи часам вечера[511].
Так как в это время стали говорить об уходе П.А. Харитонова, то я понял, что Государю угодно предложить мне место государственного контролера. И раньше уже доходили до меня разговоры о возможности привлечения меня в состав кабинета при Горемыкине. Указывали на пост министра финансов. Это назначение в условиях войны и того расстройства, до которого были доведены наши финансы при Барке, мне совершенно не улыбалось. Но должность государственного контролера была много проще и менее ответственна. От великой княгини я поехал, поэтому, к графу В.Н. Коковцову и, посоветовавшись с ним, решил согласиться. Я знал притом, что мое назначение будет принято и в законодательных учреждениях, и в обществе благоприятно; и с этой точки зрения, равным образом, не считал возможным отказываться. Итак, вечером я поехал в Царское. Жена моя[512] поехала со мною и ждала меня на вокзале в Царском Селе.
Государь принял меня в своем кабинете, в левом флигеле Александровского дворца[513]. Он был очень любезен и прост, разговор был совсем короткий и происходил стоя. Государь сказал мне, что предлагает мне должность государственного контролера и спрашивает, согласен ли я ее принять. Я на это ответил, что воля монарха есть закон для верноподданного, а потому я прошу лишь снисхождения к своей будущей работе. «Сегодня же указ будет подписан», – сказал Государь[514]. Тем, сколько помню, и ограничилась эта первая аудиенция. На следующий день я, как полагается, поехал к Штюрмеру и тут увидел, что назначением своим я обязан, очевидно, не ему: он был любезен, но совершенно холоден. От него поехал я к П.А. Харитонову, где выяснилось, что я был именно его кандидатом, что он меня рекомендовал Государю[515]. Это, признаться, очень меня обрадовало. У Харитонова просидел я довольно долго, беседуя о предстоящей мне деятельности и о личном составе Контроля. Я не ошибся, полагая, что назначение мое произведет хорошее впечатление. Даже в ультраправых кругах были им довольны: А.С. Стишинский, поздравляя меня, сказал, что он очень-очень этому рад, так как это the right man in the right place[516]. (Говорили, впрочем, что сам Стишинский выставлялся Штюрмером и правыми кандидатом в государственные контролеры. Тогда его слова – простая вежливость.)
В исполнение своих обязанностей я вступил немедленно, а вскоре переехали мы и в Дом государственного контролера, на Мойке 74. Время службы моей в [Государственном] контроле[517] в смысле чисто личном и семейном было едва ли не наиболее приятным. Мы жили в дивной, уютной, теплой квартире, при которой была даже прелестная церковь, это было так удобно для моих отца и матери.
Контроль мало менял своих начальников, все они сидели по много лет. Последний, П.А. Харитонов, пробыл государственным контролером почти девять лет. Не говорю о Сольском и Филиппове. Самое дело контрольное – не видное: внешние события имели на него мало влияния. Ведомство варилось, что называется, в своем соку, жило своими маленькими интересами. Отсюда довольно большое постоянство личного состава и патриархальность отношений.
О каждом государственном контролере ходили свои рассказы. Особенно много их было о Тертии Ивановиче Филиппове, который даже умер в служебном кабинете государственного контролера. Он построил и украсил в дивном стиле шатра церковь в Контроле. При нем создался хор этой церкви. В его столовой происходило пение старинных русских песен. Конечно, благодаря таким условиям создавался известный непотизм: много служащих было либо в родственных, либо в личных отношениях, кто – к Т.И. Филиппову, кто – к П.А. Харитонову. Я помню выражение Филиппова о каком-то неудачнике: «Наконец он нашел приют в Государственном контроле». Я этим вовсе не хочу бросить тени на состав служащих. Напротив, в общем, там было очень много совершенно дельных людей. Товарищем моим был Александр Иванович Маликов, питомец Контроля, прошедший здесь службу с младших должностей, в высшей степени опытный, знавший и дело, и людей. Он был прекрасно осведомлен о служебных и нравственных качествах всего состава не только в центральном управлении, но и на местах. Он знал историю каждого вопроса в Контроле и болел за так называемые «традиции» контрольного дела. А традиции эти заключались во всемерной охране казенного интереса и в соблюдении строгой законности в расходовании государственных средств. На этом пути ему приходилось нередко сталкиваться с противоположными тенденциями [в лице Барка], который своею угодливостью перед всеми ведомствами представлял полнейшую противоположность своему предшественнику графу В.Н. Коковцову. Несмотря на эти положительные качества, Маликова не терпели в Контроле. Считали его грубым, придирчивым, несправедливым и даже лицеприятным. У него были, будто бы, свои любимцы, которые двигались благодаря этому вперед. Говорили, что П.А. Харитонов занимался преимущественно общегосударственными вопросами, предоставив руководство Контролем Маликову.
С первых же дней своего назначения государственным контролером я стал получать анонимные письма, в которых выражалась твердая надежда, что Маликов будет сменен. А спустя несколько месяцев, когда этого не случилось, – новые анонимные письма, где выражалось уже негодование против меня за то, что я не оправдал надежд и не уволил Маликова. Я в принципе считал невозможным руководствоваться анонимными обвинениями, тем более еще и потому, что никаких определенных фактов в этих письмах указано не было. Тем не менее, я стал наблюдать за Маликовым. Действительно, в его обхождении с подчиненными была резкость, но до известной степени она была объяснима состоянием его здоровья: это был чрезвычайно нервный и желчный человек, страдавший, кроме того, какими-то непонятными желудочными болями, до того жестокими, что его приходилось лечить прижиганием каленым железом по спине. Поневоле тут испортится характер. После одного из таких припадков я уговорил его поехать в продолжительный отпуск на Кавказ. Но как работник это был неоценимый человек, чем и объясняется его карьера, хотя симпатичным он едва ли был кому-либо из моих предшественников.
Полную ему противоположность в смысле характера представлял генерал-контролер Департамента военной и морской отчетности[518] М.И. Скипетров. Как работник и знаток дела он не только не уступал Маликову, но, по моему мнению, стоял значительно выше его: трудолюбие М.И. Скипетрова было совершенно исключительное. Он, можно сказать, жил на службе. Я, право, не знаю, когда он спал и питался. Жил он на Выборгской стороне, но уже в 11 часов обязательно был в Контроле. Затем, после двух-трех часов работы здесь, начинались его путешествия по всевозможным комиссиям и совещаниям, где он был представителем от Контроля: все ведомства желали его видеть у себя, все полагались на его опытность и знания. Так шло до поздней ночи, причем он ел кое-что на перерывах и домой возвращался только спать. Было время, что он не ложился по несколько ночей подряд. В результате однажды после такой работы он поехал в отпуск и всю дорогу не мог заснуть, а когда приехал на место в деревню, то с ним сделался тяжелый тиф.
Скипетров был одним из лучших типов нашей бюрократии: глубоко порядочный, бессребреник, уклоняющийся даже от внеочередных наград, он жертвовал, можно сказать, жизнью своей невидной работе, от которой не мог ожидать ни лавров, ни материальных благ.
У нас, русских, есть такие беззаветные труженики, в полную противоположность иностранцам, которые умеют необыкновенно экономить свои усилия. Судя, однако, по результатам работы, они более правы. Наши труженики полагают массу усилий, но, к сожалению, без результатов.
Я проникся к М.И. Скипетрову особенным уважением, и не один я, а весь Контроль любил его за его прямоту, справедливость и добрые отношения к людям. В случае ухода Маликова у меня, в лице Скипетрова, был готовый его заместитель.
Генерал-контролером Департамента гражданской отчетности[519] был сравнительно не старый человек, С.А. Гадзяцкий. Человек знающий и не без способностей, он был не особенно симпатичен: в нем сквозил какой-то элемент угодливости и склонности написать и сделать все, что угодно будет начальству. Но, бесспорно, это был образцовый и опытный руководитель своего дела.
Весьма дельным был и генерал-контролер Департамента железнодорожной отчетности[520] А.С. Масловский, которого в деле отчетности железнодорожной дополнял глубоко симпатичный, очень культурный и до совершенства знающий свое дело председатель Комиссии для поверки отчетов частных железных дорог[521] И.В. Жарновский. И.В. Жарновского я хорошо знал и вне Контроля: он женился на вдове одного бывшего сослуживца и друга Н.К. Бржеского. В настоящее время И.В. Жарновский как поляк перешел в польское подданство и занимает в Польше должность государственного контролера. По личным его качествам могу сказать, что польское правительство не могло сделать лучшего выбора.
Директор Канцелярии[522] Е.Н. Ларионов был очень добродушный, симпатичный, но совершенно незначительный человек.
Не могу, наконец, не упомянуть о знаменитом члене Совета Государственного контроля[523], известном славянофиле А.В. Васильеве. Знаменит он был преимущественно наружностью: с длинной, белой бородой, он одевался в какой-то им самим изобретенный русский костюм, что, однако, не мешало ему в царские дни надевать мундир и ленту Белого орла[524]. Говорил он тихо, не особенно внятно. Книгу же его, очень толстую, под заглавием «Миру-народу»[525], которую он мне подарил, я, каюсь, не прочитал. Как контрольный деятель он не представлял собою ровно ничего, хотя был прежде даже генерал-контролером. Держали же его в Совете из уважения к его возрасту и безобидности.
Отличительной внешней чертою высших чинов Государственного контроля, за исключением Жарновского, который был даже франтоват, было грязное платье[526]. Маликов был очень неопрятен, Гадзяцкий – тоже, но рекорд побивал Масловский. До такой степени грязно одетого чиновника я не видал, сюртук его всегда лоснился и был спереди залит пищею, швы были протерты и т. д., и т. д. Меня это смущало менее всего, так как я сам далеко не отличался опрятностью в костюме.
Я не буду останавливаться на прочем составе Контроля; особенно выдающихся людей я там не встретил и выделить не мог, но все они были чрезвычайно трудолюбивы и дисциплинированны. Видно было, что контрольная служба – хорошая школа. Впрочем, некоторые более молодые, как Кабачков, Марченков и др., подавали хорошие надежды на будущее.
За краткостью моего пребывания в Контроле мне, к сожалению, не удалось использовать их силы, как бы следовало. Во время войны центральные учреждения Контроля чрезвычайно ослабли в своем личном составе: масса народа отправилась на фронт в Военный контроль[527]. Но еще более ослаблены были местные учреждения[528]. Там и раньше было не густо, в это же время образовалась положительная пустыня. Мне довелось посетить одно из таких учреждений, Могилевскую контрольную палату, когда я летом 1916 года ездил в Ставку[529]. Я застал там беспомощного управляющего, двух-трех инвалидного вида чиновников и несколько барышень. Таково было это губернское учреждение Государственного контроля. Очевидно, никаких запросов такому органу предъявлять было невозможно. И так, по-видимому, было в это время почти везде. Но этого мало: притоку каких-либо сил в Контрольное ведомство мешало прямо смешное материальное обеспечение. Я распорядился опросить палаты о том, какие содержания получают вольнонаемные служащие в разных местностях, и, к общему удивлению, обнаружилось, что в некоторых палатах существовали оклады в пять рублей в месяц, как при Екатерине II. Объяснить этот странный факт можно только тем, что на службу в Контроль шли жены, дети и сестры контрольных же чиновников, для которых даже пятирублевый заработок членов семьи мог иметь некоторое значение в общем котле.
Для меня стало совершенно ясно, что без коренного улучшения материальных условий служащих никакие серьезные реформы контрольной работы не могут иметь никакого практического значения. Проект новых штатов Контрольного ведомства был внесен в Думу еще при П.А. Харитонове[530]. Но я счел невозможным дожидаться его утверждения, а потому и испросил из Военного фонда[531] миллион четыреста тысяч рублей на усиление окладов служащих, дабы уничтожить самую возможность обнаруженных окладов, которые не должны падать ниже определенного минимума. Лучше иметь меньше хорошо оплачиваемых чинов, чем массу существующих впроголодь. Каюсь, что этот кредит был мною испрошен незаконно с точки зрения Контроля. К счастью, Маликов был в это время в отпуске и не мог возражать. Но что же было мне делать в столь тяжелых условиях? Я старался быть, по возможности, экономным, чтобы другим неповадно было. Теперь сумма в миллион четыреста тыс[яч] руб[лей] на целое ведомство могла бы вызвать только улыбку[532].
Приняты были и другие меры, в порядке выдачи наград и пособий в центре и на местах[533]. Вместе с тем, в интересах улучшения личного состава я двинул вопрос о несменяемости чинов Контроля, по крайней мере имеющих ревизионные права и участвующих в коллегиальных учреждениях – общих присутствиях, дабы сделать их, по возможности, независимыми в своих суждениях и замечаниях. Вопрос об этом был поднят давно, но почему-то все время тормозился[534]. Не подлежит, конечно, сомнению, что одною несменяемостью нельзя добиться реальных результатов. Для этого необходимо, чтобы состав несменяемых по своим качествам заслуживал полного доверия. Этого далеко нельзя было сказать о бывшем в мое время составе. Да и как можно рассчитывать на безупречность и должную подготовленность людей и плохо обеспеченных, и слабо подготовленных в образовательном отношении. Вот почему, помимо усиления штатов, я проектировал замещать впредь должности не ниже определенного класса только лицами с высшим образованием. Только после пополнения контроля соответствующими людьми могла бы быть применена и несменяемость. Для пополнения же я предложил пятилетний срок. Я совершенно уверен, что при достаточных окладах замещение всех ревизорских должностей лицами с высшим образованием было бы вполне возможным. Удалось же это в податной инспекции, и как высоко стал престиж местной финансовой администрации. То же самое было бы, без сомнения, и с Государственным контролем. Выработанное на этих основаниях представление удалось провести через Совет министров, хотя кто-то и пробовал возражать, что в нем заметны какие-то тенденции. В Думе оно, конечно, прошло бы без всяких препятствий, если бы не революция. Только, повторяю, при этих условиях мог бы получить серьезное применение и Устав ревизии, внесенный при Харитонове и прошедший в Думе при мне почти без замечаний[535]. В Государственном совете его пришлось отстаивать моему преемнику С.Г. Феодосьеву[536].
В ряду важнейших дел моего времени на Государственный контроль возложена была ревизия военной отчетности и образован на фронте особый Временный контроль, куда, как я говорил, ушла масса контрольных служащих. В центре для той же цели образована была Временная ревизионная комиссия[537], куда должна была стекаться вся военная отчетность. Это было громадное учреждение, с несколькими стами служащих, превосходившее по своим размерам любой департамент. Достаточно сказать, что в начале 1916 года в нем было уже пятнадцать верст полок, наполненных отчетными документами. Это учреждение отличалось и той особенностью, что его приходилось безостановочно расширять, нанимая все новые помещения и привлекая все новых служащих. И все-таки рассмотрение отчетности не могло быть ажурным: ежедневно поступало столько документов, что они заваливали целую порядочную комнату. Дай Бог их только разобрать и разместить по категориям, пока не пришла новая их партия. Таким образом, здесь дело шло о последовательном расширении учреждения, что мною и делалось. Но местная военная отчетность требовала также усовершенствования. Для удостоверения в том, как идет дело на местах, я командировал летом 1916 года на фронт опытных лиц во главе с М.И. Скипетровым. Их соображения были затем подробно рассмотрены в Совете Государственного контроля и послужили основанием к преподанию чинам военного контроля циркулярных указаний, как упростить дело и организовать его по возможности целесообразнее.
Одновременно возникал и другой очень существенный вопрос, получивший до некоторой степени политический характер. Дело в том, что казна отпускала немалые суммы на связанные с войной расходы целого ряда учреждений: Красного Креста[538], Городского союза[539], Татьянинского комитета, Верховного совета и т. д. Периодически эти учреждения через особую комиссию генерала Веденяпина входили в Совет министров с ходатайством об отпуске новых сумм[540]. С особенным недоверием правительство смотрело на ходатайства Земского и Городского союзов, особенно первого. На них смотрели, быть может, и не без основания, как на ячейки будущего революционного движения. С другой стороны, однако, отказать им в средствах было невозможно: как-никак, союзы заняли в деле обслуживания санитарных нужд армии вполне определенное положение, и упразднение их потребовало бы какой-то новой организации, для чего не было ни времени, ни возможности. Поэтому денег не давали в тех случаях, когда союзы стремились выйти за пределы санитарии в тесном смысле этого слова и заняться другими делами: например, проведением дорог, устройством столовых и т[ому] под[обным]. Необходимо было достигнуть определенного модус вивенди[541]. Этот модус возможно было отыскать на почве установления определенного контроля за расходованием казенных денег всеми разнородными общественными учреждениями. Сперва это было поставлено очень неудовлетворительно: был назначен представитель Контроля в состав исполнительного органа Союза, но без всякой фактической возможности наблюдения. Затем П.А. Харитоновым была выработана общая схема организации надзора, признанная, однако, мало действительною и слишком либеральною. Я не совсем усваиваю себе, в чем, собственно, заключалась эта излишняя либеральность. Предложенная затем мною схема, близкая к харитоновской, была принята как правительством, так и самими союзами, которые, правда сказать, вовсе не имели намерения уклоняться от контроля, а, напротив, считали его даже для себя желательным. Чтобы ближе дотолковаться с ними по этому поводу, я посылал в Москву С.А. Гадзяцкого, а затем созвал в Петрограде совещание с участием представителей заинтересованных учреждений, где и были установлены общие основы надзора, одобренные затем и Советом министров[542].
Отношения мои, как государственного контролера, с Государственной думой были невелики: кроме явки для защиты проекта нового Устава ревизии[543], прошедшего уже раньше, при П.А. Харитонове, через думские комиссии, мне пришлось быть только в Бюджетной комиссии при рассмотрении сметы Контроля на 1917 год. Здесь главными темами разговора были расходы из Военного фонда, о чем мне придется еще говорить, вопрос о ревизии расходов общественных учреждений, о чем я уже упоминал, и предположения о выделении Государственного контроля из состава Совета министров[544].
Это предположение высказывалось в Думе очень часто: государственного контролера хотели сделать независимым от правительства органом надзора, которым могла бы пользоваться и Государственная дума. В теории эта мысль кажется справедливою, но практическое осуществление ее встретило бы огромные препятствия. Начать с того, что вне Совета министров государственный контролер лишен был бы возможности знать, что там делается. Если бы такой государственный контролер стал очень преследовать всякие действия правительства, стал бы попросту придирчив, явился бы органом Государственной думы, то, конечно, правительство добилось бы его смены, и положение стало бы нисколько не лучше. Несменяемый же контролер оказался бы в противоречии со всем нашим строем: даже министр юстиции может быть всегда уволен монархом, хотя чины Судебного ведомства пользуются несменяемостью по закону. Иначе и министр юстиции, и государственный контролер стали бы вне зависимости не только от правительства, но и от Государя, не являясь в то же время выборными, а чинами по назначению. Логически следовало бы тогда уж дойти до избрания государственного контролера Думою из своей среды, но до этого не дошла и сама Государственная дума. Любопытно, что И.В. Годнев, который с особой настоятельностью пристал ко мне в этом вопросе в заседании Бюджетной комиссии, так что я не знал, как от него отвязаться, сделавшись сам государственным контролером при Временном правительстве, не обнаружил ни малейшего движения, чтобы выйти из состава Совета министров, и не дал обществу ни одного отчета о ходе государственного хозяйства: так слова бывают далеки от дела[545]. Лично я, возражая против выделения государственного контролера из Совета министров, говорил против своих собственных интересов. Если служба в Контроле была, в общем, мне приятна, то наиболее тяжелою ее стороною было именно участие в Совете министров. Состав его, за немногими исключениями, был мне мало симпатичен. О председателе Б.В. Штюрмере я уже упоминал. Более близкое с ним знакомство не сделало его привлекательнее. Напротив, я и до сих пор не могу понять, почему именно его избрали в преемники Горемыкину. Горемыкин в прошлом имел известные заслуги, это был, во всяком случае, умный человек, определенное имя. У Штюрмера же кроме сомнительной репутации ровно ничего не было. Я положительно утверждаю, что ни говорить, ни писать он не умел[546]. На кафедре я никогда его не видал. В самых небольших совещаниях из одних только министров, с которыми он встречался чуть ли не ежедневно, Штюрмер не мог сказать ни одной связной фразы: ему писали то, что он должен был сказать, хотя бы это были всего две-три строчки. В Совете министров он также почти ничего не говорил. Как он докладывал Государю, я совершенно недоумеваю[547].
Большого роста, с ординарным некрасивым лицом, он плохо ходил, переставляя ноги как палки. Это был, повторяю, ходячий склероз[548]. Между тем люди, особенно близко его наблюдавшие, например, управляющий делами Совета министров И.Н. Ладыженский, утверждали, что им не приходилось видеть человека хитрее Штюрмера, а Ладыженский успел-таки перевидать много хитрых людей на своем веку[549]. Таким образом, назначение Штюрмера надо приписать, очевидно, каким-то скрытым и мне неизвестным его свойствам.
Наиболее влиятельным членом Совета министров был, без сомнения, министр путей сообщения А.Ф. Трепов. Я Трепова знал давно как помощника статс-секретаря в Государственной канцелярии. За болезнью статс-секретаря барона Р.А. Дистерло Трепов недолго исполнял его обязанности. Затем он был управляющим делами Алексеевского комитета[550], откуда был назначен в Сенат, а затем и членом Государственного совета. Как вся эта служба, так и более ранняя деятельность не связывали его с Ведомством путей сообщения. Но ведь и С.В. Рухлов был далек от этого ведомства. Рассказывали, будто сам Рухлов на свою голову рекомендовал Трепова Государю еще в то время, когда ему не грозила отставка. Теперь об этом вспомнили[551]. Кроме того, Трепов принадлежал к династии Треповых, которая со времен императора Александра II пользовалась особым положением. Не очень высокого образования – он окончил Пажеский корпус – А.Ф. Трепов отличался очень энергичным характером и настойчивостью в выполнении задуманного. У него было много трезвого и практического во взглядах: он совершенно правильно учитывал, что наше экономическое будущее зависит от развития нашей железнодорожной сети[552], а современное положение – от устойчивости транспорта. Идя к этим целям, он уже не обращал никакого внимания на препятствия, считая, что их надо устранять, чего бы это ни стоило. Признавая железнодорожное строительство первейшей задачей государства, он находил наиболее удобным создавать для этой цели собственные заводы Ведомства путей сообщения, даже просто металлургические, затрачивая на это громадные суммы[553]. Между тем, война уже достаточно показала, до какой степени слабое развитие промышленности поставило Россию, и в частности государственную оборону, в безвыходное положение. Но казенные заводы удобны для ведомства. Так всегда смотрели на это министерства Военное и Морское, которые, конечно, поддерживали в Совете министров все начинания Трепова в этом направлении. Впрочем, адмирал Григорович не был слишком безусловным в этих вопросах. Но, например, Шуваев не мог даже усвоить себе противоположную точку зрения[554]. Ввиду этого и вообще влиятельного положения Трепова большинство было за него, и я оказывался обыкновенно в меньшинстве, мнение которого и не получало высочайшего одобрения. Конечно, это было далеко не весело, но я считал своим долгом настаивать всегда на своей точке зрения, которую можно прочесть во многих журналах Совета министров, если они целы[555].
Другая цель Трепова – поддержание железнодорожного движения – достигалась, по его мнению, увеличением окладов содержания служащих. В существе эта мысль была справедлива. При уже начавшемся вздорожании всех предметов первой необходимости оставаться при прежних окладах было невозможно. Но вопрос был общий, касавшийся всех состоявших на государственной службе, а не только железнодорожников. Конечно, Трепов имел основание заботиться только о своих, начальникам же прочих ведомств надо было подумать о своих служащих. Они это по возможности и делали, но Трепов, опять-таки пользуясь своим особым положением, шел по этому пути безостановочно и так поднял вознаграждение у себя, что за ним никто не мог угнаться. В результате получилась совершенная неравномерность и отсутствие всякого плана. Примечательно, что после революции Временное правительство не только не отступило от этой практики, но еще значительно быстрее пошло по тому же пути, так что весьма скоро наша казенная железнодорожная сеть, которая давала казне хороший доход, стала приносить огромный дефицит.
План железнодорожного строительства был начертан при Трепове очень широкий и, даже по ценам того времени, требовал затраты, правда постепенной, нескольких миллиардов рублей[556]. Осуществление его было заветной мечтой Трепова, который специально приглашал меня для того, чтобы заручиться моею поддержкой как в этом вопросе, так и в деле усиления вознаграждения служащих. Трепов понимал, правда, очень хорошо, что этих миллиардов в России не найти, что их можно получить только путем привлечения иностранных капиталов. Ради этого он входил в переговоры с приезжавшими в Петроград американскими капиталистами, а меня просил выяснить этот вопрос при моей поездке в Париж[557], о чем я буду говорить впереди. В общем итоге могу сказать, что Трепов был очень энергичный администратор, действительно работавший в своем деле и, что особенно важно, умевший подбирать прекрасных сотрудников. Его товарищи Кригер-Войновский, заменивший его затем в должности министра, и Борисов были выдающимися знатоками своего дела. Замечательно, что хотя Трепов принадлежал к крайним правым и никогда не скрывал своего отрицательного отношения и к Думе[558] и, в особенности, к общественным организациям, но его уважали в этих сферах как человека живого и с широкой инициативой.
На посту министра внутренних дел я застал А.Н. Хвостова. О нем я могу сказать очень мало сверх уже сказанного выше[559]. В Совете министров видел я его крайне редко. Штюрмер, по-видимому, задался целью его свергнуть и занять его место, чувствуя свою неустойчивость как председателя без портфеля. В этом он, очевидно, был совершенно прав. Это особенно проявилось в пресловутой истории с ассигнованием пяти миллионов рублей на известную его императорскому величеству надобность. В первое же заседание Совета министров после моего назначения государственным контролером[560] Штюрмер заявил о высочайшем соизволении на отпуск этой суммы и о том, что Совету министров надлежит облечь его в надлежащую форму, т. е. представить Государю на утверждение свой журнал об этом ассигновании. Ни предмет назначения, ни инициатива, откуда шло испрошение этого кредита, членам Совета не были вовсе известны. Все страшно возмутились против Штюрмера, но делать было нечего, журнал был заготовлен и его пришлось подписать. Выйдя из заседания Совета, некоторые из нас (помню Барка и Наумова) обменивались мыслями, как быть дальше. Явилась мысль представить Государю по этому поводу особую записку, но она была оставлена ввиду неудачи подобной же записки, направленной в свое время против Горемыкина[561].
Тогда, сколько помню, по мысли Барка, решено было предложить Штюрмеру доложить Государю о том, чтобы расходование этих пяти миллионов рублей производилось председателем Совета не иначе, как при участии государственного контролера. Штюрмер пошел на это, в Контроле были проектированы правила расходования, на которые он также согласился, а затем получили они и высочайшее одобрение. Конечно, дело о пяти миллионах рублей не осталось секретом и сделалось известным Государственной думе, где в речах некоторых ораторов были сделаны на него намеки[562]. Штюрмер даже высказывал желание, чтобы я отправился в Думу и дал там объяснение по этому поводу. Но, слуга покорный, я от этого уклонился, а ему сказал, что такие объяснения, притом неполные, так как назначение суммы все-таки неизвестно, вызовут еще большее обострение, с чем он и согласился. При этом Штюрмер заметил: «Вот, на меня претендуют за эти ассигнования, а я тут не при чем, это Хвостов все придумал и спросил эту сумму для того, чтобы организовать правительственную прессу». Впоследствии действительно зашел вопрос о расходовании пяти миллионов рублей, и я был по этому делу приглашен к Штюрмеру вместе со знаменитым Гурляндом. Тогда речь шла о покупке газеты «Новое время», но этим разговором дело и ограничилось[563]. В конце концов, из пяти миллионов рублей не было израсходовано ни одной копейки, а после отставки Хвостова вся эта сумма была возвращена в ресурсы казны. Замечательно, что Штюрмер, который вообще со мною никогда не беседовал особо, счел долгом предупредить меня по телефону об отставке Хвостова, прибавив, что я, вероятно, буду этим очень доволен.
После революции делу о пяти миллионах придано было какое-то необыкновенное значение. Меня допрашивали о нем и в пленуме Чрезвычайной следственной комиссии под председательством Муравьева[564], и еще отдельные следователи[565]. Если вспомнить, что Временное правительство без всякого отчета бросало деньги направо и налево, то диву даешься, почему это дело привлекло к себе такое внимание. Не говорю уже о теперешних расходах: теперь, по крайней мере, никто не старается прикрываться фиговым листом законности, а ведь Временное правительство преследовало в деле отпуска пяти миллионов рублей именно незаконность, потому что фактического расхода вовсе не было. Но, конечно, это дело было использовано Штюрмером для свержения Хвостова, на место которого он сел[566], переехав вскоре в казенную квартиру министра внутренних дел. Мне почему-то кажется, что во многих действиях своих Штюрмер руководился именно такими соображениями как казенная квартира, суммы на представительство и т. п.
Конечно, с назначением Штюрмера Министерство внутренних дел осталось без фактического руководителя. Товарищами его были б[ывший] товарищ председателя Думы кн[язь] В.М. Волконский, приглашенный при совершенно других условиях еще князем Н.Б. Щербатовым[567], и Степанов – по полицейской части[568]. Его очень хвалили как человека весьма порядочного.
Штюрмер пожелал иметь и совершенно близкое себе лицо из состава лидеров правых партий. Поэтому он пригласил графа А.А. Бобринского[569]. Все не могу надивиться, что Бобринский принял назначение товарищем министра внутренних дел. Человек очень богатый и знатный, член Государственного совета, он мог рассчитывать на значительно большее. Его согласие рассматривали как акт самоотвержения[570]. Я графа А.А. Бобринского знал давно, сперва как правого члена Думы и сенатора, затем как члена Государственного совета. Не знаю, чем это объяснить, но по наружности Бобринский был чистейший еврей. И это тем более странно, что его брат граф Андрей Александрович, видный деятель по сахарному делу, имеет тип поляка, что и понятно, так как его мать или бабушка знатного польского происхождения[571]. Граф Бобринский, занимая высокое общественное положение, не лишенный ума и ораторских способностей, держал себя всегда как-то странно, точно заискивал в каждом, с кем говорил. По-видимому, он считал себя очень тонким, хитрым и проницательным. Наверху его, по-видимому, не очень любили.
В своей партии[572] граф Бобринский играл большую роль. Один случай показал мне, что Бобринский не был лишен в известной степени проницательности. Вопрос об общественных организациях[573] был своего рода «бэт нуар»[574] для Совета министров. Было решено и подписано, что в этих именно организациях подготовляется революционное движение. Я затруднился бы сказать по этому поводу что-либо определенное, так как не располагаю для этого никакими фактическими данными. Предполагаю, однако, что кое-что подобное уже могло быть в 1916 году. Резкая противоположность тенденций правительства и общества выяснилась уже в 1915 году. Никакие влияния не могли [оказать] воздействия на изменение правительственного курса. Напротив, замена Горемыкина Штюрмером указывала, что этот антиобщественный курс даже усилился, если возможно, и ни о каком примирении речи быть не может[575]. Эта вода была очень на мельницу нашим оппозиционным элементам, где кадеты играли всегда первенствующую и наиболее влиятельную роль. Прочие, более умеренные партии готовы были бы найти некоторый компромисс, но общее течение увлекало их[576]. Чувство патриотизма требовало отложить все эти вопросы до окончания войны. Но тут очень ловко была поднята новая тема: высшие сферы и, прежде всего, императрицу Александру Федоровну, а под ее влиянием и правительство, стали подозревать в желании заключить сепаратный мир с Германией. Эта тема была настолько популярна, что в большинстве общественных кругов не вызывала даже никакого сомнения[577]. Таким образом, единственный тормоз для подготовки революционного движения – чувство патриотизма – не только устранили, но даже обращали на пользу подготовлявшегося движения. Вот почему я думаю, что в 1916 году участие [в подготовке революции] общественных организаций, Земского и Городского союзов и военно-промышленных комитетов, имевших щупальца и на фронтах, и во всей стране, не представляет собою ничего невероятного, хотя, повторяю, никаких фактических данных на этот счет у меня нет. Если же это было так, то и подозрительное отношение правительства к этим организациям имело известные основания[578]. В Совете министров оно обнаруживалось очень ярко: везде, где только возможно, деятельности союзов ставили препятствия. Денег отпускали им много, но всегда, что называется, со слезой, т. е. с разными ограничениями и оговорками. С этой же целью организован был и контроль за их расходованием, хотя оправдания он мог найти достаточно вне всякой политики, потому что деньги счет любят.
Всякие съезды были Советом министров воспрещены, причем главным образом имелись в виду земские съезды[579]. Тем временем общественные организации действовали со своей стороны и внесли законодательное предположение об организации Земского союза как постоянного учреждения[580]. Правительству предстояло высказаться, приемлема ли для него разработка такого законопроекта. И вот в кабинете Б.В. Штюрмера на Фонтанке было созвано маленькое совещание для обсуждения этого вопроса[581]. Оно состояло, кроме меня и Маликова, исключительно из представителей Министерства внутренних дел в лице Штюрмера, его трех товарищей, кн[язя] Волконского, графа Бобринского и Степанова, Гурлянда и члена Совета[582] Аксенова. Сразу же выяснились две точки зрения: я и Маликов, мы держались того взгляда, что узаконение Земского союза, издание для него определенных правил, быть может, далеко не столь широких, как задумано было авторами проекта, которые предполагали дать Союзу самое обширное поле деятельности, заслонявшее компетенцию самих земских учреждений, и введение его в точно указанные законом рамки, при устройстве правильного денежного контроля за расходованием казенных ассигнований, представляется даже с точки зрения правительства весьма желательным. Гурлянд же и Аксенов доказывали, что организация Земского союза в принципе противоречит нашему государственному строю, а потому проект должен быть решительно отвергнут. Товарищи министра все трое, не исключая и графа Бобринского, стали на нашу точку зрения, причем последний мотивировал ее как раз политическими соображениями, справедливо доказывая, что борьба с обществом «а утранс»[583] не по силам власти и даже нежелательна.
Вот почему я нахожу, что граф Бобринский был человек неглупый, у которого принципиально правые воззрения все-таки не затмевали правильную оценку действительных требований жизни. Однако, вскоре назначенный министром земледелия, Бобринский наделал таких ошибок, с которыми мы и до сих пор расквитаться никак не можем. Но об этом после.
Военным министром ко времени моего вступления в Совет министров был А.А. Поливанов. Я уже говорил, что как помощник военного министра он, в противоположность своему шефу Сухомлинову, пользовался особенными симпатиями Государственной думы. Военным министром он был назначен в 1915 году под давлением общественного мнения и наших военных неудач[584]. Но наверху его не любили. Сухомлинов успел в свое время создать ему плохую репутацию. Условия же его назначения вовсе не могли содействовать укреплению его положения как министра. Поэтому вскоре он получил отставку, и на его место был назначен главный интендант генерал Шуваев[585].
Говоря о нем, еще до его назначения, Государь назвал его «кристально честным» и прибавил, что очень рад, что и я разделяю эту оценку, имея, конечно, в виду мое звание государственного контролера. Я и теперь не могу сказать ничего иного: это был превосходный главный интендант, безупречно поставивший свое ведомство. Здесь, как слышно, не было тех недохваток, которые были обнаружены в артиллерии, в военно-технической части и т. п., но, к сожалению, при всех этих достоинствах Шуваев был ограниченный человек, для которого более широкие горизонты были недоступны. В Военном министерстве он запутался совершенно. Особенно обнаружилось это в деле пополнения армии.
Было ли тут влияние настояний союзников, этого я не знаю, но контингент был увеличен свыше всякой меры и без всякой надобности. От производительной работы была оторвана масса людей, а на фронтах и, преимущественно, в тылу было, в конце концов, сосредоточено, по некоторым сведениям, до четырнадцати миллионов человек. Никакие возражения не помогали. В июле 1916 года был назначен набор, как раз во время страды[586]. Товарищу министра земледелия А.А. Риттиху, объехавшему на свой риск всех министров, едва удалось добиться непродолжительной отсрочки. Этого мало: задумали образовать из пленных австрийских славян какие-то дивизии, как будто мало было своих, и этих пленных, распределенных по заводам и по сельскохозяйственным экономиям, стали срывать с мест и без толку сосредоточивать на железнодорожных станциях, где они ничего не делали и только голодали[587].
Та же самая политика продолжалась и при преемнике Шуваева Беляеве. В Румынию направляли новобранцев в количестве до семисот тысяч в то время, когда туда, за отсутствием надлежащих путей, невозможно было доставить продовольствия, и там был не только голод, но и жестокие эпидемии. И ничего не помогало: на этот раз большинство членов Совета министров высказалось против этой меры, но утверждено было мнение военного министра.
Благодаря такому сосредоточению войск на фронтах и в ближайшем тылу производительная работа в стране приостановилась, а продовольственные затруднения увеличивались до чрезвычайности. Но этого мало: даже с политической точки зрения такие сосредоточения войск представлялись и действительно оказались весьма опасными. На фронтах сидели старики, почти совсем не обученные и не умевшие даже стрелять, но оторванные от дела и семьи и готовые поэтому бежать при первом же столкновении. Среди них революционная пропаганда имела широкое и благодарное поле. Ею и занялись агитаторы левых партий, проникавшие отовсюду в армию под видом прапорщиков, санитаров, фельдшеров и т. п. Крайне вероятно, что много их прошло через Земский союз, который, кроме санитарного дела, стал заниматься постройкой дорог, мостов, открытием столовых и т. п. В одном Петрограде, откуда все старые, испытанные войска были давно выведены, сосредоточено было, говорят, до ста шестидесяти тысяч новобранцев, которых обучали на улицах и держали под ружьем. Запасные батальоны[588] доведены были в некоторых случаях до двадцати тысяч человек. Весьма понятно, что простая искра, брошенная в этот стог соломы, не могла не произвести жестокого пожара. И вот этого всего Шуваев, очевидно, не мог понять.
О морском министре, адмирале Григоровиче, я уже говорил выше. Это был, пожалуй, наиболее умный из всего состава Совета министров. Одно время, при падении Штюрмера, его называли даже кандидатом в председатели Совета министров[589]. Он пользовался уважением и в Государственной думе.
Министр иностранных дел С.Д. Сазонов держал себя в явной оппозиции к Штюрмеру. На него в это время уже сильно точили зубы: с одной стороны, его считали виновником войны, находящимся всецело под влиянием Англии, которая-де для нас гораздо опаснее Германии, в смысле экономической эксплуатации России в будущем. С другой, его будто бы близкие отношения с кадетами вызывали к нему особое недоверие. Но и он сам нисколько не скрывал враждебного отношения своего к Штюрмеру.
Министерство финансов продолжало оставаться в руках П.Л. Барка. Основная, руководящая мысль политики министерства в это время заключалась в том, чтобы быть, по возможности, всем приятным[590]. Первое время никто не встречался с отказом в отпуске кредитов. Это был приятный контраст с управлением графа Коковцова. Министерство с легким сердцем отказывалось даже от таких основных источников государственных доходов, как винная монополия[591]. Но в 1916 году финансовые дела шли с такими трудностями, что даже П.Л. Барк стал по временам обнаруживать попытки к сопротивлению. Конечно, эти попытки не распространялись на предположения, пользовавшиеся особым фавором, исходившие, например, от такого могущественного министра, как А.Ф. Трепов. Тут Барк был всегда пас.
Положение государственного контролера в деле охраны казенного интереса было поэтому в высшей степени затруднительным: в нормальном порядке инициатива этой охраны должна была исходить от Министерства финансов, и поддерживать ее должен был государственный контролер. На деле же последний не мог даже надеяться на серьезную поддержку со стороны Министерства финансов. Особенно это проявлялось в деле отнесения расходов на счет так называемого Военного фонда. По закону во время войны кредиты на потребности военного времени открывались по постановлениям Совета министров, без необходимости внесения оправдательного представления в Государственную думу. Это – ст[атья] 18 Сметных правил[592]. Кредиты же на неотложные необходимости вообще хотя и открываются Советом министров, но должны быть оправданы, согласно ст[атье] 17, внесением особых представлений в Государственную думу, по возможности, до окончания ее сессии, а во время перерыва – по истечении не более двух месяцев по открытии новой сессии. Из сопоставления этих двух статей видно с полною ясностью, что порядок, установленный по статье 18, может касаться исключительно расходов на военные надобности. Все прочие экстренные расходы должны разрешаться не иначе, как по статье 17, т. е. с внесением оправдательных представлений в Думу. Практика же в Совете министров установилась такая, что громадное большинство экстренных расходов, а в это время все почти расходы старались признать неотложными, министры стремились испрашивать по ст[атье] 18, основываясь на буквальном толковании, что это потребность военного времени: раз какой-либо расход должен быть выполнен до окончания войны, значит, это потребность военного времени, хотя бы дело касалось народного образования, постройки какого-либо невоенного завода и т. п. А так как времени окончания войны никто предвидеть не мог, то здесь открывалось широкое поле для отпуска всяких кредитов по ст[атье] 18. И сумма этих кредитов, разрешаемых вне одобрения Государственной думы и Государственного совета, возрастала с каждым заседанием Совета министров[593]. Особенно А.Ф. Трепов, да и другие министры склонны были злоупотреблять статьей 18. Конечно, я должен был возражать и возражал против такой практики[594]. В иных случаях эти возражения имели успех, в других – Совет их не поддерживал. А со стороны Министерства финансов помощи почти не было. Наконец, истощив всякое терпение, я написал министру финансов письмо по поводу проекта росписи на 1917 г., где высказал определенно, что такая практика продолжаться более не может, что уж лучше в самой росписи предусмотреть крупный кредит на непредвидимые расходы невоенного характера, допустив явный дефицит в более значительном размере, но не нарушать бюджетный порядок, закрывая глаза. Я просил министра финансов дать свой отзыв и обсудить этот вопрос в Совете министров.
Но вскоре после этого я был назначен министром иностранных дел[595], и дальнейшее течение этого вопроса осталось мне неизвестным. Вероятно, он и дошел бы до Совета министров, если бы не революция. После же революции экстренные внебюджетные расходы начались в таких широких размерах, что практика Совета министров со ст[атьей] 18 Сметных правил должна казаться совершенно невинною.
Министром земледелия, преемником А.В. Кривошеина, был назначен А.Н. Наумов. Это был очень удачный выбор, имевший место еще при Горемыкине, но едва ли исходивший от него лично[596]. А.Н. Наумов был в полном смысле прекрасный человек, общественный деятель в лучшем значении этого слова, он не принадлежал к кадетствующим, а скорее был правым, к чему его влекло его положение губернского предводителя, видного члена Объединенного дворянства[597]. Но он был совершенно вне зависимости от всякой исключительности, от убеждения, что можно остановить ход истории и вернуться безнаказанно к прежнему. Бюрократическая обстановка была ему не по душе и не по природе: в министры [он] пошел с большим колебанием. Его удерживал от этого, главным образом, тот состав министерства, в который он вступил. Он боялся потерять связь с общественными кругами, поддержкою которых особенно дорожил. Но, вместе с тем, А.Н. Наумов был искреннейший монархист, он не считал возможным не идти по зову, исходящему от самого Государя, считая службу царю первейшею обязанностью верноподданного[598]. В силу этого также он видел свой первый долг в том, чтобы в Совете министров, да и, вероятно, на всеподданнейших докладах говорить правду с полной откровенностью. Можно себе представить, до чего ему было тяжело иметь общение с такими лицами, как Штюрмер и ему подобные. Он так раздражался, что выражал откровенно свое негодование в Совете: постом министра он вовсе не дорожил. Конечно, такой министр не мог быть ко двору в Совете. На него стали смотреть, как на оригинала, юродивого и, в конце концов, добились его отставки, что, разумеется, нисколько его не опечалило. Он вздохнул свободно[599]. Глубоко уязвило его только отношение Государя, который отступился от него, а на прощальной аудиенции обнял, поцеловал и чуть не прослезился. Эта фальшивость больно задела бедного А.Н. Наумова, который не мог говорить об этом без слез[600]. К своему делу Наумов относился горячо, с одушевлением, желая искренно добра, и, я думаю, просиди он дольше, время его управления было бы отмечено успехами нашего сельского хозяйства, которое он любил и хорошо знал. Но при тогдашней «министерской чехарде», как выражался Пуришкевич, это, конечно, было невозможно[601].
Преемником ему назначили упомянутого уже мною графа А.А. Бобринского. При всем своем уме граф Бобринский, по-видимому, совершенно растерялся перед той большой задачей, которую ему пришлось разрешать, – перед продовольственным вопросом[602], который к этому времени стал очень остро. Я уже говорил о том, в существе своем неправильном пути, на который стал в этом деле А.Н. Наумов еще в начале 1916 года, распространив твердые цены на все вообще продовольственные хлеба, не различая, есть ли в них изобилие или недостаток в стране[603]. Правда, эти цены и, в зависимости от них, реквизиция продовольственных продуктов распространялись только на покупки по распоряжению казны, а не на сделки между частными лицами. Здесь оставлена была свободная конкуренция. Но, разумеется, и в этих границах твердые цены не могли не оказывать влияния на повышение цен в частных сделках и не расстраивать хлебной торговли. Одновременно шло повышение цен на рабочие руки, а, следовательно, и издержек производства сельскохозяйственных продуктов. Очень скоро назначенные твердые цены оказались поэтому слишком низкими, и от производителей со всех сторон неслись вопли об их повышении. С другой стороны, потребители стали громко жаловаться на все возраставшую дороговизну, так как в частной торговле твердых цен не было. Продовольственный вопрос признан был особо важным и, по высочайшему повелению, поставлен под непосредственное руководство Штюрмера, которому подчинены были в своих распоряжениях все председатели особых совещаний (по продовольствию[604], обороне[605], топливу[606] и перевозкам[607]) в целях надлежащего снабжения всем необходимым и армии, и всей страны[608].
Наряду с особыми совещаниями, был создан при председателе Совета министров, хотя почему-то в составе Министерства внутренних дел, Особый комитет по дороговизне[609] под председательством бывшего, кажется, ярославского губернатора князя Оболенского[610]. Совершенно нельзя было понять, какова должна быть компетенция этого учреждения. По самому способу своего образования – в порядке верховного управления – этот Комитет не мог ограничивать полномочий особых совещаний, созданных в законодательном порядке. Между тем, снабжение продовольствием и борьба с дороговизной в этой области принадлежали Особому совещанию по продовольствию и, следовательно, Особый комитет по дороговизне не мог здесь распоряжаться. Но, с другой стороны, ясно было, что вздорожание всех прочих предметов потребления – обуви, платья, спичек и т. п. – зависит прямо от повышения хлебных цен. Сразу же начался спор о компетенции Особого совещания и Особого комитета, и последний, если вообще был бы при иных условиях способен что-либо сделать, тут сел на мель. Тем временем в области назначения твердых цен на хлеба граф Бобринский, под влиянием разных воплей и жалоб, решился, с одной стороны, на крупное повышение твердых цен и, с другой, на распространение их на частные сделки[611]. С этой минуты свободная торговля хлебом была по существу своему прекращена, и, конечно, продовольственный кризис чрезвычайно обострился.
Разумеется, это обострение не может быть даже сравниваемо с современным, но в то время это случилось впервые и казалось невыносимым. Впоследствии русский народ показал, что он способен и не [на] такую еще выносливость. С моей стороны, я стал самым решительным образом выступать против твердых цен и против стеснения свободной торговли.
В это время министром внутренних дел был назначен А.Д. Протопопов[612], который, как человек коммерческий, посмотрел на вопрос совершенно правильно. Я ему передал тогда записку, где определенно указывал на необходимость полной отмены твердых цен в частной торговле, прекращение всяких препятствий в передвижении хлебных грузов из одной местности в другую, прекращение реквизиций продовольственных запасов, угоняющих их в подземелье, и т. д. Протопопов находил, что в руках графа Бобринского реформа продовольственного дела невозможна, и настаивал на передаче его в ведение Министерства внутренних дел, в чем я его поддерживал в Совете министров[613].
У Штюрмера на квартире стали в это время собираться совещания заинтересованных министров для разрешения всех не терпящих отлагательства вопросов снабжения. Здесь я не раз и настоятельно выступал против твердых цен и, по-видимому, даже убедил в правильности этой мысли. Но Совет министров все-таки не осмелился сделать в этом деле решительный шаг: ему казалось, что от уже установленных твердых цен отступить нельзя, поздно, не следует лишь распространять эту систему на другие виды товаров. Поэтому проект Особого комитета князя Оболенского (который вполне логично пришел к тому выводу, что раз есть твердые цены на хлеба, то необходимо придется их назначить и на все прочие предметы потребления, несмотря на все их необыкновенное разнообразие) был отвергнут, и с этих пор самый Комитет этот, кажется, прекратил свое существование, оставив на память о себе целый том своих журналов и работ и том интересных диаграмм, но без всякого практического результата[614].
Только уже с назначением министром земледелия А.А. Риттиха[615] дело стало поворачиваться на более правильный путь, но это было уже не при Штюрмере, а при его преемнике А.Ф. Трепове. А.А. Риттиха я знал давно: это был очень способный, чрезвычайно трудолюбивый и энергический человек. В эпоху землеустроительной столыпинской реформы он был одним из главных ее деятелей, неустанно наблюдавшим за этим делом на местах. Когда после увольнения Кривошеина его заменил Наумов, Риттих как будто стушевался, точно обиделся на то, что его обошли. Но на посту министра сразу опять одушевился, обратив главное внимание на продовольственный вопрос. Он тотчас же взял в свои руки непосредственное руководство делами Особого совещания[616], не допуская его до излишних разговоров. Потом поехал на места для выяснения наличности продовольственных запасов. Твердых цен он сразу не отменил, но подготовил отмену их, с тем, чтобы затем влиять на цены путем выпуска хлеба из правительственных запасов, – мысль, заключавшаяся в моей записке и в заявлениях. Объяснения Риттиха в Государственной думе, несмотря на резкую оппозицию Шингарева, имели очень большой успех[617], и, не будь революции, продовольственное положение стало бы, может быть, улучшаться. Но революция и министр земледелия Шингарев окончательно разбили последние надежды на улучшение уже открытым введением хлебной монополии, уничтожившей последние остатки свободной торговли[618]. При блестящих результатах этой системы мы теперь и присутствуем.
На посту министра юстиции я застал А.А. Хвостова, о котором говорил выше.
Когда Штюрмеру вздумалось, после смены Сазонова, сделаться министром иностранных дел, он пригласил Хвостова на пост министра внутренних дел, а министром юстиции был назначен А.А. Макаров. Эта должность, требующая беспристрастия, порядочности, спокойствия, как нельзя больше подходила к характеру Макарова[619]. Несколько суховатый и формальный для практического деятеля, Макаров как представитель Судебного ведомства в Совете министров был очень на своем месте и приобрел здесь большой авторитет.
Министром народного просвещения был граф П.Н. Игнатьев, который, наряду с Наумовым, составлял резкий контраст со всем составом Совета министров. Я не знаю, кто именно выдвинул его кандидатуру на место Л.А. Кассо[620]. Руководились, по-видимому, желанием хоть единым назначением привлечь симпатии законодательных учреждений, особенно в таком ведомстве, которое до сих пор управлялось на началах совершенно противообщественных. Возможно, что в данном случае имели влияние и личные симпатии Государя к графу П.Н. Игнатьеву, которого он знал давно. Граф Игнатьев говорил Государю вещи, которых в то время никто себе безнаказанно позволять не мог. В Министерстве народного просвещения граф Игнатьев сразу же и довольно решительно начал менять систему, в некоторых отношениях даже излишне расшатывая строй школьной жизни. Но все же его действия, привлекавшие общественные симпатии, установившиеся благодаря нему превосходные отношения учебного ведомства с Государственной думой, – все это было в высшей степени желательно и полезно в то время полного разобщения. Зато, конечно, в Совете министров граф П.Н. Игнатьев был чужим человеком.
Совершенно иную фигуру представлял другой титулованный министр князь В.Н. Шаховской. Как попал он в министры торговли и промышленности, я, в сущности, не знаю[621]. Не особенно способный, далеко не блестящий, он не имел и связей, принадлежа к довольно захудалой семье князей Шаховских: отец его, небогатый помещик, кажется, Новоладожского уезда, занимал должность члена Совета Государственного банка[622] от Государственного контроля. Это был очень почтенный человек, притом несравненно более приличный и благообразный, нежели его сын[623]. Князь В.Н. Шаховской, моряк по образованию и первоначальной карьере, выдвинулся в Главном управлении мореплавания и портов при великом князе Александре Михайловиче, вообще окружавшем себя очень неблестящим штатом. Этот, пожалуй, был лучше еще других. Поэтому тогдашний товарищ главноуправляющего С.В. Рухлов, будучи назначен министром путей сообщения, взял туда с собою и князя Шаховского в качестве начальника Управления водяных и шоссейных сообщений[624]. Здесь, как говорят, князь Шаховской вел дело хорошо, а потому, я думаю, Рухлов и выставил его кандидатом в министры торговли. Говорят, будто и лично Шаховской понравился Государю, сопровождая его по Волге[625].
В новом министерстве князь Шаховской проявил с первых же дней особую энергию в деле расправы с личным составом. Он удалил не только невменяемого Сибилева, но и Литвинова-Фалинского, довольно видного управляющего Отделом промышленности, который, правда, хотел поставить себя как-то совершенно независимо от министра и был за это уволен со службы в 24 часа, что по тем временам было довольно необычно[626]. Показав такую энергию, князь Шаховской в дальнейшем, однако, ничем, кроме балансирования между Штюрмером, Треповым и другими влиятельными министрами, не выделился. Говорят, не знаю, правда ли, будто он даже ездил и к Распутину[627]. Во всяком случае, впечатления настоящего министра он не производил, хотя был трудолюбив и хлопотлив.
Итак, в общем счете Совет министров этого времени распадался на две крупные группы[628]. С одной стороны стоял Штюрмер и более близкие к нему лица, которым он особенно доверял или которых он боялся. Это были Трепов, А.А. Хвостов, А.А. Макаров, Барк и граф Бобринский. К ним присосеживался князь Шаховской. Другой лагерь составляли Сазонов, граф Игнатьев, Наумов и я. Шуваева и Григоровича я не знаю, куда причислить.
С первой группой Штюрмер совещался отдельно по всем делам, приглашая к себе на особые домашние совещания. Граф Бобринский и в качестве товарища министра внутренних дел был особенно к нему близок. Трепова он боялся, потому что Трепов сам на него давил и требовал исполнения своих предположений, а князь Шаховской хаживал к Штюрмеру сам по утрам спрашивать указаний. Он с удивлением узнал, что я этого не делаю.
Министры же оппозиционной группы сходились со Штюрмером и прочими членами Совета министров только в заседаниях Совета и, следовательно, встречались здесь с уже предрешенными в неофициальных заседаниях вопросами.
Я и до сих пор не могу сказать, в чем заключалось направление политики Штюрмера. На первый взгляд, он, что называется, занимал свое место, но ни в чем на деле не проявлял своей руководящей роли. Застрельщиком всегда и всюду был Трепов. Но я все-таки думаю, что за кулисами и Штюрмер имел известное и притом немалое влияние, выявлявшееся на частных совещаниях и всеподданнейших докладах. И в Совете министров заседания разделялись на две категории: сперва шли дела по повестке в присутствии всех чинов канцелярии; когда же повестка была исчерпана, начиналось секретное заседание, на котором сидел только управляющий делами Совета министров И.Н. Ладыженский. В этой части заседания министры уже вне повестки делали заявления по вопросам особо конфиденциальным и принимались экстренные меры, преимущественно политического характера: о воспрещении съездов, об отношении к тому или иному законопроекту, назначенному к рассмотрению в Думе или в Государственном совете, к тем или иным речам, произнесенным в Думе, об отношении к прессе. Так, например, одно время цензура принялась исключать газетные статьи из уже готового номера; получались белые полосы, производившие самое неблагоприятное впечатление. Со вступлением А.Ф. Трепова в должность председателя Совета министров эту практику решено было оставить[629]. Но, повторяю, и в этих секретных заседаниях, иногда очень продолжительных, не намечалось общего политического курса, к установлению которого допускались только близкие к Штюрмеру министры на домашних у него совещаниях. Эта практика домашних совещаний с несколькими только министрами была совершенно оставлена только уже при А.Ф. Трепове.
В сфере вопросов экономического характера у Штюрмера и не было, и не могло быть каких-либо взглядов, но надо же было Совету министров подумать и об этих вопросах. Я думаю даже, что Штюрмер не дошел бы до этого собственным умом, что такую необходимость ему объяснили другие. Уже в конце января в составе Совета министров было образовано Совещание по финансовым и экономическим вопросам, под председательством Штюрмера, из министров, имевших отношение к этим вопросам[630].
Понятно, однако, что это Совещание не было бы в состоянии само по себе разработать ни одного из этих вопросов, так как министры заняты каждый своими делами и делопроизводства никакого не было. Штюрмер пригласил в качестве делопроизводителя некоего Фогеля, человека не без способностей, очевидно, еврейского происхождения[631]. Но одного Фогеля было, конечно, мало. Поэтому при Совещании решено было образовать рабочий орган под названием Особой финансово-экономической комиссии, куда ввести представителей Государственной думы, Государственного совета и разных общественных учреждений, и председательство в этой Комиссии поручить мне[632]. Уже при самом своем учреждении Комиссия эта наткнулась на разные препятствия. Совет министров ни за что не хотел проводить ее законодательным путем, а непременно в порядке верховного управления. А законодательные учреждения, т. е., главным образом, Государственная дума, не желали в таком случае выбирать туда представителей. Совет министров упорствовал на своей точке зрения, потому что особые совещания, учрежденные в законодательном порядке, давали ему много забот, а в Финансово-экономической комиссии, которая, по мысли Совета, должна была явиться исключительно совещательным при нем учреждением, нельзя было создавать себе подобной оппозиции. В силу этого Положение о Комиссии прошло в порядке верховного управления и получило высочайшее утверждение 22 марта 1916 года. При редактировании этого Положения я принял, однако, все меры к тому, чтобы не отвратить членов Думы от участия в Комиссии[633]. Поэтому постановлено было, раз Дума отказалась официально избрать представителей в Комиссию, образованную не по ее собственному постановлению, что в эту Комиссию входят девять членов Государственного совета и девять членов Государственной думы, приглашенные по спискам, сообщенным председателю Совета министров председателями этих установлений. Вместе с тем, чтобы дать членам законодательных и общественных учреждений возможность прямого влияния на круг вопросов, рассматриваемых Комиссиею, было постановлено, что эти вопросы предлагаются не только Советом министров и ведомствами, но и по почину членов Комиссии, в случае согласия на их рассмотрение большинства Комиссии.
Надо было позаботиться и о том, чтобы правительственный элемент не имел преобладания в Комиссии. Поэтому на двадцать четыре члена с решающим голосом от законодательных и общественных учреждений было только шестнадцать членов от разных ведомств, считая и председателя. Было, однако, совершенно ясно, что Комиссия своими силами и силами своего делопроизводства не в состоянии будет разработать сама все безбрежное море вопросов финансово-экономического характера. С другой стороны, было бы совершенно недостаточно обсуждать эти вопросы в общей форме, а не конкретно, передавая ближайшую их разработку в ведомства: это сводилось бы к умножению бумагописания.
Надо было организовать дело так, чтобы проекты вырабатывались в Комиссии почти в окончательной форме и затем только формально проходили бы через Совет министров для дальнейшего их направления в Думу или на высочайшее утверждение. С этой целью было постановлено, что в делопроизводство Комиссии входят не только специальные ее делопроизводители, но и, по каждому данному вопросу, чины того ведомства, которого этот вопрос касается. Тогда, в порядке обсуждения, в Комиссии принимал бы участие подлежащий товарищ министра, ведающий данный вопрос, и тут же собственные его чины редактировали бы проект в окончательной форме. Избегнута была бы и излишняя волокита, и возможные споры в ведомстве против проекта, выработанного в Комиссии без его ближайшего участия. Этим путем я надеялся придать работе более практический и подвижный характер. Хотя таким образом Государственная дума была не вполне удовлетворена организацией Комиссии, тем не менее, членам ее была предоставлена довольно независимая роль, и список их был составлен если не в Общем собрании Думы, то по фракциям, что, в конце концов, отвечало понятию об их избрании.
От Государственного совета вошли в Комиссию четыре выборных члена (А.В. Васильев, кн[язь] А.Д. Голицын, В.И. Гурко и В.И. Тимирязев) и пятеро по назначению (С.Ф. Вебер, А. В. Кривошеин и трое правых[634] – И.Г. Щегловитов, А.А. Макаров и П.П. Кобылинский). Государственная дума дала трех октябристов (А.Д. Протопопова, Б.Н. Каразина и Г.И. Фирсова 1-го), двух националистов (Н.А. Жилина 2-го и К.Е. Сувчинского), члена Партии центра[635] А.Г. Ратькова-Рожнова, правого Н.Е. Маркова 2-го[636] и кадета А.И. Шингарева. К ним были избраны заместители: кадет С.В. Востротин, из центра П.Н. Крупенский и октябрист Н.И. Антонов. Я привожу этот список с такой подробностью для того, чтобы показать, что Дума все-таки откликнулась на зов, сделанный в этих условиях, и дала представителей от большинства своих фракций. Кроме того, по праву председателя я пригласил еще некоторых членов Думы и других лиц с правом совещательного голоса, между прочим, В.А. Маклакова, В.В. Шульгина, членов Государственного совета С.С. Крыма, Г.В. Калачева, далее Н.Н. Кутлера и профессоров П.И. Георгиевского, П.П. Мигулина, П.Б. Струве, И.М. Гольдштейна и представителей целого ряда торговых палат[637] и разного рода общественно-экономических учреждений.
Комиссия получилась очень громоздкая, но избежать этого было очень трудно, так как множество людей и учреждений выразили желание принять участие в ее работах. Заседания Комиссии начались в мае по специальному вопросу и при еще неполном ее составе – а именно об инструкции для отъезжавших на Парижскую экономическую конференцию[638] представителей русского правительства. Об этом я буду говорить подробнее впереди. Так как я был назначен старшим из этих представителей, то заседания Комиссии вследствие этого были прерваны[639].
Вернулся я из Парижа только 2 июля 1916 года, но открыть тотчас же заседание не представлялось возможным. Законодательные учреждения были распущены, и пополнение Комиссии могло произойти только после перерыва в их занятиях. Вообще, раньше наступления осени нельзя было дождаться достаточного состава Комиссии. Конечно, жаловались очень сильно на перерыв, но, в существе, никто все равно не явился бы. Но и после этого была очень существенная причина задержки: надо было к первому заседанию приготовить перечень компетенции Комиссии и внести хоть какие-либо конкретные вопросы на ее рассмотрение, которое иначе грозило обратиться в бесконечную болтовню.
В частности, многие члены Комиссии настаивали на том, чтобы программа ее работ была рассмотрена ею самою ранее приступа к этим работам. Логически это, казалось бы, совершенно правильно. Но можно себе представить, сколько времени было бы потрачено на обсуждение этой программы, хотя, в конце концов, было совершенно ясно, о чем в условиях времени должна говорить комиссия. Вместе с тем предложение готовой программы не ограничивало ни в чем прав комиссии ее расширить по предложению отдельных членов, поддержанному большинством.
Поэтому я решил использовать тот пункт положения о комиссии, где сказано, что на рассмотрение комиссии поступают вопросы, предлагаемые Советом министров, и представил Совету министров лично от себя предположение о программе ближайших занятий Комиссии[640]. Эта программа, сопровождаемая довольно обширной Объяснительной запиской, охватывала как вопросы, связанные с переходом народного хозяйства к условиям мирного времени, так и мероприятия, направленные на развитие производительных сил страны вообще[641]. Не вошло сюда только денежное обращение, так как П.Л. Барк настоял на том, что этот вопрос относится только к ведению Комитета финансов, что, конечно, не исключало бы возможности обсуждать его в Финансово-экономической комиссии. За этим исключением, на которое было, разумеется, тотчас же обращено внимание членами Комиссии, я думаю, трудно было бы найти такие вопросы, которые были бы в ней пропущены. Во всяком случае, члены Комиссии не были вовсе лишены возможности предложить свои дополнения. Но самая программа, внесенная в Комиссию, под заглавием «Перечень вопросов, по которым Совет министров признал желательным иметь заключение Финансово-экономической комиссии», не подлежала обсуждению, чем была избегнута масса совершенно излишних разговоров. Поэтому в первом же заседании, которое, благодаря всем приведенным обстоятельствам, удалось назначить только [на] 30 ноября 1916 года, возможно было поставить на очередь первый вопрос перечня «О переходе народного хозяйства к условиям мирного времени», по которому делопроизводством Комиссии была изготовлена обширная записка. Честь составления ее принадлежит Г.М. Курилло, которого я пригласил заведовать всем делопроизводством Комиссии.
Кроме того, внесен был для дальнейших работ Комиссии целый ряд записок по вопросам, касавшимся наших экономических отношений к Германии и вообще задач русской экономической политики после войны (записка М.П. Федорова), а равно записки Совета съездов представителей промышленности и торговли[642] о программе работ Комиссии на демобилизацию промышленности[643].
Все эти записки исходили от президиума и делопроизводства Комиссии, но, кроме того, я считал необходимым, чтобы хоть какое-либо ведомство внесло свои конкретные предложения по одному из более важных вопросов перечня. Откликнулся товарищ министра земледелия А.А. Риттих, который, вместе с Н.В. Грудистовым, составил очень обстоятельную записку об очередных задачах казенного лесного управления после войны.
Комиссия в своем заседании 30 ноября остановилась, главным образом, на записке «О переходе народного хозяйства к условиям мирного времени». Уж один этот вопрос оказался настолько сложным, что Комиссия решила, прежде всего, остановиться на условиях перехода к мирному времени нашей промышленности. Однако и тут оказалась такая масса частных вопросов, что для их обсуждения было решено образовать особую подкомиссию под председательством министра торговли и промышленности, которая уже в феврале обсудила программу, очень подробную, о направлении своих работ по выяснению мер к облегчению демобилизации промышленности и по собиранию нужных для этого сведений. Предполагалось образовать еще подкомиссию по вопросу о переходе на мирные условия работы нашего сельского хозяйства, по вопросам о внешней и внутренней торговле и для рассмотрения записки А.А. Риттиха по лесному делу[644].
Не знаю, конечно, к чему бы привели все эти работы. 30 ноября состоялось мое назначение министром иностранных дел, и я, занявшись ознакомлением с делами нового ведомства, несколько отошел на время от работ Комиссии, однако в твердой надежде, что мне удастся к ним вернуться, как только подкомиссии дадут известные результаты своих работ. Но судьба решила иначе: уже с января месяца вопросы внутренней политики до крайности осложнились, а 27 февраля произошла революция, положившая конец деятельности старого правительства, а следовательно – и Финансово-экономической комиссии.
Наряду с председательством в этой Комиссии на меня было возложено еще и другое поручение – быть делегатом русского правительства на Экономической конференции союзников в Париже. Вопрос о созыве ее был решен еще на Парижской конференции, бывшей 28 марта нового стиля, и нам сначала был дан очень короткий срок для сборов и выезда[645]. Предварительно мы собрались на совещание в составе всех лиц, ехавших в Париж. Это совещание должно было наметить решения по тем вопросам, которые могли быть нам поставлены на конференции. Этих вопросов мы не знали, мы могли их только предвидеть, благодаря чему и наша инструкция была чисто предположительная[646].
Так, мы много говорили о системе будущего таможенного тарифа; между тем, по этому предмету не происходило никаких суждений. Уже незадолго до нашего отъезда получены были некоторые сведения о предстоящих нам вопросах. Оказалось, что мы их до некоторой степени предвидели, но это, во-первых, были не все вопросы, а во-вторых, не наиболее важные вопросы.
За некоторое время до нашего выезда в Петроград приехали два француза – Вивиани и Тома[647]. Последний был министром снабжения в военное время, а Вивиани был раньше председателем Совета министров. Впервые познакомился я с ними на завтраке у французского посла. Особенно характерен был Тома: он совершенно не был похож по наружности на француза, а, скорее всего, на русского учителя гимназии. Но энергия речи, живость были чисто французские. Социалист по убеждениям, и даже из более левых, он вошел в состав правительства на время войны и показал себя необыкновенным организатором. Говорят, благодаря его распорядительности и созданной им системе доставки грузов на десятке тысяч автомобилей, французская армия была все время снабжена снарядами, которые дали ей возможность создать в Вердене совершенно непреодолимый оплот против германской армии. Тома объехал все наши военные заводы и, говорят, дал очень много дельных указаний. Вивиани был также социалист, но уже много потершийся в высших государственных кругах. Он заезжал ко мне для беседы по общим вопросам о системе таможенных тарифов. Но здесь он, видимо, не имел никаких предуказаний. Главным же образом его интересовал вопрос об условиях поставки во Францию некоторого количества пшеницы. Я для этого вызвал представителя Министерства земледелия, и они в моем присутствии вели с ним торг, как настоящие купцы. Вообще, французы в этой области не имеют себе равных. Оба – и Вивиани, и Тома – были приняты очень любезно в Царском Селе[648]; орденов как социалисты они не приняли, но им были сделаны очень ценные подарки. Вивиани получил богатейшее пресс-папье в виде колонны, жена его, которая его сопровождала – великолепный браслет с орлом, усыпанным бриллиантами, а Тома – уж не знаю что. Перед их отъездом мне еще пришлось с ними завтракать у министра иностранных дел и обедать у министра финансов. Все это было довольно официально и скучно. Гораздо интереснее был блестящий обед, данный французской колонией при участии представителей всех государственных и общественных учреждений, где собралось у Контана[649] около 300 человек, а может быть, и более[650]. Речи говорили Родзянко, кажется, Сазонов, и особенно великолепную речь сказал Маклаков, прямо поразительную по искусству владеть французским языком. Она была, пожалуй, лучше речи самого Вивиани, который считается одним из наиболее блестящих французских ораторов и говорил с необыкновенным подъемом. Разумеется, русский гимн и «Марсельеза», которую пел сам Шаляпин, еще более поднимали общее одушевление. Французы могли сказать, что их принимали с большим торжеством. В общем, однако, политическая цель их поездки осталась мне неизвестной[651].
Перед самым отъездом, в начале мая, я счел необходимым обсудить общее наше предположение по поводу могущих быть поднятыми на конференции вопросов в Особой финансово-экономической комиссии. Это заседание далеко меня не удовлетворило: вместо здравого и осторожного отношения пришлось здесь встретиться, с одной стороны, с каким-то страхом за возможность перерыва наших отношений с Германией, куда шел наш хлебный экспорт, с другой же – с легкомысленным отношением к результатам войны. Страх высказывался, главным образом, представителями Сельскохозяйственной палаты[652], для которых условия вывоза наших хлебов в Германию казались чем-то незыблемым и незаменимым. А легкомыслие проявлено было, к удивлению, такими людьми как В.И. Тимирязев, Н.Ф. фон Дитмар и даже Н.Е. Марков 2-ой, которые исходили из той мысли, что мы чуть ли не возьмем Берлин и захватим в Германии на тамошних фабриках и заводах все их оборудование и все их запасы. Это высказывалось с таким полным уверенности тоном, с таким вызовом по отношению ко всем, позволявшим себе в этом усомниться, что оставалось только замолчать. Таким образом, в комиссии мы не получили никаких серьезных руководящих указаний и должны были рассчитывать, главным образом, на себя самих.
Вторым делегатом, отправившимся со мною, был В.В. Прилежаев, товарищ министра торговли и промышленности. В.В. Прилежаев часто и раньше участвовал в различных международных конференциях, напр[имер], на сахарной конференции в Брюсселе[653], и имел в этом деле очень большую опытность. Кроме того, он хорошо знал Париж и великолепно говорил по-французски. Его отец был настоятелем нашей парижской церкви[654]. Редко милый и симпатичный человек, он очень существенно облегчал нашу задачу. С этой поры между нами установились самые лучшие, самые дружеские отношения. Вместе с ним поехала и его жена, Варвара Николаевна, очень милая дама, неотступно заботившаяся всю дорогу о своем супруге. Мы оба были посланы в качестве делегатов с правом голоса. Но, сверх того, к нам был придан целый ряд представителей от разных министерств. Их набралось довольно много. От Министерства иностранных дел с нами поехал А.А. Половцов, в то время чиновник особых поручений. Он ехал отдельно и встретился с нами уже на пароходе в Бергене. Это был блестящий джентльмен, тип заграничного чина своего ведомства; мне придется еще говорить о нем впоследствии. Министерство внутренних дел представлено было членом Совета Лесли, зятем А.Ф. Трепова, очень веселым, но совершенно незначительным господином. От своего ведомства Трепов послал Ю.И. Успенского, очень дельного инженера, отправившегося в сопровождении своей супруги. С женою же и дочерью поехал представитель Министерства финансов О.О. Гейман. Он оказался для меня очень полезным сотрудником в тех финансовых переговорах, которые были мне поручены помимо конференции[655]. От Министерства торговли и промышленности В.К. Лисенков, также с женою Натальей Юльевной, рожденной Жуковской, которая поехала с нами в качестве корреспондентки «Нового времени». Как известно, драматические ее произведения пользовались немалым успехом[656]. А сам В.К. Лисенков был сын товарища моего отца[657] по Горному корпусу[658]. Затем, от Министерства земледелия отправились: по общей части Б.А. Никольский, очень способный человек, и по лесной части – незаменимый специалист этого дела, симпатичнейший В.В. Фаас. Я захватил с собою и младшего своего сына Георгия; оба старшие были в это время на войне. Опасаясь, как бы наша делегация по своему составу не подверглась впоследствии обвинению в недостаточном внимании к интересам сельского хозяйства, я приглашал ехать в качестве третьего делегата представителя Сельскохозяйственной палаты, быв[шего] товарища министра земледелия А.Д. Поленова[659], но он так с нами и не собрал[ся][660]…
Незадолго до моего возвращения в Петроград началась усиленная «министерская чехарда». Уже подъезжая, я узнал об увольнении А.Н. Наумова и о замене его графом А.А. Бобринским. Вслед за тем произошло нечто совершенно неожиданное: был уволен С.Д. Сазонов. Министерство иностранных дел взял сам Б.В. Штюрмер, на его место министром был назначен А.А. Хвостов, а на место последнего министром юстиции А.А. Макаров. Если эти два последних назначения могли быть приветствуемы, то вручение руководства иностранной политикою в столь трудную минуту и во время войны вместо Сазонова Штюрмеру казалось чем-то невероятным. Сазонова союзники знали и ценили, но это-то, по-видимому, и было одной из причин его увольнения[661]. То, что я скажу сейчас, – исключительно мои предположения и фактов для их подтверждения у меня нет никаких, но, за всем тем, эти предположения кажутся мне вероятными. В известной части общества, в так называемых правых партиях, у людей германской ориентации создалось убеждение, что союзники и, главным образом, Англия, втравили нас в войну с Германией, что война эта ведется преимущественно нашими силами, но в результате, в случае победы, плодами ее воспользуются только союзники. Мы же только переменим одного эксплуататора на другого – Германию на Англию. Кроме того, Англию подозревали, не знаю, насколько основательно, в близких отношениях с нашими кадетами и либералами. А Сазонов был несомненным проводником у нас союзнической, антигерманской ориентации. О нем в Германии говорили не иначе, как с пеной у рта. Кроме того, Сазонов был лично неприятен Штюрмеру, никогда не скрывая своей к нему антипатии. Далее, утверждали, что и императрица Александра Федоровна была враждебно настроена против Сазонова. Всего этого было, разумеется, совершенно достаточно для того, чтобы свергнуть последнего[662]. Я не знаю, какую стал играть роль Штюрмер как министр иностранных дел. Судя хотя бы по его личности, можно сказать, что он совершенно не в состоянии был руководить этим ведомством[663]. Когда я вступил в управление министерством, то из довольно сдержанных отзывов сослуживцев мог только усвоить, что они не в состоянии были с ним примириться, что никаких толковых указаний от него получить было невозможно, что он даже почти прекратил обычные беседы с союзными послами. Последние, в свою очередь, говорили мне: «Nous avous perdu toute confiance»[664]. Даже такой пустяк, как то, что я велел переставить в кабинете мебель, как было при Сазонове, повергло послов в большую радость. Просто Штюрмер сумел внушить им чрезвычайную антипатию, что и вполне естественно[665]. В обществе и даже в массах распространилось убеждение, будто Штюрмер, являясь орудием императрицы Александры Федоровны, ведет нас к сепаратному миру с центральными державами. Я по совести должен сказать, что решительно никаких следов такой деятельности Штюрмера в делах министерства не нашел, но чего не рассказывают? Считали же графа Фредерикса проводником германского влияния при дворе! Но Штюрмер был настолько всем антипатичен, что на него взводили всякие небылицы. Тем ошибочнее было его назначение, и если это было сделано под влиянием личной антипатии императрицы к Сазонову, то с ее стороны это была серьезнейшая ошибка[666]. За свое недолгое управление Штюрмер сделал очень мало во внешней политике, но в личном составе центрального ведомства произвел серьезные перемены. Так, прежде всего, с его назначением немедленно ушел директор Канцелярии и правая рука Сазонова барон Шиллинг. Он был заменен Б.А. Татищевым, который был назначен совершенно случайно: он в это время проезжал через Петроград в Токио, куда был назначен советником посольства[667]. К счастью, выбор оказался очень удачным. Затем, товарищ министра В.А. Арцимович был уволен в Сенат помимо своего желания, и на его место, опять совершенно неожиданно, был назначен чиновник особых поручений V-го класса А.А. Половцов, тот самый, который ездил с нами в Париж[668]. А.Ф. Трепов говорил мне после, что за это назначение Штюрмер получил будто бы взаймы, через посредство Охотникова, 150 000 руб[лей]. Не знаю, правда ли это, но считаю правдоподобным. Штюрмера вообще считали далеко не чистым в денежных делах[669]. Министерская «чехарда» этим не ограничилась. Штюрмер задумал было сбыть Барка и заменить его В.Н. Охотниковым, одним из богатейших людей, который, вероятно, не остался бы за это в долгу. По крайней мере, сам Охотников утверждал мне, что это дело уже сделано, и излагал свои, довольно дикие планы управления финансами России. Но тут что-то помешало: должно быть, испугались поручить столь важное дело такому господину. Штюрмер вернулся из Ставки без доклада о назначении Охотникова. Но намерение или, по крайней мере, обещание, несомненно, было.
Самый же грандиозный акт того же порядка была замена министра внутренних дел А.А. Хвостова А.Д. Протопоповым[670]. А.Д. Протопопов был довольно левый октябрист[671], избиравшийся в товарищи председателя Государственной думы. Образования небольшого[672] (он окончил Николаевское кавалерийское училище[673]), Протопопов был предводителем[674] и крупным суконным фабрикантом. Очень ласковый, даже заискивающий, он не выделялся особенно в Думе, но, как товарищ председателя, играл известную роль, участвуя также во многих комиссиях[675]. В Думе вообще ему симпатизировали и, между прочим, делегировали вместе с другими для посещения союзных государств[676]. Во время этого путешествия на обратном пути Протопопов имел в Стокгольме какие-то разговоры с немцами, которые были поставлены ему в вину и послужили даже поводом к запросам и объяснениям[677]. Я этого дела вовсе не знаю и потому не решаюсь о нем говорить. Но для отчета о своей поездке и ее результатах Протопопов вызывался в Ставку, где и сделал Государю подробный доклад, содержание которого мне равным образом неизвестно. Понравился ли этот доклад и самая личность Протопопова, я не знаю, но с ним естественно поставить в связь назначение последнего министром внутренних дел[678]. Для всех министров это было совершенной неожиданностью, сам А.А. Хвостов никак этого не предвидел, потому что никакого повода для его увольнения не было; он вовсе не дорожил своим местом, но был прямо обижен, что его уволили, выбросили за дверь sans dire gare[679]. Лица, примазывающиеся ко всякой власти, вроде кн[язя] М.М. Андроникова, объясняли назначение Протопопова тем, чтобы удовлетворить Думу: в министры взяли одного из думцев и, следовательно, если и этот оказался плох, то жаловаться было, по крайней мере, не на кого[680]. Не думаю, чтобы только это хитроумное соображение было причиною назначения. А.Д. Протопопов был, в общем, неглупый человек, с практической сметкой; если бы он сразу не принял какого-то совершенно странного тона, то из него мог выйти министр не хуже многих других. Я уже говорил выше, что в продовольственном деле он исходил из очень правильных оснований. В области экономической он видел спасение в свободном развитии сил, что также было неглупо. В еврейском вопросе он, равным образом, стоял на правильной почве[681]. Но тут оказалась другая область, где Протопоповым овладело положительно какое-то затмение. Общественный деятель, никогда не бывший бюрократом, он вдруг стал врагом [общественности], отыскивая в ней непременно революцию и в силу этого преследуя всякое ее проявление. Конус этой общественности он усматривал в Государственной думе, а потому к ней стал вдруг относиться с особым недоверием. Никого так не ненавидят, как ренегатов. Естественно поэтому, что Протопопова возненавидели много больше, чем кого-либо даже из самых завзятых бюрократов[682]. Но этого мало: Протопопов стал афишировать перед всеми и каждым свою какую-то необыкновенную привязанность к Государю и расположение к себе Государя. Все это изображал в идиллических красках, причем вся ответственность за действия Протопопова, слепого будто бы орудия монарха, перелагалась на последнего, что было уже совершенно непристойно.
У Родзянко собрались однажды вечером видные члены Думы – Милюков, Шингарев и другие – и вот перед ними Протопопов изливал все эти чувствования[683]. Этот разговор был зафиксирован стенографически, и краткое извлечение наиболее ярких мест распространялось среди публики во множестве экземпляров. Была еще и третья мысль у Протопопова, которая, по-моему, послужила причиною того, что никаких серьезных мер для борьбы с надвигавшеюся революцией им своевременно принято не было, несмотря на все его восклицания о революционном движении, которое он видел не там, где оно действительно происходило. Это было убеждение в безбрежности правительственных сил. Секретарь его В.В. Граве рассказывал мне, что, едучи однажды в Ставку, Протопопов говорил ему: «Друг мой (он всегда был очень нежен), Вы не поверите, какими громадными силами располагает правительство, ничто с ним не справится!» Но если это так, то тем удивительнее, что он, Протопопов, этих сил вовсе не сумел использовать. В общем, тут была какая-то мания величия и всемогущества, которых в действительности совершенно не было. Я даже допускаю, что А.И. Шингарев был прав, когда говорил мне про Протопопова: «Верьте мне, для нас, медиков, это совершенно несомненно, Протопопов страдает прогрессивным параличом мозга». И вот какому человеку вверено было управление всею внутренней политикой России[684].
Но этим «чехарда» не окончилась. Министр юстиции, почтенный А.А. Макаров был также внезапно заменен сенатором Н.А. Добровольским[685]. Последний был в свое время гродненским губернатором и понравился, видимо, Государю во время охот в Беловежской пуще[686]. Его назначили затем обер-прокурором Первого департамента Сената[687], где он проявил очень ленивую деятельность. Но, вместе с тем, ходили слухи, что в другой области – мздоимства – он оказался далеко не ленив[688]. Назначенный после того сенатором, он вошел в доверие к великому князю Михаилу Александровичу и сделался его правой рукой в деле образования еще одного комитета, Георгиевского, для попечения о георгиевских кавалерах, которому старался придать значение высшего, чуть не законодательного учреждения[689]. Назначение Добровольского на место честного и безупречного Макарова вызвало прямой ропот в обществе.
Наконец, было одно уже совершенно невозможное назначение – Раева на должность обер-прокурора Св. Синода[690]. Сын митрополита Палладия Раев в силу этого был близок к высшей церковной иерархии[691]. С другой стороны, как основатель Раевских курсов[692], женатый на курсистке[693], он как будто примыкал к ученым кругам. Но что это была за фигура! Красный, старый, в парике, отстававшем от головы, с крашеными волосами и бородой, с голосом заштатного протоиерея, он производил высоко комическое впечатление. Даже А.С. Стишинский, и тот не мог удержаться от смеха при его виде. «Такого еще не было», – говорил он. И это был докладчик у Государя по делам православной церкви. Естественно, что даже в Совете министров его заявления вызывали отрицательное отношение. Я помню предположенную им апологию митрополита Питирима. Это было нечто совершенно несуразное.
Итак, к осени 1916 года состав Совета министров оказался во много раз слабее, чем в начале этого года. Стоит сопоставить имена министров: Сазонов – Штюрмер, Поливанов – Шуваев, Хвостов – Протопопов, Макаров – Добровольский, Наумов – граф Бобринский, Волжин – Раев. На местах остались пока только граф Игнатьев, князь Шаховской, Григорович, Барк, Трепов и я.
Общественное мнение пришло в совершенную безнадежность, а тут еще рядом шла и росла распутинская легенда. Я с этой историей совершенно не знаком и лично Распутина совершенно не видел. Жена моя видела его, кажется, два раза у своей тетки Софьи Васильевны Рыковой еще в те времена, когда Распутин явился впервые в Петербурге в виде простого странника и не имел никакого доступа ко Двору[694]. Тогда жена вынесла из этих встреч – раз на улице, а другой раз в квартире тетки – очень неприятное впечатление. По многим отзывам, по характеру дела, возбужденного против Распутина в Тобольской духовной консистории, которое дал мне прочесть С.А. Панчулидзев, по характеристике, данной Гофштетером в ненапечатанной им статье о хлыстовщине, можно думать, что у Распутина было много общего с хлыстовской сектой[695]. Как проник он в высшие придворные сферы, я этого не знаю[696]. Но к тому времени, о котором я теперь пишу, и даже значительно раньше его значение было, по-видимому, очень велико. По фотографиям это был простой, довольно противного вида мужик, но с замечательно проницательным, резким взором, которым он гипнотизировал своих почитательниц. Последние были своего рода кликуши: они его сопровождали, распоряжались его приемами, вели при нем секретарскую часть. Говорят, будто бы в приемной его была всегда масса посетителей. Их он посылал со своими безграмотными письмами к разным министрам и другим влиятельным лицам[697]. Я знаю три таких случая, и все три неудачных. Раз он направил к А.А. Хвостову, тогда еще министру юстиции, какого-то нотариуса. Хвостов пристыдил последнего, что он пользуется подобной протекцией[698]. Другой раз сам Распутин пробовал лично обратиться с просьбой к А.Н. Наумову. Наумов, несмотря на настояние своего секретаря, велел ему сказать, что у него есть приемные часы, в которые Распутин и может явиться, если желает. Распутин, действительно, и явился, и Наумов принял его не отдельно, а в общем зале, вместе с прочими, стоя и очень сухо. Уходя, Распутин будто бы в передней показывал кулаки и говорил, что Наумов его попомнит[699]. Я также удостоился получения письма от Распутина, где он каракулями и крайне безграмотно, начиная словами «Милой, дорогой», извиняясь за беспокойство и в довольно пристойной форме (на «Вы», а не на «ты») просил разобрать дело подателя, чиновника какой-то контрольной палаты, будто бы преследуемого своим начальством. Я пристыдил этого чиновника, что он позволил себе обратиться к такой протекции, потому что каждый служащий имеет право без всякой рекомендации просить о справедливости. Выслушав затем его просьбу, помимо письма Распутина, я велел ее расследовать; расследование показало, что этот господин был пьяница и бездельник; и тогда я распорядился о совершенном его увольнении от службы. Но, говорят, будто бы в других случаях протекция Распутина имела успех. Утверждают, что даже некоторые министры к нему ездили и искали его расположения. Не берусь сказать, правда это или нет. Особенно велико было, будто бы, его влияние в духовном ведомстве: перемещение петроградского митрополита Владимира в Киев и назначение на его место Питирима приписывали Распутину[700]. Ему приписывали даже влияние в таких общих вопросах, как отмена винной монополии[701] и др. Опять-таки, повторяю, фактов, подтверждающих все эти рассказы, у меня нет.
Сам Распутин, как грубый мужик, под пьяную руку – а пьянствовал он немало – цинически хвастал своим значением. В.Н. Коковцов, со слов зятя своего В. Н. Мамантова, который издавна знал Распутина, рассказал мне, что последний, напившись в каком-то кабаке и хвастаясь своей властью, принял самую неприличную позу и кричал: «Кто супротив этого документа что может!»[702] Распространяли рассказы, будто Распутин допускается в комнаты великих княжон, даже когда они раздеты[703], что горничные и даже фрейлины принуждаются уступать его грязным поползновениям[704], что сама императрица чуть ли не молится на него и т. д. Рассказы о нем ходили в то время по городу самые невероятные. Вспомним исторические аналогии, всю ту массу лживых историй, скандалов, которые взводились на французскую королеву Марию Антуанетту перед самой революцией[705]. У нас, по-видимому, для рассказов было известное основание, если не всецело, то хотя бы отчасти[706].
Вскоре петербургские сплетни распространились по всей России, сея в народе смуту и раздражая его против царской власти: сведения, что какой-то грязный, безграмотный мужик, во много раз хуже, чем они сами, сидит при царском дворе и вертит государственными делами, раздражали народ до последней степени.
Как объяснить отношение Государя ко всему этому? Я опять-таки не берусь об этом судить, не зная никаких фактов, и здесь мне приходится ограничиться передачей рассказов того времени, и лишь некоторых, доходивших до меня и оставшихся у меня в памяти[707]. Говорили, что Государь без памяти влюблен в императрицу, которая, в свою очередь, относится к нему пренебрежительно и стала допускать его к себе только с разрешения Распутина. На всякий навет против Распутина императрица отвечала, будто бы, такими истерическими припадками, что, в конце концов, Государь, как человек, видимо, слабохарактерный, перестал выносить даже простые разговоры о Распутине от своих приближенных. Это было больное место, зияющая рана. И это, конечно, было подхвачено и разнесено по всей России: русский царь изображался как слабая игрушка в руках царицы-немки, которая сама в руках бесстыжего пьяного мужика. Рассказывали про мужика, который, застав свою жену в прелюбодеянии, стал стегать ее ремнем, приговаривая: «Ты мне не Александра Федоровна, а я тебе не Николай II». Было это или нет, сказать, разумеется, очень трудно, но рассказ этот сам по себе очень симптоматичен[708].
Все это в корне расшатывало царскую власть, а правительство было такое, что никакого доверия не внушало. Естественно, что при таких условиях наша слабая умом и характером интеллигенция не могла не увлечься по пути революционных стремлений, забыв совершенно про войну и про страшную опасность для отечества, которая грозила в случае революции во время войны. Напротив того, слухи о том, что правительство Штюрмера под влиянием императрицы-«немки» готово заключить сепаратный мир, придавали революционному движению патриотический характер.
Крайние левые партии использовали эту конъюнктуру, ведь никогда подобной нельзя было ожидать в будущем. В народную массу, которая под названием армии была собрана на фронтах, были пущены, в виде прапорщиков, санитаров и прочее, ловкие агитаторы, которые легко использовали утомление четырехлетней войною. В Думе, в интеллигентном обществе сидели их неразумные и недобросовестные союзники – кадеты и кадетствующие, которым, наконец, открылось поле широкой деятельности – шатание государственной власти вовсю под предлогом свержения ненавистного Штюрмера и его бессильного правительства. Дрогнули и октябристы, и националисты, и даже правые. В Государственной думе выскочил Милюков, который в своей чрезвычайно резкой речи задел прямо императрицу. Эта речь основана была на разных газетных сообщениях, и фактический ее фундамент был крайне слаб, но впечатление было громадное[709]. Помещение ее в газетах было воспрещено, но зато с тем большим рвением распространялась она в списках. Гектографированные оттиски продавались, говорят, на улицах чуть ли не по рублю. За нее привлекли Милюкова к судебному следствию[710]. Совет министров был в чрезвычайном волнении. Дважды собирались мы по вечерам и раз утром у Штюрмера на квартире в Министерстве иностранных дел[711]. Шла речь о том, произвести ли роспуск Государственной думы или нет. Великий государственный муж был болен подагрой и сидел в кресле, протянув ногу. Мыслей своих он не выявлял. Выяснились два мнения: Протопопов был за роспуск, Барк, по-видимому, тоже[712]. Он высказывался даже за то, чтобы на всякий случай стянуть в Петроград гвардейскую кавалерию для подавления возможного возмущения. Против роспуска были Макаров, Григорович, граф Игнатьев, я, может быть, еще другие. В результате одного из вечерних заседаний[713] мне и Игнатьеву было поручено объездить некоторых более видных и лично известных нам членов Думы и убеждать их быть несколько спокойнее, как будто от себя лично, а не от имени Совета министров. Я ездил к двоим: к Постникову в Лесной[714] и к Шингареву. Я старался всемерно представить им, какие ужасные последствия может вызвать революционный взрыв в такую минуту. Оба в конце долгих разговоров обещали воздействовать в целях успокоения. Не помню, с кем беседовал граф Игнатьев, но результаты были, кажется, аналогичные[715]. В конце концов было решено, что в Думе выступят И.К. Григорович и Шуваев, как представители армии и флота, и внесут необходимое успокоение и бодрое чувство. Задача эта была выполнена ими с большим успехом: речи их были сопровождаемы овациями[716]. Думу решили пока не распускать. Тем временем Штюрмер с Треповым поехали в Ставку. Что там было, мне неизвестно, но Штюрмер вернулся оттуда уже не председателем Совета министров, а обер-камергером[717]. На его место был назначен А.Ф. Трепов[718]. Конечно, эта перемена была крайне своевременна. Говорили, будто тогда императрицы в Ставке не было и будто бы она сказала, что будь она там, этой перемены не произошло бы[719].
А.Ф. Трепов, правда, не отвечал желаниям большинства Думы, но все-таки к нему относились с уважением, как к деятельному и энергичному министру. Плюс заключался и в том, что он заменил ненавистного Штюрмера. Однако даже в составе самого министерства были у некоторых колебания, оставаться ли им на местах. Так, граф Игнатьев ездил к Трепову объясняться о направлении его политики. Тот, однако, просил его пока не уходить[720]. Первое выступление Трепова в Государственной думе[721] встречено было таким же скандалом со стороны крайних левых, как и первое выступление Горемыкина[722]: опять начался страшный стук по пюпитрам и обструкция, как только он хотел начать говорить, опять пришлось принимать такие же меры, как и тогда, т. е. вывести скандалистов. Особенно шумел и бесился Керенский. Когда в зале наступило, наконец, успокоение, Трепов прочитал свою декларацию, после которой начались речи ораторов. Главное их направление было резкое обличение Протопопова. Дума была удовлетворена сменою Штюрмера, но оставался Протопопов, не менее для Думы ненавистный, не менее первого олицетворявший собою борьбу правительства с Думою и общественностью. И негодование было тем сильнее, что Протопопов вышел из среды самой же Государственной думы. Особенно сильное впечатление произвели речи графа Бобринского и Пуришкевича[723]. Итак, два представителя не левых, а правых партий – националистов и собственно правых – люди, которых уж никак нельзя было заподозрить в революционности, выступили с открытым забралом против министра внутренних дел. Я теперь слишком плохо помню эти речи, чтобы воспроизводить их содержание. Да в этом нет и надобности: их можно полностью прочитать в стенографических отчетах Государственной думы. Могу лишь здесь констатировать, что впечатление получилось прямо потрясающее. Еще до начала этого заседания я в Министерском павильоне[724] встретился с графом П.Н. Игнатьевым, который только что вернулся из Ставки в очень радужном настроении. Он туда поехал специально, чтобы говорить с Государем о Протопопове и выяснить всю опасность оставления его у власти. Граф Игнатьев говорил, что Государь принимал его два раза и подолгу слушал его крайне внимательно. Когда же Игнатьев заявил, что с Протопоповым служить вместе не может, Государь сказал ему, что просит его не уходить, что он нужен России. Затем при прощании долго жал его руку, взглядом ища его сочувствия и поддержки[725]. Граф Игнатьев был убежден, что он добился своего, что Протопопов будет уволен. «А что, – спросил я его, – императрица осталась в Ставке после Вас?» Он ответил утвердительно. Тогда я сказал ему, что шансы его успеха я оцениваю не более как на пять процентов[726]. Оказалось, что я был прав.
После речи Пуришкевича был сделан перерыв, и все министры, бывшие в Думе по случаю декларации премьера, пошли в павильон, чтобы обсудить создавшееся положение[727]. Протопопов в крайнем возбуждении требовал разрешения выступить немедленно с ответом клеветникам. Мы все резко восстали против этого. Речи депутатов были не против правительства вообще, а лично против него, Протопопова. Пусть и отвечает на них как Протопопов, а не как министр, ибо создание нового конфликта правительства с Думою в данную минуту совершенно недопустимо: оно может повести к необходимости роспуска Думы, а роспуск может вызвать такие последствия, которые подвергнут опасности весь строй государства.
Мы в рот клали Протопопову, что он должен подать в отставку. Я говорил по этому поводу с большой энергией, и Трепов затем в заседании Государственного совета, куда мы переехали из Думы, сказал мне, что был в восторге от моих слов, однако Протопопов как угорь ускользнул от единственно правильного решения вопроса. Он сказал только, что будет отвечать не как министр, а как член Государственной думы Протопопов. С этой целью он после перерыва вышел из министерской ложи и сел на свое место среди депутатов, чем опять вызвал общий ропот неудовольствия. С этого места он и подал председателю записку о желании говорить как депутат. Но до этого, к счастью, дело не дошло: заседание было закрыто ранее, нежели наступила его очередь говорить. В тот же день в Государственном совете, где Трепов также по обычаю читал свою декларацию, Протопопов отозвал меня в кулуар и спросил моего мнения, что ему делать. Я открыто сказал ему, что, по моему мнению, у него один исход: он должен выйти в отставку, а затем, если считает себя лично оскорбленным, то может или выступить в Думе как ее член, или вызвать Бобринского и Пуришкевича на дуэль. Он ответил мне, что охотно вышел бы в отставку, но что это не от него зависит. Завтра же пришлет своего друга, члена Государственной думы Радкевича окончательно посоветоваться, что ему делать. Действительно, Радкевич, член Фракции правых, был у меня на другое же утро. Мы имели с ним продолжительный разговор, и оказалось, что оба совершенно солидарны во взглядах на создавшееся положение: Радкевич, так же, как и я, сказал Протопопову, что у него один исход: отставка; что только она способна успокоить создавшийся между Думою и правительством конфликт, а что затем от Протопопова зависит принять те или иные меры для ограждения своей чести, если он считает себя оклеветанным. Однако Протопопов не сделал ни того, ни другого. Не помню, в какой уже вечер, но вскоре после изложенных событий все министры собрались у А.Ф. Трепова и здесь опять обсуждали создавшееся положение. Мы опять, и на этот раз все без исключения, высказали Протопопову, что его обязанность немедленно отправиться в Ставку и подать в отставку[728]. Он опять стал увиливать, просить письменного постановления Совета министров – очевидно, чтобы подвести весь Совет под неудовольствие Государя за такое выступление скопом. Ему в этом отказали, так как в данном случае было не заседание Совета, а лишь частное совещание министров. Тогда он стал отказываться ехать в этот же вечер, хотя в общем как будто бы и согласился на свою отставку. Поехал он лишь на следующий день, а в этот вечер, говорят, будто бы ездил к императрице в Царское, где, вероятно, и получил поддержку[729]. Вот в эту именно поездку он и говорил В.В. Граве о безграничных силах правительства[730]. Вообще, он, по слухам, нередко езжал в Царское, изображая там бесконечную свою преданность и восхищение; делами же фактически почти бросил заниматься. Говорят, в одно из таких путешествий его автомобиль испортился, и он заехал к какому-то сторожу, пока чинили колесо. И тут, будто бы, на вопрос, что думают о Протопопове, получил, к удивлению, самый резкий о самом себе отзыв. Так далеко проникло то, что о нем говорили в Думе. В конце концов, в отставку Протопопов так и не подал, а объявлен был якобы больным и, вернувшись, не вступил в управление министерством. Получилось какое-то дикое решение вопроса, ни для кого не понятное, и никого не удовлетворяющее. Положение Протопопова в составе министров было совершенно исключительное. А.Ф. Трепов, вступая в должность председателя Совета министров, докладывал Государю, что он может вести дело только при условии удаления Протопопова и Добровольского[731]. Последнего Трепов характеризовал как прямого взяточника и мошенника[732]. И вот, несмотря на такие категорические заявления премьера, пользовавшегося, несомненно, и доверием, и симпатиями Государя[733], а с политической точки зрения безусловно благонадежного, и Протопопов, и Добровольский продолжали преблагополучно сидеть на своих местах.
В составе кабинета оставалась незамещенною, после ухода Штюрмера, должность министра иностранных дел, которую в течение нескольких недель исполнял товарищ министра, вызывая недоумение, когда и чем же это кончится. 29 ноября вечером Трепов попросил меня к нему заехать. Когда я прибыл, он немедленно вышел ко мне из какого-то заседания и заявил, что по его докладу Государю угодно предложить мне должность министра иностранных дел. Это предложение до чрезвычайности поразило меня своею неожиданностью: я никогда дипломатом не был, поездку же на конференцию в Париж нельзя было считать подготовкою. Трепов убеждал меня тем, что он оценил мою настойчивость и что, по его мнению, я сумею быть на страже русских интересов. Вместе с тем, он особенно рассчитывал на меня в деле борьбы с Протопоповым. У Трепова была и собственноручная записка Государя, где было сказано, что если я соглашусь, то чтобы немедленно прислал об этом указ к подписанию. После короткого размышления я согласился. Это мое согласие на новую «чехарду» вызвало во многих большое недоумение. В.Н. Коковцов спрашивал меня об этом на другой день по телефону и, не скрывая своего негодования, сказал: «Нельзя же, в самом деле, по тому, что человек сумел завязать одну постромку в сбруе (намек на Парижскую конференцию), думать, что он может управить и лошадью». Не менее недоволен был и А.И. Шингарев: кадеты рассчитывали, что министром иностранных дел будет опять назначен С.Д. Сазонов, и мое назначение было для них разочарованием. Полагаю, что и другие видели в моем согласии акт честолюбия, стремление выдвинуться повыше. Поэтому я обязан здесь дать некоторые объяснения. Причины, почему я принял пост министра иностранных дел, были общие и частные. Если бы я имел хотя [бы] некоторое основание рассчитывать, что назначен будет С.Д. Сазонов, я бы, разумеется, не переступил ему дорогу. Но шансов на его назначение не было решительно никаких: против этого были и высшие сферы, и сам А.Ф. Трепов. Следовательно, говорить об этом было нечего. Другая общая причина принятого мною решения заключалась в том, что после Штюрмера, успевшего вызвать такое сомнение [и] в обществе, и в Думе, и у союзников, надо было министру иностранных дел, прежде всего и главнее всего, восстановить доверие к полной лояльности и откровенности русской политики. Как определенный сторонник союзной ориентации, я думал, что мне это удастся лучше, чем другому, колеблющемуся в своих убеждениях в этом отношении. Немало привлекала мысль и о том, что ввиду большой близости к Государю мне, может быть, удастся хоть до некоторой степени воздействовать на улучшение общего политического курса.
Причины же личные заключались в следующем: как государственный контролер я был бессильным членом Совета министров, несшим, однако, ответственность за все его действия; мои протесты в течение почти десяти месяцев убедили меня в полной почти их бесплодности. Как министр иностранных дел я мог принимать минимальное участие в заседаниях Совета министров[734]. Не скрою, наконец, что возможность принять более близкое участие в решении громадных вопросов, связанных с окончанием войны, не могла не привлекать меня. Кроме того, во время военных действий задача министра иностранных дел была уже не столь сложная: вся ее трудность предстояла после войны, говорить же о столь отдаленном времени было нечего. Я, напротив, рассчитывал, что недолго усижу, и даже подыскивал себе частную квартиру.
Таковы были руководившие мною соображения, быть может, и мало основательные. Менее всего стремился я при этом к личному возвышению. Это я заявляю с полной откровенностью.
Назначение мое состоялось 30 ноября, и на следующий день я поехал представляться Государю[735]. Он принял меня очень любезно и сказал, что выбор его пал на меня потому, что я финансист и экономист, а вопросы экономические будут иметь первую роль при окончании войны. Эта мысль была, вероятно, подсказана Треповым. Затем Государь сказал, что императрица также желает меня видеть. Поэтому от Государя я сразу же пошел к императрице. Надо сказать, что по назначении государственным контролером я, согласно правилам, испрашивал разрешения быть представленным обеим императрицам. От старой императрицы Марии Федоровны я вскоре же получил согласие. Прием был чрезвычайно любезный и продолжался что-то около трех четвертей часа, причем императрица говорила со мною преимущественно по вопросам призрения увечных воинов, так как я был в этом деле сотрудником ее дочери великой княгини Ксении Александровны[736]. От императрицы же Александры Федоровны я тогда никакого ответа не получил и так ей и не представлялся. На этот раз императрица принимала меня довольно долго, я думаю, более получаса. Наружность ее очень примечательна: будучи уже не первой молодости, она, в зависимости от минуты и настроения, бывает или очень хороша собою, или, напротив, антипатична [и] старообразна. Я видал ее и в том, и в другом случае. Может быть, это зависело от туалета. На этот раз императрица была в костюме сестры милосердия, который придавал ей сухой и старый вид. Говорила она со мною по-русски: она совершенно правильно владела русским языком, только с иностранным акцентом. Старая императрица Мария Федоровна затруднялась говорить по-русски, и я беседовал с нею по-французски. Императрица Александра Федоровна начала свою беседу с внешней политики. Говорила она и о немцах, и о союзниках. Меня удивило, что немцев характеризовала она как народ недалекий. Переходя затем к послам наших союзников, Государыня дала обо всех довольно-таки отрицательный отзыв. В частности, английского посла сэра Бьюкенена она назвала человеком ограниченным. Опасаясь, как бы эта тема не вызвала каких-либо неосторожных выражений и с моей стороны, которые потом могли бы быть неверно истолкованы, я понемногу перевел разговор на тему о призрении увечных воинов и Верховном совете. Под влиянием ли общих наветов или личного впечатления, но мне чувствовалось, что с императрицей надо быть настороже – ne posse liviun[737].
По назначении я еще неделю прожил в Контроле и только 8 декабря переехал в Министерство иностранных дел. В Контроле заменил меня старый мой сослуживец еще по Государственной канцелярии, товарищ министра финансов С.Г. Феодосьев[738]. Это был человек исключительных дарований и трудолюбия. Выбор Трепова был в этом случае сделан весьма удачно.
С Контролем после десятимесячного пребывания в нем я простился несколько поздно, пригласив старших чинов его на обед к себе, причем получил от них на память старинную икону св. Николая. Добрые отношения с контрольными чинами сохранились у меня до сегодняшнего дня. Нам там жилось очень хорошо.
В новом министерстве я прежде всего отправился к его ветерану, товарищу министра А.А. Нератову. Человек очень сдержанный и замкнутый, А.А. встретил меня вежливо, но с явным недоброжелательством. Я нисколько на это не претендую, считая это вполне естественным: ведь я, действительно, был «intrus»[739], никогда не служивший по дипломатическому ведомству; таких министров, кажется, до тех пор никогда не было. Наконец, сам Нератов имел основание рассчитывать на это назначение. Я, напротив, чрезвычайно ценю, что он совершенно открыто выразил свое отношение, а именно, он сразу заявил, что ни в каком случае на своем посту не останется. Разумеется, это ставило меня в очень трудное положение. Сам я дела и ведомства не знал, другой же товарищ министра, А.А. Половцов, был также внове. Поэтому я сказал Нератову, что крайне смущен его намерением, однако надеюсь, что до приискания преемника он мне не откажет в своей помощи. Мне сейчас же стали предлагать и преемника: Трепов прямо даже стал навязывать сенатора Малевича-Малевского, бывшего посла в Японии. Но у меня не было решительно никакой охоты воспользоваться этой рекомендацией. Напротив, я счел нужным непременно удержать Нератова, как человека очень опытного, знающего ведомство наизусть и пользовавшегося доверием как союзных послов, так и бывшего министра С.Д. Сазонова. Для этого я сделал то, что было сделано со мною: я доложил Государю, что А.А. Нератов за долговременную службу свою имеет право по заслугам на кресло члена Государственного совета, с тем, однако, чтобы, по моему примеру, он продолжал исполнять обязанности товарища министра до тех пор, пока не будет найдено ему преемника. Государь охотно на это согласился. Но и Нератов был в восторге, заявив мне, что несказанно мне благодарен и готов остаться товарищем министра, пока только я сам этого пожелаю. Так удачно был разрешен этот кризис[740].
Другой товарищ министра, А.А. Половцов, был, как я говорил, назначен Штюрмером. Он, конечно, не выражал никакого желания покинуть свой пост. Напротив, Государь при первом же моем представлении особенно настойчиво рекомендовал мне его, как лично ему известного человека, и выразил большое удовольствие, узнав, что я Половцова знаю по поездке на Парижскую конференцию. Оставляя в стороне всякие сплетни, я могу только сказать, что А.А. Половцов был человек очень умный, с характером и очень легкий и приятный. В его ведении была хозяйственная и личная часть министерства. В это дело он, видимо, сумел войти очень быстро и вел его очень хорошо. Правда, дело было не очень сложное. Но ему хотелось расширить свой кругозор, и он просил допустить его присутствовать при ежедневных моих беседах с послами, к чему я не усмотрел никаких препятствий, раз другой товарищ министра также участвовал в этих беседах. Конечно, в общем характер А.А. Половцова не мог не возбуждать некоторых сомнений, что впоследствии и оправдалось: возвысившись при Штюрмере, при личной рекомендации Государя, он во время Февральской революции едва ли не первый в министерстве надел огромный красный бант и был крайне обижен, когда Временное правительство не только заменило его бароном Нольде[741], но даже не пустило послом в Мадрид, причем заявил, что ему в особенности обидно то, что его смешивают с реакционерами, тогда как он всегда был противником прежнего строя. Когда же власть получили большевики, А.А. Половцов сумел втереться в их доверие, сделавшись, будто бы в целях охраны художественных богатств, комиссаром Павловского дворца. В конце концов, он, однако, этой марки не выдержал и сбежал за границу.
О личном составе Министерства иностранных дел сложилось в обществе убеждение, что это франты, шаркуны, пшюты, снобы, но не деловые люди. Я вовсе не имею особых интересов защищать чинов этого ведомства: не я их назначал и сам вышел не из их среды. Но по справедливости я должен здесь определенно заявить, что приведенное мнение совершенно ложно: в центральном управлении министерства очень немного чиновников, человек сто с небольшим, считая и канцелярских, т. е. много меньше, чем во многих департаментах других ведомств. Все это люди очень благовоспитанные и светские, но вместе с тем прекрасно образованные, трудолюбивые и дельные[742]. В мое время директором Канцелярии[743] был Б.А. Татищев. С ним я познакомился в Париже, где он был первым секретарем посольства. Оттуда его назначили советником в Токио, но при проезде через Петроград он был задержан и назначен директором Канцелярии. Я редко видел более исполнительного чиновника. В Министерстве иностранных дел система ведения дел совершенно иная, чем в других ведомствах. Текущую переписку ведут товарищи министра за своею ответственностью. К ведению министра относится политическая корреспонденция. Уже в десять часов утра начинаются доклады, которые заключаются в прочтении депеш, полученных за предшествующий день и ночь. Они должны быть к этому часу расшифрованы, чем заняты специальные чиновники. Во время чтения депеш министр и товарищи дают указания, какие надо дать ответы, иногда очень сложного содержания. И вот директор Канцелярии (а также и другие начальники отделов, каждый по своей части) должны изложить эти ответы, которые министру более даже и не показываются, хотя подписываются его именем – все ради спешности дела. И я не помню случая, чтобы ответы, составленные Татищевым, когда-либо не отвечали данным указаниям, как бы они сложны ни были. Надо при этом помнить, что к ведению директора Канцелярии относилась вся корреспонденция с государствами Западной Европы и Америки, а во время войны это были не шутки.
Управляющим Ближневосточным отделом, ведавшим дела по Балканскому полуострову, Турции и Малой Азии[744], был Петряев, бывший ранее консулом на Востоке. Человек очень опытный и знающий, он уже ни с какой стороны не подходил к типу сноба и хлыща: напротив, это был очень скромный и дельный труженик. Равным образом, таким же опытным и знающим был фон Клемм, управляющий Среднеазиатским отделом[745], человек уже почтенных лет. Наконец, и управляющий Дальневосточным отделом, т. е. делами по Японии, Китаю, Манчжурии, Корее[746], Казаков, человек несколько нервно расстроенный, был идеальным работником не за страх, а за совесть. Он душою был предан своему делу, у него были в этой области сложившиеся, может быть, несколько односторонние, но твердые убеждения, которые он отстаивал с большой горячностью.
Директор Первого департамента – дел хозяйственных[747] – фан дер Флит был, действительно, несколько странный, какой-то растерянный, но, впрочем, и он работал с любовью к делу. Вскоре мне удалось провести его в Сенат и на его место назначить вице-директора В.Б. Лопухина, старого моего приятеля и сослуживца, работоспособность которого я ставил всегда очень высоко[748]. Наконец, директор Второго департамента[749] барон Нольде был известен как профессор международного права и человек совершенно выдающийся. Против него был сильно настроен А.Ф. Трепов. Утверждали, правда, что бар[он] Нольде – кадет и ненадежный человек. Кадет он был действительно и настолько, что после революции получил место товарища министра при Милюкове[750], но это не мешало тому, что, как знаток частного международного права, как ученый и практик, близко знакомый с торговыми договорами, он был незаменимым директором Второго департамента.
Не говорю о более молодых чинах, хотя и все поименованные были не старые. Все они наперерыв постарались показать мне свои знания и работу, все представили целые трактаты по предмету ведения каждого. Не могу еще не упомянуть здесь о таком выдающемся знатоке ближневосточных дел, как князь Григорий Трубецкой, это был прямо талант, или о Лысаковском, ведавшем Отделом печати[751]. Таким образом, центральное ведомство было здесь, по-моему, лучше обставлено, чем в любом из других министерств.
С заграничными нашими представителями я успел познакомиться гораздо менее, так как пробыл министром менее трех месяцев. Но тут я могу судить только путем сравнения с представителями иностранных держав в Петрограде. И вот, я определенно вынес впечатление, что таких послов, как граф Бенкендорф, Извольский и Гирс в Риме, у иностранцев в Петрограде не было.
О графе Бенкендорфе я уже говорил подробно: это был исключительный знаток наших международных отношений, осведомленный как никто о положении дел не только в Англии, но и во всей Европе и даже в Америке.
Извольский, может быть, несколько уже утомленный, был все же авторитетным человеком. То же можно было бы сказать и о Гирсе. Знающими, талантливыми были посол в Японии Крупенский и посланник в Лиссабоне Боткин. Последний несколько парадировал своим германофильством и насмешливым отношением к союзникам. Но это не мешало ему быть необыкновенно наблюдательным и интересным. Слабее других был посол в Соединенных Штатах Бахметев, человек очень уже устарелый. О положении дел там я знал гораздо больше от графа Бенкендорфа, чем от него. Подобное представительство на таком важном посту казалось мне недопустимым, и я докладывал Государю о необходимости заменить Бахметева другим лицом. Хотя Государь отнесся к этому без особой охоты, тем не менее, я думаю, что удалось бы это сделать, если бы не произошла революция. Бахметев был заменен другим Бахметевым, профессором, только уже после революции[752]. Но в особо трудное положение я был поставлен, когда получено было известие о кончине графа Бенкендорфа[753]. Заместитель для него у меня в виду был только один – С.Д. Сазонов. Я был уверен, что этот кандидат будет особенно приятен английскому правительству, да и нашему общественному мнению. Опасался я только одного – противодействия сверху. Однако когда я стал докладывать о необходимости замещения места посла в Лондоне и прибавил, что у меня в виду только один кандидат, то Государь не дал мне докончить и спросил: «Сазонов, не правда ли?»[754] Это, мне кажется, доказывает, что сам Государь лично ровно ничего не имел против Сазонова, и что его увольнение из министров было результатом каких-то сторонних влияний. Сазонов пробовал было отнекиваться, но, когда я ему сказал о докладе, он понял, что это дело конченное. Да мне почему-то кажется, что и ему самому этого очень хотелось[755]. Однако он чрезвычайно долго собирался в путь, до того долго, что настала революция. Но он и тут еще не поехал и дождался того, что когда сел в вагон, то прислали от князя Львова сказать, чтобы он не ехал. Между тем, назначение его имело большое политическое значение: по крайней мере, английский король[756] специально благодарил за него Государя.
Мне сообщили вскоре же по моем назначении, что Государственная дума ждет разъяснения министра иностранных дел по вопросу о предложенном германским правительством мире. Это предложение было сделано, как известно, в крайне общих выражениях и, в сущности, имело такой характер, что мы-де готовы войти в переговоры, не указывая пока условий, и, если союзники на это не пойдут, то ответственность за продолжение войны упадет на них[757]. Речь моя, которая должна была быть прочитанной, а не экспромтной, так как могла быть произнесена только с высочайшего одобрения, была по моему поручению составлена Лысаковским настолько основательно, что не потребовала никаких исправлений. Я поехал вечером к А.Ф. Трепову, который включил в нее несколько сильных выражений. «Это должно им понравиться», – говорил он. Он же и свез ее Государю рано утром, так как у меня доклада в этот день не было[758]. Перед самым заседанием я был уведомлен, что речь получила одобрение, и потому выступил на кафедре. Встречен я был гробовым молчанием. Видимо, хотели показать мне, что не одобряют моего назначения. Родзянко говорил будто бы, что если я буду проявлять наклонность к миру, то он со своей кафедры пустит мне в голову графином. Однако речь была составлена в таких выражениях, что каждая фраза ее сопровождалась бурными аплодисментами, а в конце была чуть ли не овация[759]. Дума, очевидно, успокоилась, что в Министерстве иностранных дел вопроса о сепаратном мире поставлено быть не может. В «Речи»[760] на другой день статья об этой речи констатировала ее успех, хотя и предупреждала, чтобы я не приписывал ее успех себе, а лишь существу дела. Кадеты хотели этим еще раз отметить, что желали видеть министром не меня, а Сазонова. Личность же мою изобразила «Речь» в довольно комическом виде, таких-де фигур мы не привыкли видеть представителями Министерства иностранных дел[761].
Рядом с внешнею, мне пришлось сразу коснуться и внутренней политики. В первый же мой деловой доклад Государю я должен был, по соглашению с Треповым, сказать, с точки зрения министра иностранных дел, об опасности, представляемой Протопоповым, и о необходимости его устранения[762]. Но тут случился неожиданный инцидент. Трепов вел вовсю кампанию против Протопопова, поставив в зависимость от ее успеха сохранение за собою поста председателя Совета министров. И вот, если память мне не изменяет, именно в утро накануне того дня, когда я должен был ехать с этим докладом, он получил записку от Государя, что отставка его принята[763]. Тем не менее, мы находили, что это обстоятельство дела не меняет и что я все-таки должен выступить со своим докладом против Протопопова. Поэтому после очередных дел я просил у Государя разрешения сказать несколько слов по вопросам, выходящим за пределы моего ведомства. Государь, видимо, насторожился; быть может, он был предупрежден, что я буду говорить о Протопопове. Должен прибавить еще, что в это время совершилось уже убийство Распутина[764], и великий князь Дмитрий Павлович был сослан в Персию, несмотря на заступничество всей Императорской фамилии. Рассказывали, что Государь согласился выслушать только его отца, великого князя Павла Александровича[765]. На письме членов Императорской фамилии, где первой подписавшей была великая княгиня Мария Павловна Старшая, и где они умоляли о милости к великому князю Дмитрию Павловичу, последовала очень резкая резолюция Государя[766]. Замечательно, что с этим вопросом члены Императорской фамилии обращались к третьим лицам. Так, великая княгиня Мария Павловна при моем представлении ей передала мне это письмо в копии, с написанною на нем резолюциею Государя. О том же подробно говорили со мною великий князь Кирилл Владимирович и супруга его великая княгиня Виктория Федоровна. Последняя во всем винила императрицу Александру Федоровну. А великий князь Александр Михайлович настоятельно просил в моем докладе упомянуть и о судьбе Дмитрия Павловича. Великий князь Николай Михайлович читал мне свои письма к Государю об общем направлении политики, где довольно резко выступал против влияния императрицы и Распутина[767]. «Не удивляйтесь, – говорил он, – если вдруг узнаете, что я выслан или арестован. Я нарочно прочел Вам эти письма, чтобы Вы знали причину». Так оно вскоре и случилось[768].
Все эти беседы происходили как-то лихорадочно, при первом свидании, когда еще великие князья не могли иметь ко мне никакого личного доверия. Так сильна была общая растерянность. Слышал я, что и императрица Мария Федоровна писала Государю письмо из Киева[769].
Все это, однако, не подействовало. Поэтому моя задача была очень трудна и деликатна. Тем не менее, я решился поставить вопрос ребром с самого начала. Я, к сожалению, теперь уже не помню последовательно содержания своих слов. Сущность же их заключалась, приблизительно, в следующем: я говорил Государю, что как министр иностранных дел я крайне озабочен сохранением во время войны внутреннего спокойствия, которое является главным залогом успеха в предпринятой Россиею грандиозной борьбе. Между тем, при настоящих методах управления спокойствия нет и быть не может. Первою причиною является конфликт министра внутренних дел с Государственною думой и русскою общественностью. Раздражение растет с каждым днем, с каждым часом. К нему присоединяются волнения, вызванные преследованием за событие, хотя формально и преступное, но являющееся выражением требований народной совести (я разумел убийство Распутина – при этих словах Государь вскинул на меня глазами). Я не касаюсь – говорил я – других новоназначенных министров, которых молва обвиняет в корыстных деяниях (как Добровольский). Я не знаю, справедливы ли эти наветы. Но о Протопопове я позволяю себе сказать открыто, что дальнейшее его пребывание у власти грозит государственному спокойствию. Из создавшегося конфликта между ним и Думой могут быть только два исхода: его увольнение или роспуск Думы. Но роспуск Думы, который при незакономерности ее действий всегда зависит от верховной власти, в настоящих условиях есть начало революции. Рабочие на фабриках и заводах находятся в крайнем состоянии брожения, достаточно искры, чтобы вызвать их на улицу. Приказывать солдатам стрелять в народ теперь, когда они стоят на фронте для защиты этого народа от внешнего врага, совершенно невозможно. А если такой приказ будет дан, он не будет исполнен. Начало же неповиновения армии есть начало государственного переворота. Как министр иностранных дел я не могу не предвидеть, что последствием будет заключение сепаратного мира (при этих словах Государь сделал энергический жест и сказал: «Никогда я не заключу сепаратного мира»). Я же – продолжал я – в таком случае прошу Государя уволить меня от должности, так как участвовать в заключении сепаратного мира я считаю противным своей совести.
Вот примерно содержание моего обращения к Государю, которое было в действительности гораздо продолжительнее. Я говорил очень горячо и в конце концов даже с рыданиями в голосе, слезы душили меня. «Ваше Величество, – сказал я в заключение, – простите мне мою откровенность, но моя совесть не позволяет мне говорить иначе и молчать».
– Нет, пожалуйста, – сказал Государь. – Я, напротив, очень ценю искренность.
– Какой же ответ Ваше Величество изволите мне дать насчет меня и моей отставки?
– Я Вам скажу это на следующем докладе.
Мне кажется, что мои слова произвели на Государя довольно сильное впечатление. Он простился со мною в очень серьезном настроении.
Доклад мой был до Нового года. Следующий предстоял 3 января. Я сообщил своим сослуживцам, что едва ли останусь министром. Оставалось ожидать дальнейших событий. Тем временем с разных сторон начались настояния, чтобы я при следующем докладе не настаивал на своей отставке, если Государь будет меня удерживать, потому что очень близка перемена в составе министерства, что Протопопов будет уволен и даже что председатель Совета министров будет новый. Являлись с этим государственные деятели и журналисты. Один из них, человек всегда очень осведомленный, Бонди, утверждал, что полная реорганизация министерства произойдет после 20 января[770]. А надо сказать, что состав министерства еще ослабел. На место А.Ф. Трепова был назначен председателем Совета министров кн[язь] Н.Д. Голицын[771]. Это был прекрасный, очень почтенный человек, но окончательно непригодный к этой должности. Когда-то был он тверским губернатором, затем сенатором и членом Государственного совета. Последнее время он работал в Комитете императрицы Александры Федоровны о военнопленных. И, говорят, был платонически влюблен (боготворил) в императрицу. Это ли боготворение, или особые труды по Комитету, или другие причины, но он был избран в преемники Трепова. Он рассказывал мне, что Государь долго убеждал его принять должность председателя, но он решительно от этого отказывался и, уходя, вынес убеждение, что ему удалось отклонить назначение; однако к концу дня получил уже подписанный указ и делать уже было нечего[772].
Человек уже далеко не молодой, в возрасте почти семидесяти лет, князь Н.Д. Голицын обладал добрым, в высшей степени мягким характером и самым приятным обращением, но твердости в нем не было решительно никакой и справиться с министрами он не был в состоянии, да едва ли и хотел. Когда его назначили, он приехал ко мне, и я сообщил ему о своем докладе против Протопопова и о возможной своей отставке. Он, конечно, выражал сожаление и желание, чтобы я остался, но заметно было, что никакой поддержки в борьбе с Протопоповым я ожидать не могу. Впоследствии, однако, сам Голицын говорил мне, что убедился в опасности Протопопова, а потому он постоянно докладывал об этом Государю, но, разумеется, не ему было справиться с Протопоповым и его кликою, когда это не удалось даже А.Ф. Трепову[773].
На место Трепова министром путей сообщения был назначен Кригер-Войновский, очень опытный и дельный инженер, при котором дело не могло пойти хуже, чем при Трепове. Но зато уволен был министр народного просвещения гр[аф] П.Н. Игнатьев[774]. Это был, по-моему, прямой результат его доклада Государю, и не помогли ему ни сочувствие Государя, ни его дружеское расположение[775]. Отставка была дана в таких странных условиях, без назначения в Сенат или Государственный совет, а вчистую, что имело прямо характер немилости. Что хуже всего, это то, что Игнатьев, человек сравнительно молодой, оказавшись в полной отставке, подлежал призыву в войска. Тогда уже военный министр доложил Государю об этом неожиданном результате, и графа Игнатьева уже после отставки пожаловали в гофмейстеры или в шталмейстеры только для того, чтобы избавить его от воинской повинности[776]. На его место был назначен попечитель Петроградского учебного округа Кульчицкий[777], о котором я ровно ничего сказать не могу, так как в Совете он за мое там присутствие ничем себя не проявил; но в противоположность графу Игнатьеву это был совершенно старый и дряхлый человек[778]. Наконец, в начале января произошла еще одна перемена: на место Шуваева был назначен быв[ший] начальник Генерального штаба М.А. Беляев[779]. Рассказывали, будто императрица посылала Шуваеву разные приказания по переменам в личном составе Военного ведомства, но он отказался их исполнять и был за это сменен[780].
Перемена в военном ведомстве не внесла никакого улучшения: М.А. Беляев был человек очень сухой, ограниченный и крайне упорный. Многие его терпеть не могли[781].
При всем том, повторяю, утверждали, что перемена в министерстве ожидается очень скоро, и убеждали меня не настаивать на своем уходе. С этим приехал ко мне даже сам А.Ф. Трепов, с которым мы раньше условливались, что в случае неухода Протопопова я уйду из Министерства иностранных дел. Он равным образом настаивал на том, чтобы я остался, указывая на возможность перемены. Он был у Государя[782], который сказал ему, что очень благодарит его за рекомендованных им министров, меня и Феодосьева («в особенности же за Покровского»).
Из Ставки приехал представитель Министерства иностранных дел Базили, который сказал, что мой уход в данную минуту произведет нехорошее впечатление в офицерских кругах, так как после моей речи в Думе он будет истолкован снова как поворот в пользу сепаратного мира.
Государь еще раз подчеркнул свое ко мне внимание тем, что 1 января пожаловал мне орден Белого орла через орден, минуя Владимира 2-й степени[783]. Все вместе взятое побудило меня остановиться на том, чтобы еще раз поставить вопрос об отставке, но на нем окончательно не настаивать.
1 января 1917 г. в Царском Селе происходил прием дипломатического корпуса, министров и первых чинов двора в Большом дворце. На этом приеме был и председатель Государственной думы. К нему Протопопов полез с рукопожатием, а тот послал его к черту. Одни говорили, будто Протопопов вызвал после этого Родзянку на дуэль, другие – будто просто сказал: «Хорошо»[784].
Надо сказать, что к этому времени политическая болезнь Протопопова уже кончилась, и мало-помалу он, вопреки всему и всем, был утвержден в должности министра внут[ренних] дел[785]. Следовательно, в этой области ничего и никому сделать не удалось. Тем удивительнее милостивое ко мне отношение Государя. Когда же 3 января я был опять с докладом[786] и в конце доклада спросил, как угодно Его Величеству распорядиться мною ввиду моей просьбы об увольнении, то Государь сделал вид, что не сразу понял, о чем идет речь, а затем сказал, что он просит очень меня остаться, и прибавил, что я пользуюсь полным его доверием. Я на это сказал, что во исполнение такой высочайшей воли буду, как часовой, стоять до смены, но, ввиду полного несогласия своего со взглядами Протопопова, я прошу разрешения в Совете министров открыто высказывать свои особые мнения. На это Государь ответил мне, что просит всегда так и делать, потому что особенно ценит искренность убеждений. Вообще, он был необыкновенно милостив. Знаю, далее, что и другие министры после меня пробовали подавать в отставку по несогласию с Протопоповым, но уволены не были. Так, Барку разрешено было уехать в продолжительный отпуск в Финляндию, откуда он, впрочем, вскоре вернулся[787]. Князю Шаховскому Государь отсрочил разрешение вопроса об отставке, причем сказал: «Значит, и Вы смотрите на политику Протопопова, как Покровский»[788]. Следовательно, мои слова произвели все-таки известное впечатление. Сужу об этом еще и потому, что, например, министр Двора убеждал меня говорить об опасном направлении политики Протопопова, потому что я будто бы пользуюсь доверием Государя, а ему, когда он говорит, дают понять, «quil est un vieil unbcile»[789].
Но за всем тем все мнения и действия Протопопова получали всяческое одобрение. Особенно проявилось это в вопросе о сроке созыва Государственной думы. При последнем роспуске ее на Рождество было прямо сказано, что Дума будет созвана вновь 12 января[790]. К этому времени должен был последовать рескрипт на имя князя Голицына, в котором должны были быть изложены виды правительства по главным задачам момента. Здесь говорилось о продовольствии, путях сообщения, далее о благожелательном и прямом отношении к законодательным учреждениям и, наконец, о том, что правительство имеет в виду опираться на земские учреждения[791]. Составление рескрипта было поручено А.А. Риттиху. Я упустил сказать, что еще при Трепове Риттих был назначен министром земледелия[792]. Я уже упоминал, с какой энергией он взялся за продовольственное дело. Его распоряжения вызывали кадетскую оппозицию, но, в конце концов, он имел в Думе громаднейший успех: все поняли, что продовольственный вопрос оказался в твердых руках и дело мало-помалу наладится. И у Государя Риттих внушил, по-видимому, большое доверие. Так вот, этот проект рескрипта, составленный Риттихом, был обсужден на квартире кн[язя] Голицына, где кроме него были Протопопов и я; Риттих в этот день ездил с докладом[793].
В общем, проект был нами одобрен, причем я настаивал на том, чтобы он был обсужден в Совете министров, иначе возобновилась бы штюрмеровская практика – решение важных вопросов в маленьких домашних совещаниях. С Протопоповым мы объяснились очень корректно, констатировав полную противоположность наших взглядов на политическое положение. Говорили и о сроке созыва Думы; предполагалось отложить его до 24 января вместо 12 под тем предлогом, что Бюджетная комиссия Государственной думы еще не закончила своих работ. Мотив этот, конечно, был мало убедителен. Дума могла быть совершенно свободно созвана и во время работ Бюджетной комиссии и нисколько им не помешала бы, а важно было соблюсти высочайше обещанный срок созыва.
Совещание это происходило 2 января, и 3 января был упомянутый мною мой доклад, на котором разрешился вопрос о том, что я остаюсь пока министром. Из Царского я проехал прямо в Мариинский дворец на заседание Совета министров, где опять ин-плено[794] обсуждался проект рескрипта на имя кн[язя] Голицына, принятый без прений, а затем вопрос о сроке созыва Гос[ударственной] думы[795]. Протопопов и Добровольский усиленно доказывали, что созыв этот должен быть отсрочен, по крайней мере, до половины февраля. Они утверждали, что Дума сделалась фокусом революционного направления общества, борющегося с правительством за власть. Протопопов излагал какуюто курьезную теорию развития революционного движения, иллюстрируя ее составленным им графическим изображением[796]. Добровольский – тот прочел письмо какого-то своего друга, члена Думы из правых, где было сказано: «Коля, беги скорее, пока цел». «Если мне так пишут, – пояснил Добровольский, – то что же должны писать Александру Дмитриевичу» (Протопопову).
Я произнес довольно длинную речь, где обличал их в искажении истины. Настоящая Дума – говорил я – на две трети состоит из консервативнейших элементов страны, ее восстановили против правительства собственные его действия. Улучшить положение можно вовсе не роспуском Думы и назначением новых выборов, как желали Протопопов и Добровольский, потому что новые выборы в настоящих условиях дадут гораздо более оппозиционную Думу; нужно же немногое, что может быть исполнено в несколько дней (я ясно намекал на необходимость ухода Протопопова, Добровольского и им подобных), и волю Государя о созыве Думы можно исполнить к 12 января. Речь эту многие назвали тогда историческою. Ко мне присоединились Феодосьев, Шуваев, Николаенко (заменявший Барка) и Ланговой (заменявший Шаховского). Председатель, князь Голицын, решительно высказался против полного роспуска и новых выборов, предложив небольшую отсрочку – до 31 января, по довольно странному мотиву, что до 31 января ему не успеть переехать на казенную квартиру, где он, по-видимому, собирался делать рауты. Но Протопопов, Добровольский и Раев остались при своем. Последний предложил отсрочку до 14 февраля, мотивируя это тем, что 14 февраля – начао поста. Таким образом, было три мнения: созвать Думу в срок – 12 января, отсрочить до 31 января и отсрочить до 14 февраля.
Голицын обещал доложить Государю все три мнения, и высочайшее одобрение получило третье мнение – об отсрочке до 14 февраля. Конечно, всякая отсрочка – и до 31 января, и до 14 февраля – была одинаково нежелательна, как неисполнение высочайшего обещания, но князь Голицын не сумел отстоять в данном случае даже свое собственное мнение.
Вот как были глубоки корни, пущенные Протопоповым. Прямо не знаю, чему их приписать. Думаю все же, что здесь главную роль играло влияние императрицы, перед которой он, говорят[797], разыгрывал роль какой-то необыкновенной и беззаветной преданности и жертвы за свою любовь к Государю и императрице, о чем говорил на всех перекрестках. Ужасно подлые у него были аллюры. Уже я упомянул, как он полез к М.В. Родзянке на новогоднем приеме в Царском.
В Совете министров я, в порядке старшинства[798], имел несчастье сидеть рядом с ним. И вот, несмотря на явное мое с ним расхождение, которое я, кажется, вовсе и не скрывал, Протопопов, что называется, лез ко мне постоянно, чуть-чуть что не облапливал, говорил что-то на ухо, так что я не знал, как от него отвертеться[799].
Но другая загадочная причина заключается все-таки в отношении к нему Государя[800]. Поэтому здесь уместно будет сказать несколько слов для характеристики Государя, насколько я имел возможность его узнать. Действительно, ведь очень было странно видеть, с одной стороны, крайне милостивое его отношение к Трепову, к графу Игнатьеву, ко мне лично[801], и рядом с этим согласие со всем, на чем настаивал Протопопов, увольнение тех же Трепова и графа Игнатьева, резкое отношение к членам Императорской фамилии[802], нежелание даже говорить о Распутине, чтобы не вызвать истерию со стороны императрицы[803]. Как все это согласовать? Я, конечно, слишком мало видал Государя, чтобы дать полную его характеристику, поэтому ограничусь лишь своими личными впечатлениями. С внешней стороны Государь был человек прямо очаровательный своей мягкостью и любезностью обращения: при нем всякий должен был чувствовать себя в своей тарелке, так он был мил и прост. Особенно поражало выражение глаз, лучистых, доброжелательных и ласковых. Он, мне кажется, не для вида только, но действительно стремился к простоте: так, однажды явившись к утреннему докладу, я застал его лично растапливающим камин в своем кабинете.
На докладах он держал себя как милый собеседник. Почему некоторые, даже старые министры, например, А.С. Ермолов, боялись ему докладывать, я отказываюсь понимать. Государь был очень трудолюбив и обладал, несомненно, хорошими способностями. Так, еще со вступления на престол он считал особою своей обязанностью читать губернаторские отчеты и делать на них отметки. Напрасно А.Н. Куломзин отмечал ему места, которые стоило читать: Государь не следовал его указаниям и, по-видимому, все отчеты читал от доски до доски[804]. В этом его трудолюбии я убедился и по Министерству иностранных дел. Здесь ежедневно посылалась Государю очень обширная почта: все, иногда очень обширные телеграммы и письма послов и других российских представителей с ответами на них министерства. Государь, несомненно, каждый день прочитывал эту корреспонденцию целиком и делал на ней свои отметки. Обладая при этом превосходною памятью, он отлично помнил все прочитанное. Бывало, на докладе я говорил кое-что из этой корреспонденции – и почти всегда Государь отвечал, что он уже читал это в депешах.
По словам одного из камердинеров, Государь работал каждую свободную минуту, как только не был занят обязанностями представительства. Мысли докладчика он схватывал всегда верно. Это мне подтверждали и такие долголетние его докладчики, как граф В.Н. Коковцов. Последний говорил мне не раз, что Государь отличается очень недурными способностями, быстро усваивает, но это усвоение не впрок – оно поверхностное: мысль не остается твердо в уме и быстро испаряется. Мне ни разу не случалось видеть, чтобы Государь был не согласен с моими заключениями на докладе, но определенно своего мнения он почти никогда не высказывал. Правда, я этого не могу приводить в виде общего правила – я слишком мало имел случаи докладывать Государю: как государственный контролер едва раза четыре за десять месяцев[805], а еженедельно, да и то с перерывами – только в течение трех месяцев в бытность мою министром иностранных дел[806]. При таком характере, впечатлительном и вместе мягком и неустойчивом, Государь должен был находиться под влиянием последнего докладчика и соглашаться с ним[807]. Но, разумеется, гораздо сильнее должно было быть влияние тех сфер, которые непосредственно его окружали, и прежде всего влияние императрицы, женщины, по-видимому, властного характера и притом истеричной[808].
После докладов министров начиналось, вероятно, их пережевывание в тесном кругу. На это указывают вынесенные оттуда смешные характеристики не привившихся министров: «наш добрый нотариус» – для А.А. Макарова, «румын» – для А.А. Поливанова.
Пробовавшие бороться с этими домашними влияниями всегда проигрывали игру, будь то даже такие авторитетные люди как П.А. Столыпин или граф В.Н. Коковцов. Чтобы устранить влияние подобных людей, по-видимому, начинали играть на струне самолюбия: что такой-то министр затмевает Государя в народном мнении. Этот прием, кажется, всегда действовал с успехом: таким именно способом были лишены доверия и Витте, и Столыпин, и Кривошеин[809].
Затем была, как рассказывали, та область, где средством воздействия была истерия: это область Распутина. Тут, по-видимому, довели Государя до степени крайнего раздражения, так что он не выносил даже разговоров о Распутине. Когда же его убили, то, вероятно, произошли такие домашние сцены, которые побудили Государя принять прямо жестокие меры, совершенно несвойственные его характеру: сослать в Персию вел[икого] князя Дмитрия Павловича, своего любимца, и резко ответить всем членам Императорской фамилии, которые просили за последнего. Это была истинная твердость слабости[810]. Между тем, по существу, Государь был, по-видимому, совершенно иных взглядов и вовсе не симпатизировал ни Распутину, ни Протопопову: граф Игнатьев прямо говорил мне это, а он его близко знал[811]. Доказательство – его разговор с Игнатьевым, его отношение к моему докладу о Протопопове. Он чувствовал, что правда на нашей стороне, но не мог избавиться от кошмара. И вот этот давящий кошмар начинал действовать: в результате граф Игнатьев, этот любимец Государя, был уволен. Был бы, конечно, уволен и я по прошествии некоторого времени, если бы не случилась революция. Тщетно Государь старался найти какой-нибудь исход. В этом порядке мышления он приближал иногда к себе людей совершенно особого рода и не только слушал их, но даже следовал их советам.
Одного из таких людей знал и я: это был Анатолий Алексеевич Клопов[812]. Старый земский, кажется, статистик, человек с окраскою шестидесятых годов, он как-то сблизился с вел[иким] князем Александром Михайловичем, а тот представил его Государю[813]. И вот, вдруг, во время продовольственной неурядицы, когда министром внутренних дел был И.Л. Горемыкин, совершенно для всех неожиданно титулярному советнику Клопову было поручено вне всяких ведомств обследовать продовольственное дело, дан для этого особый штат чиновников и экстренный поезд[814]. Разумеется, из этого обследования ничего не вышло, но Государь и после того охотно беседовал с Клоповым. Обыкновенно Клопов писал ему письмо с просьбою об аудиенции, и Государь назначал таковую. Беседа продолжалась другой раз час и более. Государь и Клопов курили, и Клопов, со свойственной ему беспорядочностью мысли и горячностью, говорил ему вещи, совершенно не похожие на то, что он привык слышать от окружающих. Иногда Клопов вместо аудиенции писал Государю длинные письма[815]. Результаты практически были ничтожны, однако посещение Государем Думы во время войны, разрешение учительского съезда были как будто результатом разговоров с Клоповым[816]. Кстати сказать, Клопов, никогда не служивший, получал даже пенсию в три тысячи рублей по особому высочайшему повелению.
Сферы терпели его как нечто очень безобидное. Не знаю, были ли еще подобного рода люди, но существование Клопова доказывает, по-моему, что у Государя было в душе стремление вырваться из круга обычных докладов и разговоров и вздохнуть другим воздухом. Конечно, Клопов был личность слишком ничтожная, чтобы иметь серьезное влияние, но он очень симптоматичен.
Какой же вывод можно сделать из всего вышеизложенного? Да тот, мне кажется, что Государь, при хороших его способностях, трудолюбии и живом уме, страдал слабостью характера, полною бесхарактерностью, благодаря которой подпал влияниям, от которых никак не мог освободиться. Это был человек домашних добродетелей, по-видимому, верный и покорный муж, но уж вовсе не государственный ум[817]. В этом – громадное несчастье России, что в самую трагическую минуту ее истории во главе власти оказался такой слабый руководитель, который совершенно был не способен освободиться от взявших над ним верх влияний[818], и которые против собственной его воли все более и более упраздняли его авторитет и вместе с ним авторитет царской власти.
Глубоко был прав поэтому граф В.Н. Коковцов, который еще в 1913 году говорил мне: «Это последний император». Слова его оказались пророческими, а между тем, именно Николаю II приписывали фразу, что он желает передать сыну власть в том объеме, как получил ее от отца. И вот в его слабых[819] руках эта власть все ограничивалась, пока не дошла до полного упразднения.
Переходя к делам Министерства иностранных дел, я должен, прежде всего, сказать два слова о тех представителях иностранных держав, с которыми мне приходилось чаще всего иметь дело. В общем порядке со времени войны установилось постоянное сотрудничество между министром иностранных дел и послами Англии, Франции, а впоследствии и Италии, когда эта держава вошла тоже в число союзников[820]. При С.Д. Сазонове отношения министра с этими послами были, по-видимому, самые дружественные. Не то началось при Штюрмере. «Nous avous perdu toute confiance», – говорили они. Я не знаю подробностей, но слышал, что непосредственное общение послов с министром происходило редко, что большею частью он отсылал их к Нератову. Они чувствовали себя настолько нехорошо в кабинете Штюрмера, что когда я изменил в нем расстановку мебели и поставил ее так, как было при Сазонове, то послы пришли в полный восторг и сказали, что видят в этом знак прямого к себе внимания.
Наиболее авторитетным из всех трех был английский посол сэр Бьюкенен. Это был истый тип британского дипломата, в высшей степени изящный и корректный. И говорил он всегда обдуманно. Поэтому я никак не могу согласиться с приведенным выше отзывом императрицы, что это был человек ограниченный. Бьюкенену приписывали огромное влияние на русские дела. Некоторые круги нашего общества обвиняли его в том, что он дружит с кадетами и поддерживает в России общественный антагонизм против правительства. В самом деле, кадеты, как я слышал, были вхожи к Бьюкенену: у него бывали и Милюков, и Маклаков, и другие. Очень понятно, что он, как англичанин, был ближе к партии, которая делала вид, что добивается истинного представительного и парламентарного строя в России. Бьюкенена можно разве упрекнуть в этом случае в недальновидности, что он наши условия рассматривал с английской точки зрения и не понимал, м[ожет] б[ыть], истинного значения кадетства в русской жизни. Но это лишь мое предположение. Очень возможно, что Бьюкенен, и принимая кадетов, знал хорошо им цену. С правыми же партиями он, разумеется, не мог сойтись, хотя бы ради тех неприличий, которые позволяли себе их представители, напр[имер], Булацель[821] и др[угие]. Обвинения против Бьюкенена дошли до того, будто английское посольство участвовало в убийстве Распутина[822]. Эта сплетня получила такое распространение, что Бьюкенен вынужден был на новогоднем приеме в Царском говорить лично с Государем, чтобы ее опровергнуть[823]. Он шел в этом деле с открытым забралом, на что, вероятно, не решился бы, если бы в упомянутой сплетне была хоть доля правды. Наконец, утверждали, что Англия в лице Бьюкенена и его агентов поддержала русскую революцию. Это наиболее тяжкое обвинение поддерживается многими и до сих пор. Ни от кого, однако, я не слыхал доселе ссылки на какие-либо фактические данные[824]. И, со своей стороны, думаю, что это едва ли верно. Вот те данные, на которых я при этом основываюсь. Политика Протопопова и его присных, которая, по мнению всех благомыслящих людей, вела и привела нас к революции, вызывала не у одного Бьюкенена, но у всех союзных послов чувства глубокого беспокойства, которого они передо мною не скрывали. Если бы революция была на руку Англии, то спрашивается, что же ей было беспокоиться? Напротив, чем хуже, тем лучше. Между тем, Бьюкенен испрашивает специальную аудиенцию у Государя, где с нарушением этикета предостерегает его против хода, принятого русскою внутреннею политикой[825]. Этого мало: он пишет в Англию и просит соответственного письма в том же духе от английского короля к Государю. Когда в составе конференции союзников[826] в Россию прибыл лорд Мильнер, Бьюкенен старается и через него повлиять на Государя. Но тут уже Мильнер не понял положения дел и, вернувшись с аудиенции[827], сказал Бьюкенену, что по его убеждению дело стоит не так плохо. Это повергло Бьюкенена в большое недоумение, так как он хорошо знал положение вещей. Я все это лично от него слышал. Наблюдая через военных агентов за настроением армии, он доносил по телеграфу, что среди офицеров гвардии развивается враждебное к Государю отношение. Он предупреждал об этом, как о явлении опасного характера[828]. Неужели все это поступки человека, поддерживающего русскую революцию? А опровержения этих фактов я ни от кого не слыхал.
Да и странно было бы стремиться к революции у союзников накануне окончания войны, когда можно было уже предвидеть победу, тогда как после революции шансы могли измениться, что в действительности и случилось. Вот почему и логически поддержка Англией нашей революции представляется мне мало вероятною. Не знаю, может быть, я сам был ослеплен хитростью Бьюкенена, но мне кажется, что он действовал всегда в интересах одной победы.
Представитель Франции Морис Палеолог был несколькими номерами ниже Бьюкенена. Очень живой и симпатичный человек, старый холостяк, любитель женского пола, веселый как все французы, всегда очень ревниво относился к защите французских интересов, к русским же делам [не] проявлял большую любознательность. Он был слабо осведомлен в делах того государства, где, однако, жил в течение нескольких лет.
Вообще я должен сказать, что представители иностранных держав, за немногими, м[ожет] б[ыть], исключениями, не были вполне на высоте своей задачи: они проживали в России, знали здесь светское общество, ездили на завтраки, обеды и ужины, собирали разные сплетни, по обязанности являлись в дипломатическую ложу законодательных учреждений, но Россией и русским народом они вовсе не интересовались. Однажды Палеолог, проживший в Петербурге довольно долго, признался мне, что он, посещая только светское общество, мало знает русских выдающихся людей и просит меня с ними познакомить. Окружавшие его сотрудники были в этом отношении не лучше его. Советник посольства Дульсе был чистого типа дипломатический бюрократ, из депеш старался усвоить себе настроение французского кабинета и сообразно с ним строил свои заключения о русских делах. И еще, пожалуй, легкомысленнее был итальянский посол, милейший маркиз Карлотти де Рипарбелла. Это был довольно-таки странный итальянец, гораздо более смахивавший на белесого еврея. Время проводил он между завтраками в Яхт-клубе[829], единственном, кажется, месте его дипломатического осведомления, и вечерними прогулками по Невскому проспекту.






