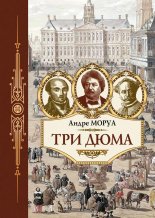Ястреб халифа Медведевич Ксения
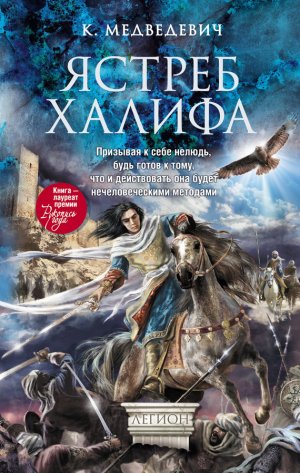
А потом прочитал:
- …Примчавшись на родину, всадник, ты сердцу от бренного тела
- Привет передай непременно!
- Я западу тело доверил, востоку оставил я сердце —
- И все, что для сердца священно.
- От близких отторгнутый роком, в разлуке очей не смыкая,
- Терзаюсь я нощно и денно.
- Господь разделил наши души. Но если захочет Всевышний,
- Мы встречи дождемся смиренно.[20]
Закончив чтение, юноша ахнул – он только что понял, как его стихи должны были отозваться в сердце Тарика. Стоявший рядом на коленях аль-Архами побледнел от ужаса. Меж тем нерегиль сидел в седле неподвижно, и по лицу его тенями бежали мысли, не доступные разуму смертных.
– Мой друг был прав, – наконец сказал Тарик. – Ты выразил в четырех бейтах все, что я не смог сказать, исписывая свиток за свитком поэтическим мусором. Мой друг считает тебя лучшим поэтом среди ашшаритов, о Мунзир ибн Хакам из рода Курайш. Ты свободен. Освободите также и того человека, – Тарик кивнул в сторону последнего осужденного. – Я побежден.
И, сказав эти загадочные слова, самийа тронул коня. Но Мунзир ибн Хакам, которому уже развязали руки, взялся за повод серого жеребца Тарика и спросил:
– Господин, откуда тебе стало известно об этой поэме? Я не показывал ее никому, даже брату! – И юноша кивнул в сторону деревьев, куда уже дошло известие о помиловании.
– Мне сказал о ней один знакомый, с которым я часто играю в шахматы. Он нашел ее среди бумаг в твоем ларце для писем, – ответил Тарик.
– Но как твой знакомый проник в мой дом? – удивился поэт.
– Через окно, на котором ты поленился поставить печать, защищающую от джиннов пустыни, – усмехнулся самийа.
Юноша разинул рот от изумления, а Тарик добавил:
– Будешь проезжать через плоскогорье Мухсина – повернись к северу и позови Имруулькайса. Силат будут рады принять тебя в своем городе, о Мунзир ибн Хакам – поэт милостью Божией.
4. Небесный волк
Аммар выслушал вести о поражении джунгар и об… упорядочивании ослушавшихся отрядов, не изменившись в лице. Общение с нерегилем все более напоминало охоту с огромной прирученной рысью: отпустишь сворку сильнее – зверь того и гляди проволочет тебя по кустарникам, скакнув за добычей. Накрутишь ремень на кулак – будет рваться, задыхаясь в ошейнике. Впрочем, не сам ли халиф сказал нерегилю: «Я даю тебе право казнить и миловать»? Хотя Аммар не ожидал, что самийа умудрится казнить сыновей самых знатных родов халифата – и помиловать простого сотника из захудалой боковой ветви Курейшитов.
Однако ни человек, ни даже тушканчик не вольны в своей жизни – так сказал Малик ибн Амр, когда раскопал нору, в которую попала летевшая в него стрела, и обнаружил там пораженного в голову зверька. Видно, листок с именами жертв уже упал у трона Всевышнего. Осталось посмотреть, чьи еще имена упадут к ступеням Престола Праведнейшего – в том, что семнадцать повешенных в роще падуба будут не последними в скорбном списке, Аммар не сомневался.
Нынешним вечером главы оскорбленных родов будут сидеть в собрании – халиф собирался чествовать вернувшегося с победой нерегиля. Более того, соберутся все предводители кланов, имевшие право садиться в маджлисе без разрешения халифа. Хромому ослу было понятно, что сегодняшний вечер не обещал тишины.
…Повелитель верующих воскликнул:
– Воистину подобного не было, как мне кажется, ни у одного царя!
Пировали в саду – плотина снова преградила воды Мургаба, и в пруду и фонтанах плескалась вода. Ради праздника Аммар приказал принести садовнику огромное блюдо и сделать на нем маленькие беседки из разных цветов, а посреди блюда налить воду и по краям положить крупные жемчужины – чтобы это походило на пруд и камешки. А в воду пустили змею, которая плавала в ней, извиваясь. На краю блюда стояла маленькая лодка, в которой сидела красивая девочка-невольница с не закрытым еще лицом и делала вид, что гребет золотыми веслами.
Аммар довольно оглядел пахучие кипы жасмина и бутоны роз. С цветов медленно стекали в рукотворный пруд крупные капли – лепестки обрызгали смесью воды и розового масла. И сказал:
– Я награжу всякого, кто скажет стихи об этом блюде и о том, что на нем находится.
Аль-Архами по праву придворного поэта импровизировал первым:
- Все чудеса земной природы в причудливом разнообразье
- Перед тобою, повелитель, судьба роскошно сочетала.
- Вот нити трепетного света, вот полог, сотканный росою,
- Вот в царстве зыбких очертаний чертог прозрачнее кристалла.[21]
Рабыни отложили лютни и захлопали в ладоши. Лица девушек скрывали прозрачные покрывала оранжевого и золотого цвета, подведенные глаза и брови дразнили мужчин. Музыкантши позволяли расшитым золотом тканям словно бы случайно упасть с лица. Отложив инструменты на ковры, они с притворной стыдливостью подхватывали кайму платка и прикрывали лица – и тут же показывали браслеты на обнажавшихся запястьях. Глаза невольниц влажно поблескивали – в них скакали крошечные шайтаны, обещая ночи в саду и вкус граната на губах.
– Жалую тебе коня под тисненным золотом седлом! – воскликнул Аммар, взмахнув рукой, и послал поэту чашу вина.
Слово взял друг аль-Архами:
- Сквозь воду виден крупный жемчуг, а средь неуловимых струек
- Змея пестреет, извиваясь, но не показывает жала.
- Ты в этом зеркале прелестном увидишь все, что пожелаешь:
- И феникса, и черепаху, и леопарда, и шакала.
Многие попросили принести им калам и бумагу, чтобы записать стихи сегодняшнего вечера.
Аммар усмехнулся – поэт, похоже, понял, что значит змея среди белоснежных лепестков и жемчужин. И снова оглядел сад – нерегиль, истинное бедствие из бедствий и змея среди змей, еще не появился.
Меж тем следовало одарить стихоплета. Аммар послал ему три жемчужины из блюда и вино.
Невольники в шитых золотом рубашках разносили шербеты, воду с розовыми лепестками и льдом, вино и фрукты.
Несравненная Камар заняла место по другую сторону благоухающего блюда, прямо напротив Аммара. Лютню царица певиц еще не брала в руки – сидела, закрывшись до глаз черным покрывалом прозрачного газа. Аммар не мог не признать, что ятрибка, конечно, уступала так и не распробованной толком ханаттянке в умелости и красоте. Но, когда он входил к Камар, в ушах продолжал звучать ее низкий голос, поющий о страсти, – и ночь покрывала тьмою и рыжие волосы, и не слишком пышную грудь невольницы.
– Мы забыли о девушке в лодке! – воскликнул сын наместника Саракусты. И сказал так:
- Но, может быть, всего прекрасней на корабле своем девица;
- О ней, увенчанной цветами, душа с любовью возмечтала.
- Предупреждает резкий ветер о том, что в море будет буря,
- И корабельщица страшится при виде яростного вала.
Похоже, многие, очень многие предвкушали, что сегодняшний вечер завершится не только поэтическим поединком. Аммар, не сдержав улыбки, воскликнул:
– Еще один бейт, о воин, и я включу тебя в число моих надимов!
Тот, расхохотавшись, поднял чашу, приветствуя своего повелителя.
– Жалую тебе коня и золотые поводья!
Аммар веселился от души. Обернувшись в поисках раба с кувшином – чаша опустела, – халиф вдруг оказался лицом к лицу с Тариком.
– Тьфу на тебя, – в сердцах прошипел Аммар.
Самийа, как истинная кошка, подкрался незаметно. Теперь он сидел за спиной Аммара и, как ни в чем не бывало, оглядывал сад хищными холодными глазами. На нем был парадный, придворного белого цвета, кафтан. На поясе висел меч. В ответ на Аммарово шипение Тарик рассмеялся и сообщил:
– Прости, я опасался, что не найдусь с нужными рифмами, если придется импровизировать. Вот и засиделся над стихами, которые надеялся выдать за экспромт…
Нерегиль едва сдерживал глумливую усмешку, изо всех сил пытаясь сохранить выражение покаянной серьезности на узкой бледной морде.
– И что получилось? – без особого восторга поинтересовался Аммар.
Тарик нахмурился и продекламировал:
- Ты, оплот несокрушимый вопреки земному тлену,
- Награждающий заслугу и карающий измену,
- Ты меня, раба дурного, соизволивший приблизить
- И своим расположеньем повышающий мне цену…
Тут нерегиль не выдержал и расхохотался. Аммар понял, что вот-вот расхохочется сам, – так смешно у Тарика вышло передразнить льстивую манеру придворных стихоплетов. Сдерживаясь из последних сил, халиф спросил:
– А где финал?
Нерегиль, вытирая рукавом выступившие на глазах слезы, выдавил сквозь смех:
– Вот в этом-то и беда – нет финала… Это, наверное, потому, что стихи идут… не от сердца…
Аммар плюнул на приличия и заржал.
Тарик, отсмеявшись, заявил:
– Поэтому я и опоздал. Поможешь с последним бейтом?
Халиф прыснул и ответил:
– Да отвратит меня Всевышний от такого нечестивого деяния! Луна не видела стихов отвратительнее – уж лучше не позорься в маджлисе. Скажи честно, что Всевышний отказал тебе в поэтическом даре, и пропусти свою очередь!
Повернувшись обратно к собранию, Аммар понял, что в саду все стихло, и на них с нерегилем устремлены взгляды всех присутствующих.
– Сядь напротив меня, о Тарик, – приказал тогда Аммар. И махнул невольникам: – Принесите ему подушку.
Когда самийа сел на указанное ему место, халиф приказал поднести хрустальную золоченую чашу и наполнить ее вином. И громко сказал:
– Прими этот кубок из моих рук, о Тарик! Воистину ты заслужил мое расположение! Жалую тебя чашей вина, драгоценным поясом и четырьмя чистокровными конями под седлом и в золотой узде, рабами, чтобы за ними присматривать, а также двенадцатью невольницами и двенадцатью невольниками в шелковой одежде и с жемчужной серьгой в ухе!
Тарик отдал земной поклон, принял чашу у него из рук, поднял ее высоко над головой и провозгласил:
– Живи десять тысяч лет, о мой повелитель!
И пригубил вино.
Наблюдая за тем, как нерегиль ставит чашу на ковер перед собой и снова земно кланяется, Аммар услышал у себя в голове: «Чтоб тебе провалиться со своими подарками! Я в аду видал твоих коней, рабов, и в особенности – забери тебя шайтан, Аммар, – невольниц!»
– Вода, мука, лепешки, – негромко предупредил халиф, удовлетворенно созерцая склоненный затылок нерегиля, – повинуясь требованиям дворцового церемониала, тот застыл с почтительно прижатым к ковру лбом.
Наконец повелитель верующих сделал знак смотрителю двора. Тот коснулся правой ладони Тарика жезлом черного дерева, разрешая самийа поднять голову. Нерегиль распрямился, подарив халифа злющим взглядом.
Потом Аммар громко, чтобы все услышали, приказал:
– Пусть каждый из присутствующих поднимет чашу в честь Тарика, заслужившего сегодня мою милость!
В саду, среди огоньков ламп и отблесков света, зазвучали одобрительные возгласы и здравицы.
Звук удара и звон раскатившейся посуды заставили всех обернуться туда, где на почетных местах, у самого края сверкающего отражениями блюда сидели Бени Умейя.
Аммар тоже посмотрел в ту сторону.
Умар ибн Имран, глава Умейядов, сидел на подушках, уперев ладони в колени и по-бычьи наклонив голову. Его чалму украшало перо фазана, пристегнутое изумрудной брошью. Сейчас это перо торчало, как рог свирепого тура. Перед ибн Имраном валялся, жалобно растопырив ножки, опрокинутый столик. Апельсины, финики и виноград составили скорбную компанию отвергнутым кувшину и чашке.
Тарик продолжал сидеть на своей подушке лицом к Аммару – неподвижно, не обернувшись на грохот и не изменившись в лице.
– Что с тобой, о Абу-аль-Ариф? – Голос халифа прозвучал мягко и успокаивающе. – Почему ты не хочешь уважить мою просьбу в день праздника?
– Потому что я не понимаю, что мы здесь празднуем, о повелитель, – сурово ответил широкоплечий, статный, славный своей отвагой и безжалостностью глава Умейядов.
Рассказывали, что в свои пятьдесят три Умар держит пять молодых наложниц, и те недолго ходят пустыми, то и дело производя на свет очередного Умейя. Ибн Имран уже потерял счет своим детям от четырех жен, пяти наложниц и десятков рабынь, которых ему тем не менее продолжали дарить и покупать. Тем не менее юный Абд-аль-Малик, повешенный в роще падуба у стен Беникассима, был его сыном – и сыном от Таруб, любимой наложницы.
– Объяснись, о Абу-аль-Ариф, – спокойно сказал халиф.
Охрану в саду несли вооруженные мечами и джамбиями южане.
Тарик продолжал сидеть не шевелясь, устремив взгляд в какую-то точку за спиной Аммара.
Все присутствующие затаили дыхание. Слышны были лишь плеск воды в фонтане, треск факелов и голоса перекликающихся по своим хозяйственным делам рабов.
– Всевышний свидетель – я служил тебе верой и правдой, о мой повелитель, и не жалел жизни, защищая твоего отца и тебя в дальних походах и жестоких битвах, – мрачно проговорил Умар. – Твоя жизнь и твоя честь были мне дороже моей жизни и чести и жизни и чести моих сыновей. А ведь мой род, так же как и твой, род Аббаса, происходит от Али! Наши праотцы были сыновьями посланца: Аббас – от Сабихи, а Умейяд – от Зейнаб! Вот почему я не могу исполнить приказ, о мой халиф! Я оскорблен, и вместе со мной оскорблен весь род Умейя. Я говорю за себя, раз остальные предпочитают трусливо прятать лица за рукавами! – возвысил голос глава Умейядов, оглядывая остальных вождей кланов.
Те уже начинали переглядываться, кивать и поглаживать ладонями рукояти джамбий. Меж тем Умар ибн Имран поднял правую руку и воскликнул:
– Да простит меня Всевышний, о мой повелитель, но я не стерплю позора и засвидетельствую перед этим собранием: ты поступил опрометчиво и неразумно! Ты отвернулся от своих преданнейших слуг! – Умар гордо обвел глазами лица сидевших в маджлисе.
Люди кивали и облегченно вздыхали: ну наконец-то нужные слова сказаны, и сейчас все встанет на свои места.
Глава Умейядов крикнул:
– Я не потерплю, чтобы мою судьбу и судьбу лучших из лучших воинов аш-Шарийа решал бледномордый чужак-самийа, безродный раб, купленный за деньги!
Маджлис взорвался криками, и в следующее мгновение Аммар увидел, как белый кафтан бегущего Тарика мелькнул над столиками и подушками. Моргнув еще раз, Аммар увидел высокий силуэт над сидящим Умаром ибн Имраном. Тарик сгорбился, в его руках свистнул и сверкнул меч, отрубленная голова Умейя, взмахнув пером на чалме, подлетела в воздух и упала наземь. Из перерубленной шеи еще сидевшего тела ударил фонтан крови, обильно заливая одежду сидевших вокруг Умейядов, посуду и скатерти.
Не обращая внимания на крики ужаса и женский визг, Тарик нагнулся, сдернул чалму с головы Умара и ухватил ее за рассыпавшиеся длинные седые волосы. Аккуратно переступая через опрокинутые столы и посуду, нерегиль пошел обратно, неспешно шагая мимо оцепеневших от ужаса людей. Голова Умара покачивалась в одной руке, обнаженный окровавленный меч посверкивал в другой. Сидевшие вдоль кромки пруда-блюда вскрикивали и с ужасом отворачивались, когда мимо них проплывало разинувшее рот, перекошенное лицо Умейя.
Дойдя до своего места перед Аммаром, Тарик развернулся лицом к собранию и сказал:
– Почтеннейшие! Как командующий армией аш-Шарийа, я могу только приветствовать смелость и отвагу, проявляющиеся в том, чтобы открыто выражать несогласие с моими действиями и планами. Позвольте мне также заметить, что я совершенно нечувствителен к замечаниям по поводу моей внешности, происхождения и положения невольника при этом дворе. Я могу заверить вас в том, что подобные мнения и комментарии никогда не станут причиной моего неудовольствия или гнева. Тем не менее я должен предупредить: тому, кто подвергнет сомнению дарованную мне повелителем верующих власть над армией халифата, я отрублю голову. Так, как я сегодня отрубил ее вот этому ублюдку! – И самийа резко вздернул руку с головой Умара.
Обведя взглядом маджлис, завороженно наблюдающий за отсветами пламени в остекленевших глазах мертвеца, Тарик с нарастающей яростью проорал:
– Если кто-нибудь из присутствующих здесь зарвавшихся ублюдков, именующих себя «древним родом», желает высказаться вслед за Умейя – пусть высказывается, потому что сейчас ему самое время сдохнуть! – И нерегиль вскинул окровавленный меч.
Ответом ему стала гробовая тишина.
– Я думаю, что наши разногласия остались позади, – с леденящей улыбкой проговорил самийа и отпустил голову Умара.
С глухим стуком она упала на ковер. Взмахнув крест-накрест мечом, Тарик стряхнул кровь с лезвия и медленно вложил клинок в ножны.
– А теперь я вынужден попросить у благородного собрания прощения: увы, я обделен поэтическим даром и не смогу принять участие в стихотворных поединках этого вечера. Поэтому я умоляю моего повелителя о разрешении покинуть пир – я слишком груб для утонченных забав ашшаритов.
И самийа опустился перед Аммаром на колени и коснулся лбом ковра.
Аммар, спокойно оглядев забрызганные кровью цветы жасмина над безголовым трупом Умара ибн Имрана, милостиво улыбнулся и ответил:
– Иди, Тарик.
Наутро халиф приказал самийа явиться в пустой сад, в котором уже не осталось никаких следов вчерашнего пиршества – ни жемчужин, ни крови. На жасминовые кусты рабы всю ночь выливали ведро за ведром воду. Аммар не любил запаха смерти.
– Как ты посмел?! Что ты себе думаешь, о сын шайтана, порождение пятнистой змеи, язычник, подлая собака!
Для верности Аммар еще и запустил в коленопреклоненного нерегиля абрикосом. Тарик поймал его быстрым кошачьим жестом.
– Они взбунтуются!.. – воскликнул наконец халиф и в изнеможении упал на подушки.
– Взбунтуются – накажешь, – невозмутимо пожал плечами самийа и надкусил абрикос.
– Ты знаешь, сколько их? Сколько у него сыновей? Племянников? А у этих сыновей и племянников их сыновей, двоюродных братьев и племянников? Это самый могущественный клан аш-Шарийа!
– Значит, ты накажешь самый могущественный клан аш-Шарийа, – нерегиль оставался безучастен к несущейся над его головой грозе.
– Тьфу на тебя, – мрачно выдохнул Аммар и добавил: – Вот ты, в случае чего, и отправишься их приводить к покорности.
– Как скажешь, – снова пожал плечами самийа. – Но я бы решал задачи в порядке поступления. Я знаю, что джунгары готовят к походу большую армию.
– «Большую а-армию», – передразнил Аммар певучий выговор нерегиля. – Сто пятьдесят тысяч сабель – это, по-твоему, большая армия?! Это огромная армия!
– Откуда такие сведения? – поднял брови Тарик.
Аммар прикусил было язык, а потом подумал, что смысла скрывать что бы то ни было от самийа нет:
– В Фейсалу пришел караван из Хань. Купцы прибыли с пайцзами Эсен-хана, идут в Хорасан за шафраном и тканями. Они и привезли новости.
– Аммар, – тихо сказал самийа. – Ты хочешь сказать, что по крупнейшему ашшаритскому городу на границе со степью сейчас разгуливают вражеские лазутчики и сеют панику среди населения?
– О нет, мой сумеречный друг, вы нас недооцениваете, – раздался от ворот сада веселый голос ибн Худайра.
Добродушный пухлый вазир уже поспешал к ним, переваливаясь на тонких ножках.
– Никто уже нигде не разгуливает, все тихо сидят в тюрьме и быстро и внятно отвечают на вопросы моих дознавателей.
Отдуваясь и вздыхая, начальник тайной стражи опустился на колени перед своим халифом, отдал земной поклон и приветственно кивнул Тарику. Кивнув в ответ, нерегиль сказал:
– Почтеннейший Исхак, сдается мне, что я знаю не все, что мне следует знать об этом деле.
– Ой, да? – всполошился старый вазир.
– Это какой-то странный караван – приходит из вражеской земли с подорожными врага и тут же начинает заниматься шпионажем в пользу врага, нимало не скрывая собственных целей. И это явно не первый караван – мальчишку-толмача тоже привез в Беникассим ханьский купец два года тому назад. Сдается мне, что дела у того купца пошли неважно. Или я ошибаюсь?
Ибн Худайр и халиф многозначительно переглянулись. Тарик заметил это и добавил:
– И вот теперь джунгары налетают именно на Беникассим – и на Мерв. А в Мерв караван с ханской пайцзой случайно не заходил?
Вазир вздохнул и ответил:
– Ваша проницательность, мой сумеречный друг, делает вам честь. Я расскажу все по порядку.
И ибн Худайр рассказал, что пять лет назад джунгары вторглись в Хорасан через Герирудскую долину – десятки фарсахов переходящих друг в друга оазисов у подножия хребтов Паропанисада, гребнем уходящих в Большую Степь. Восточные отроги Паропанисад защищали аш-Шарийа словно бы воздвигнутой чудом Всевышнего стеной, но к западу скалы сменялись высокими холмами с каменистыми обрывами. Фейсалу прикрывали лишь обширные пустоши и заколдованные плоские скалы Мухсина – поросшего травой и редким кустарником плато, по которому всегда гулял странный поющий ветер. Если бы не Мухсин с его нехорошей славой места обитания джиннов, Хатиба, прижимающаяся к подножию Биналуда, тоже была бы совершенно открыта степи с юга. Так же обстояли дела Беникассима и Мерва, раскрывавших объятия своих долин всякому, кто решился бы пройти через поющие скалы джиннов.
До последнего времени джунгары не решались пересекать пользующееся дурной славой плоскогорье – предпочитали прорываться через Герируд. После песков и глинистых почв ничейной земли, поросших хилой травой, хармыком и бударганом, оазисы долины казались им земным раем. Степняки готовы были рисковать, мчась мимо укрепленных городов и крепостей, подобных Нисе, – но до сих пор джунгарские кони не смели топтать высокую траву Мухсина. Все изменилось в этом году – двадцать тысяч кочевников пришли к Мерву через плато.
Рассказав все это, ибн Худайр утер платочком тонкого хорасанского хлопка пот со лба.
– Что случилось в Беникассиме два года назад? – резко спросил Тарик.
Вазир и халиф снова переглянулись. Исхак ибн Худайр неохотно ответил:
– Туда пришел ханьский караван. Очень богатый и очень большой. Мы еще удивились, почему он пришел туда, а не в Мерв. Но караванщики божились, что джинны отвели им глаза в скалах, и они насилу вышли в долину, высматривая на горизонте снежную вершину Толуй-бабы.
Тарик, неотрывно глядя на вазира, склонил голову – мол, я понял, продолжай.
– Караван вез все, чем богаты царства Хань, – нефрит, яшму, ткани из верблюжьей шерсти, расшитый шелк, кречетов из Эдзина, бобровые и собольи шкуры. Ты должен знать, о Тарик, что ханьские купцы предпочитают делать огромный крюк и не идти через Большую Степь – джунгары представляют для них нешуточную опасность…
– Представляли, – поправил вазира нерегиль. – Закон Эсен-хана карает грабителей смертью. Теперь караваны могут идти через степь, и никто не тронет купца и пальцем.
Начальник тайной стражи с удивлением воззрился на самийа. Тот улыбнулся:
– Возможно, джунгар, с которым я имел неприятность беседовать, был хвастуном. Но он верил в то, что говорил, – для него это было правдой. Иногда очень полезно получать сведения из первых рук, о Исхак.
– Хм, – лишь ответил вазир, с новым интересом оглядев как всегда невозмутимого самийа.
И продолжил:
– Так вот, купцы предпочитают долгий кружной путь через Абер Тароги – сумеречники взимают высокие пошлины за проход, но люди считают, что дело того стоит.
– А этот караван бесстрашно прорвался через степь и колдовские скалы, – усмехнулся Тарик.
– Воистину так, – согласился ибн Худайр. – Мои осведомители досмотрели вещи купцов – и обнаружили там пайцзы хана джунгар. Впрочем, купцы не скрывали, что пользуются покровительством великого кагана. С ними даже ехал его посол, который назвался Галданом, сыном Отогчина.
– То есть это был не просто караван, – тихо сказал Тарик. – Это было посольство.
– Да, – кивнул ибн Худайр. – Оно везло грамоту от хана джунгар, написанную ханьскими письменами. В ней дикарь обращался к халифу – в неподобающем тоне и в неподобающих выражениях.
– Что там было написано? – холодно осведомился Тарик.
– Что он считает меня своим дорогим сыном, – мрачно ответил Аммар. – И ожидает сыновней покорности и присяги. Но хочет жить со мной в мире и поддерживать выгодную торговлю – после принесения присяги, естественно. Мне предлагалось прибыть в его ставку, пройти между двух огней и поклониться великому Тенгри.
– Очень великодушно, – усмехнулся нерегиль. И тут же посерьезнел: – Что вы сделали с послом и караваном?
Ибн Худайр вздохнул:
– Посла и часть купцов препроводили в Мерв. Там они предстали перед наместником, ныне покойным Инальчиком Кадыр-ханом. Слова посла привели его в возмущение, и он приказал повесить дикаря на стенах города, купцов стегать плетьми, возить по городским улицам извалянными в дегте и перьях, а потом тоже повесить. Караван разграбили. С оставшимися в Беникассиме купцами поступили так же.
– Хорошо, что он покойный, этот ваш наместник, – процедил Тарик. – За такое мудрое решение его следовало бы самого повесить на стенах города.
– Остынь, самийа, – мрачно осадил нерегиля Аммар. – Ты мало людей вздернул на сук? Выпей стакан крови, если тебе так неймется.
– На совести этого Инальчик-хана – семьдесят тысяч жизней, – тихим страшным голосом ответил Тарик. – Убийство посла и купцов открыло армии джунгар путь в долину Мерва через Мухсин. Силат сказали, что кочевникам пропели дорогу на крови.
– Что это значит? – рявкнул Аммар.
– Что мне нужно срочно послать голубя в Фейсалу, – побледнел ибн Худайр. – Пока там не произошло то же самое, что в Мерве.
Когда отряд ханаттани влетел на большую площадь у Ибрагимовых ворот, стало понятно, что и голуби, и гонцы опоздали.
На каменном помосте в центре площади стояла высокая виселица. В петлях под прочной карагачовой перекладиной висело пятеро человек. Четверо в длинных халатах стеганого шелка, с выбритыми лбами и черными косичками – ханьцы. Пятый был одет в кафтан из грубой ткани, отороченной мехом, и кожаные штаны – посол Эсен-хана. По тому, как высоко болтались его босые ноги, становилось понятно, что ростом джунгар был гораздо ниже, чем купцы. Ступни и щиколотки кочевника почернели от огня и до сих пор сочились кровью – его пытали перед смертью.
Тарик, увидев тела на виселице, охнул и скрючился в седле потного, роняющего клочья пены коня. Тяжело дыша, самийа медленно провел рукавом джуббы по серо-желтому от пыли лицу и размотал платок, защищавший нос и губы от мелкой пыли.
– Что теперь делать, господин? – спросил Саид.
Его вороной храпел и мотал вверх-вниз головой, пытаясь успокоиться после быстрой скачки.
– Отправляйтесь в цитадель и ждите повелителя, – бесцветным голосом отозвался самийа и устало махнул в сторону замка на соседнем холме.
Нерегиль тронул коня и, мотаясь в седле, медленно поехал к воротам Ибрагима. Саид не решился спросить господина Ястреба, куда тот направляется.
Впрочем, выехав вслед за самийа на опоясывающую стены шахристана[22] широкую улицу, Саид понял, что Тарик скорее всего поехал прочь из города – на юг. Благословенная долина Фейсалы лежала с другой стороны, к северу от холмов. С востока к городу подступала плывущая вершинами в облаках горная гряда – Биналуд. А к скалам Мухсина и к степи Фейсала обращала неприступные, сложенные из цельных каменных глыб укрепления. Ложбина между парными холмами, на которых высились башни цитадели и шахристана, была вся застроена глинобитными домишками предместья, которые лепились один к другому и к высоким желто-серым городским стенам. Выползавшая оттуда неторная караванная тропа долго тянулась вниз по пологому каменистому склону, а потом терялась среди пологих рыжевато-белесых холмов. На их склонах ветер полоскал сероватую полынь и карликовые ирисы. Далеко на юге маячили Ворота Теней – две парные скалы причудливой формы. За ними даже с холма у Ибрагимовых ворот различались плоские, иссеченные неведомой рукой спины камней Зачарованного города – так люди называли лабиринт источенных ветром скал на плоскогорье Мухсина.
Саид долго стоял у ворот, то поднимаясь в стременах и прикладывая руку к глазам, то со вздохом опускаясь обратно в седло. Наконец, он увидел, как на заброшенную южную дорогу, по которой уже несколько веков не ходили караваны, из предместья выехал одинокий всадник. Саид провожал его взглядом, пока медленно плетущийся среди желтоватой пыли конь с поникшей в седле фигуркой не исчезли среди холмов.
– …Вон он! – Воин показал на крошечную светлую точку в белесом мареве над пустой дорогой.
Самийа мчал к городу со скоростью ястреба, летевшего над ним в выцветшем от тонкой пыли небе. Кви-ии, кви-ии – падал с неба ястребиный крик.
– Где ж тебя носило, сволочь ты эдакая… – прошептал Аммар, чувствуя, как злость в нем сменяется радостью и чувством невероятного облегчения.
Халиф получил известия о произошедшем в Фейсале, бросился в город и обнаружил, что самийа уж сколько дней как уехал. Да так и исчез, будто сгинул. И тут Аммар испугался. Сильно. А вдруг волшебный воин его покинул? Мало ли, может, он, Аммар, совершил нечто непоправимое, и теперь таинственные силы, давшие ему в руки самийа, отобрали сумеречника. И вот теперь, по прошествии восьми полных тревоги и военных хлопот дней, нерегиль возвращался.
Вскоре вдали уже можно было рассмотреть фигурку всадника в светлой джуббе, во весь опор несущегося к городу. За спиной нерегиля во все небо вставала грозовых размеров туча серой пыли. Через плоскогорье Мухсина шли сто пятьдесят тысяч сабель Эрдени-батура, хорчина[23] Эсен-хана.
Ибн Худайр показывал халифу грамоты, привезенные злополучным посольством кочевников. В предназначенной лично Аммару бумаге, исписанной киданьскими иероглифами, говорилось, что Эсен-хан покорил все царства Северного Хань. Теперь стало понятно, почему Мерв и Беникассим не атаковали сразу, как открылась эта проклятая «дорога на крови». Свирепое отродье степных шайтанов в течение четырех предшествующих лет уничтожало империи киданей, тангутов и найманов, до сего времени процветавших между Большой степью и северными границами Ханатты. Ханьцы-купцы, приехавшие в Беникассим и в Фейсалу, не были союзниками джунгар. Они были их рабами. Их послали на смерть, как предназначенный в жертву богам скот. Джунгары-послы, видимо, тоже знали, на что шли, – шайтан их знает, возможно, Эсен-хан избрал такой способ казни для неугодных родственников: и прибыльно, и выгодно.
Еще в высланной Аммару грамоте сообщалось, что поведение «северного царя» разгневало Тенгри. И Эсен-хан даже не может сказать, что случится теперь с северным царем, его народом и землями. Все в воле Тенгри – так завершалось послание.
Чтоб тебе вечно гореть в самой жаркой смоле преисподней, подумал Аммар.
Тем временем всадник на сером сиглави уже подлетал к предместью. Там царил оживленный хаос бегства: люди пытались выбраться из запруженных тачками и арбами узеньких кривых улиц и, кидая взгляды на заволоченное страшной тучей небо, начинали метаться в панике. Аммар отрядил три полусотни гвардейцев с приказом гнать всех плетьми к цитадели и за стены шахристана. «Прямо лупите их по спинам и по рукам, если будут цепляться за поклажу, идиоты набитые», – напутствовал он воинов. Очищенное от людей предместье предстояло сжечь.
К северу от города, в долине, тоже поднимались к небесам жалостный вой и крик, людей древками копий выталкивали из домов, разрешая взять с собой лишь самое необходимое. Ну и припасы на пять дней. В долине носились от деревни к деревне, от усадьбы к усадьбе воины Правой гвардии, сгоняли, не разбирая кто есть кто – феллахов, хозяев богатых домов, их рабов и домочадцев – в огромные толпы и уводили в горы. Многих приходилось отыскивать в укрытиях и оросительных каналах и гнать прочь от домов плетьми – люди все не могли поверить, что конец света, конец Фейсалы уже при дверях.
…Тарик быстро шел по стене – как всегда прямой, с высоко поднятой головой и спокойно-невозмутимым выражением бледного лица. Впрочем, сейчас самийа был с ног до головы покрыт белесой пылью – даже черная грива волос стала серой там, где выбивалась из-под повязанного вокруг головы платка. Аммар заметил, как на нерегиля оглядываются и показывают друг другу люди – все облегченно вздыхали и, поднимая лица к небу, радостно складывали ладони в молитвенном жесте благодарности. «Вернулся, вернулся! – Занятые сбором навоза мальчишки бросили лопаты и со всех ног припустили в лабиринт улиц: – Ангел вернулся, ангел здесь, ангел вернулся к повелителю верующих!»
– У меня есть плохие новости и хорошие новости. Плохие новости: их действительно много. Хотя, конечно, не сто пятьдесят тысяч сабель, где-то на треть меньше, – не стал тратить время на приветствия нерегиль. – Хорошая же новость такова, что половина этого войска – сброд. Самих джунгар – не более пяти туменов. Но они гонят перед собой пленников – киданей и найманов.
– И тангутов, – добавил Аммар. – Я прочитал бумаги посольства. Они захватили Эдзин и Кафан.
– Тангутов в войске нет, – обернулся к нему Тарик. В его больших серых глазах, как ни странно, читалась грусть. – Эсен-хан истребил всех тангутов. Всех до единого, «всех отцов и матерей», как изящно выражаются его сказители.
– Ну вот, а ты говорил, что это нелюди, – усмехнулся Аммар. – Разве может быть у тварей изящная словесность? Это люди, Тарик, люди. А этот Эсен-хан – просто человек.
Нерегиль бросил на Аммара какой-то странный взгляд – словно хотел что-то сказать. А потом тряхнул головой и передумал. И ничего не ответил.
Тарик оказался прав – передовыми отрядами огромной армии оказались бредущие пешком люди в рваной одежде, кое-как вооруженные кто луком, кто копьем, а кто и просто острой палкой. Этих горе-воинов гнали гарцующие на мохнатых лошадках джунгары – в епанчах и лисьих малахаях, которых они не снимали даже по такой теплой погоде. Кочевники размахивали плетьми, загоняя в строй еле плетущихся рабов. Упершись в пылающие кварталы предместья, войско джунгар остановилось. Наблюдающие за происходящим с башен цитадели и шахристана люди вскоре увидели, что кочевники решили встать под стенами Фейсалы лагерем.
Ночь явила защитникам города страшное зрелище: под подсвеченным рыжеватым пламенем небом до самого горизонта тянулись огни костров – лагерю джунгар не было видно ни конца ни края.
Под утро в Пятничной масджид города улемы начали читать проповеди о конце света, о грехах и распущенности наших дней, о гневе Всевышнего, явившемся в виде джунгарского войска, дабы покарать нечестивых лицемеров и сделать пути верующих прямыми.
Аммару пришлось прийти в масджид в сопровождении полусотни ханаттани и разогнать каркающих служителей единого Бога. Затем он взошел на минбар и, как халиф своего народа, прочел оттуда проповедь. В ней он напомнил людям о таких именах Всевышнего, как Охраняющий, Дарующий безопасность и Прощающий, а также Миротворящий и Аль-Муиззу – Дарующий силу и победу. Если Всевышний с нами, закончил свою речь Аммар, то чего же мы можем лишиться? По милости Его завтра те, кто останутся в живых, будут праздновать победу на пирах среди садов долины, а те, кто примет венец мученичества, будут праздновать победу в садах рая. Всевышнего не зря называют Ас-Самииу – Всеслышащий. Он знает о наших нуждах и уже готовит копье силы и венец победы! Этими словами Аммар закончил проповедь и велел всем расходиться.
На рассвете кочевники пошли на штурм. Впереди они гнали заплетающихся ногами пленников из покоренных киданей и найманов. Те тащили осадные лестницы и толкали к стенам баллисты и катапульты. Несчастных расстреливали со стен, но джунгары подгоняли все новые и новые волны оборванных, изможденных людей. В конце концов им удалось подобраться к стенам шахристана и закрепить осадные лестницы. Плачущие и скулящие, подхлестываемые плетьми надсмотрщиков люди полезли на стены. Бой с ними напоминал страшные рассказы о сражениях с призраками пустыни: все новые и новые запорошенные желтоватым песком одушевленные скелеты вспрыгивали на зубцы крепости. Несчастных сталкивали вниз и рубили, но на их месте возникали все новые и новые фигуры с провалившимися темными глазами, стонущие, словно неупокоенные души.
С катапульт и баллист в город полетели камни, горшки с зажигательной смесью и тяжелые дротики. У осадных машин суетились расчеты людей с косичками, в таких же халатах, что были у повешенных на площади купцов.
Еще несколько отрядов несчастных, скованных попарно, с лопатами в руках, подогнали ко рвам, окружающим цитадель. Они стали ковыряться в земле, пытаясь засыпать ров. Защитники замка выпустили несколько залпов, после чего на земле остались лежать неподвижные и еще бьющиеся в конвульсиях тела. Джунгары немедленно подогнали ко рву еще одну толпу оборванцев. Те, плача и крича от страха, принялись сталкивать в ров тела погибших. Воины на стенах выстрелили снова. Новый отряд повторил участь первого. Джунгары пригнали еще пленных – на этот раз это были сплошь женщины и дети. От их жалобных криков вставали дыбом волосы. Вскоре у рвов цитадели высился завал из трупов в человеческий рост. Среди окровавленных, утыканных стрелами тел ползали какие-то фигуры, в которых с трудом угадывалось что-то человеческое.
К полудню развалины предместья окончательно погасли и даже перестали исходить дымом.
И тогда на стенах замка забили барабаны. Ворота распахнулись, и из них выехали легкие конники с луками и копьями.
Они выскакивали и тут же бросались в бой, так что вскоре на каменистом, спускающемся к холмам склоне стало белым-бело от джубб всадников. На них с гиканьем помчался передовой джунгарский отряд. Ашшариты рассыпали строй и припустили наутек между холмами, через пепел предместий. Джунгары рванули за ними. Вскоре в лагере кочевников пришли в движение два чернохвостых знамени-туга. Два тумена конников, неспешно разгоняясь, двинулись вперед – их ждала покорная, как рабыня, долина. Джунгары шли учить роющийся в земле скот уму-разуму.
Когда арьергард последнего тумена втянулся в долину Фейсалы, и кочевники уже жадно оглядывали открывающуюся волшебную панораму рукотворных озер, рыбных прудов, оросительных каналов, садов, огородов, рисовых и пшеничных полей, и снова садов с белеющими домами, павильонами и беседками, – так вот, когда два тумена джунгар вошли в долину, та пришла в движение. С обеих сторон донесся боевой клич ашшаритов. Из апельсиновых рощ на западе широкой лавой хлынула тяжелая конница «Бессмертных» – с копьями наперевес, верхом на защищенных нагрудниками лошадях. С востока, от поросших свечками кипарисов усадеб отделилась вторая лава, «Красные», до сих пор успешно прятавшиеся среди олив и виноградников: конники стояли, спешившись и привязав поводья лошадей к поясам. Джунгар взяли в клещи и стали быстро, как ремесленник срабатывает свое изделие, уничтожать.
Тем временем из трех обращенных к югу ворот шахристана на вылазку бросились конные копейщики кланов. С ревом на них пошли два джунгарских тумена, гоня перед собой пленников. Когда два конных строя сшиблись, поднялись такие грохот и крик, что ни в цитадели, ни в шахристане люди не слышали друг друга даже в подвалах.
Однако главное знамя – высокий туг с семью черными хвостами и черепом медведя на навершии – оставалось на холме в джунгарском лагере. Кочевники стояли плотной, слитной массой – огромным пятном на серо-желтом плече долины.
И тогда в холмах далеко на юге загрохотали барабаны-таблы – впрочем, на стенах крепости за страшным шумом битвы их было не слышно. Но на гребнях холмов даже сквозь сплошной саван пыли засверкала сталь – засадный полк ханаттани, укрывавшийся в скалах у ворот в страну джиннов, пошел в атаку. Это для них гулко бухал в вечернем воздухе барабанный бой. Южане и гвардия Эрдени-батура сошлись на мечах. Когда это произошло, ворота цитадели снова открылись и выпустили пять тысяч гвардейцев во главе с Аммаром. Они вклинились в джунгарский фланг, сея смятение и панику среди кочевников. Через некоторое время в лагере джунгар царила жуткая неразбериха, и вскоре туда влетели конники Аммара. Армия Эрдени-батура корчилась в предсмертной агонии.
Рассказывали, что видавшие виды степняки, стоявшие под главным знаменем, дрогнули, когда увидели налетавших «ястребов». В первых рядах скакал Тарик – а по обе стороны от него неслись два необыкновенных всадника – один на вороном, другой на золотистом коне. От них исходило призрачное сияние, а кони не касались копытами земли. Многие считали, что это досужие домыслы: мол, кто их потом видел, этих джиннов-воителей? Хватит нам и одного самийа, говорили здравомыслящие люди: и впрямь, вид самийа мог устрашить самое храброе сердце. Фигуру нерегиля окружало бело-голубое сияние призрачного мира, а меч сверкал нестерпимым блеском нездешних краев. Джунгары, вереща от страха, кидались врассыпную, едва завидев Бледного всадника.
Аммар, рубившийся в первых рядах своего отряда, к досужим рассказам потом не прислушивался. Развернувшего крылья света Тарика он видел – ахнув, один из воинов показал ему пальцем, когда самийа проскакал, как проплыл, мимо. Сиглави словно не касался земли – будто во сне, он мчался по странной серебристой дороге, которая стелилась ему под копыта. Меч нерегиля рассыпал искры и косил джунгар, как траву.
А еще Аммар видел, как справа от него вдруг возник всадник на вороном коне. А потом этот конь прыгнул через кочевничью кибитку в два человеческих роста – мягко, бесшумно, изогнувшись в полете, будто кошка. Летучий всадник тогда обернулся к Аммару, и тот понял, что на стройном воине нет шлема, а черные кудри вьются по ветру, как у девушки в озерной купальне. К Аммару было обращено худое, узкое, бледное до прозрачности лицо, с которого смотрели два огромных, без белков и зрачков, сплошь черных глаза. Аммар сглотнул и понял, что стоит лицом к лицу с одним из силат – возможно, противником Тарика в той шахматной партии в невообразимо далекой долине Мерва. Потом всадника заволокло пылью. Впрочем, Аммар не был в этом уверен – возможно, джинну надоело убивать в зримом облике, и он растаял в воздухе, чтобы стать невидимой смертью.
К вечеру под стенами Фейсалы не осталось в живых ни одного джунгара. Пленных киданей и найманов, которых выжило предостаточно, Аммар приказал пощадить.
Когда бой исчерпал себя и погас, как прогоревший костер, оказалось, что нерегиля нигде нет. Аммар забросил себя в седло своего рыжего кохейлана[24] и отправился на поиски. Потом он удивлялся себе: зачем? И отвечал себе честно – он, Аммар, боялся, что нерегиль опять исчезнет, а люди будут смотреть на своего халифа и молча спрашивать взглядами: где он? Где ангел-защитник? Почему он вечно покидает тебя, как ветреная девушка бросает надоевшего возлюбленного? Что с тобой не так, о халиф, что твой волшебный помощник не желает с тобой знаться?
Найти нерегиля оказалось довольно просто: нужно было лишь проехать чуть дальше на юг, туда, где склон долины начинал уходить вниз крутизной, опасной даже для выносливых крепконогих кохейланов. Впрочем, потом Аммар задумался: а ведь к югу от Фейсалы нет таких крутых склонов. И прогнал от себя вопрос, как не имеющий ответа.
А тогда он сразу увидел самийа: тот стоял на вершине одного из холмов, держа в поводу застывшего бледным изваянием коня. Перед ним над трупами врагов плясала джинния-сила: изгибаясь золотистой змейкой, закидывая назад голову с водопадом золотых волос, окутывая себя подолами горящих одежд и длинными рукавами, – тоненькая и страшная, как язычок нездешнего пламени.
Аммар сглотнул и понял, что имел в виду самийа, когда оскорбился в ответ на «собачью кличку». В этой тьме над погруженным в кладбищенскую немоту полем боя, в виду бесшумной пляски потусторонней девы, немыслимо было позвать: «Эй, Тарик!»
И халиф аш-Шарийа собрался с духом и крикнул, называя самийа его истинным именем:
– Тарег! О Тарег! Вернись к нам! Мы, люди, и я в том числе, хотим выразить тебе благодарность, о князь из князей народа Сумерек!
И нерегиль обернулся, словно просыпаясь, и у Аммара пробежал по спине холодок. На него смотрели огромные, серые, переливающиеся нездешним сиянием глаза, в которых нельзя было различить ни радужки, ни зрачка.
Праздновать победу пришлось без нерегиля: въехав в город, Тарик прошел в отведенные ему комнаты, завалился, как был, в кольчуге и накидке, на расстеленные ковры – и уснул. На семь дней.
На четвертый день в Фейсалу, подгоняемый истошными письмами Аммара, примчался Яхья – хорошо, что старый астроном пустился в путь еще в прошлую луну. Яхья пощупал пульс на бледном тонком запястье, оттянул прозрачное, как перламутровая раковина, веко, прислушался к ровному дыханию. И успокоил столпившихся у маленького домика близ Пряничных ворот людей – самийа спит. Просто спит. Видимо, он устал. И теперь вот спит. Мало ли, может, все воины аль-самийа так долго спят после боя, мы же не знаем.
Утром восьмого дня Тарик глубоко вздохнул, сжал кулаки, легонько вскрикнул во сне – и сел на подушках. Чуть пошатываясь даже в сидячем положении, он довольно долго вбирал в себя окружающие краски и предметы – видимо пытаясь понять, где находится. Яхья на коленях подполз к нему с чашкой айрана. Самийа долго смотрел на него, явно не узнавая. Зато, когда глаза его прищурились и посмотрели осмысленно, нерегиль резко наподдал по чашке рукой, и Яхья умылся кислым молоком по самый кончик бороды.
Старый астроном покачал головой и, вытирая рукавами лицо, сказал:
– О свирепейшее из созданий Всевышнего! Теперь я вполне уверился в том, что с тобой все в порядке и ты окончательно пришел в себя!