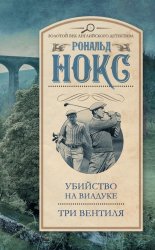Формы и содержание. О любви, о времени, о творческих людях. Проза, эссе, афоризмы Черновецкий Вадим

– Верно, – ответила Леночка на тон выше. – Но что важнее? Важнее…
– Я не знаю, – озадачился Вася. – Всё важно.
– Ну хорошо, – продолжила Леночка. – Почему ты со мной познакомился?
– Сначала услышал звонкий голос, – объяснил Вася. – Обернулся. Обратил внимание на внешность. Стройная, загорелая, с длинными волосами, с формами третьего размера… Кто от такого откажется?
– И всё? – презрительно вопросила Лена.
– Да нет, почему же?.. Потом мы с тобой заговорили. О роликах, о Зюскинде, о Пелевине и велосипеде… Обнаружили, так сказать, общие интересы…
– То есть, если бы не грудь, ты бы со мной даже не познакомился? Если бы размер был не третий, а первый? – повторила Лена.
– Послушай, да что же это такое? – возмутился Вася. – Допрос? Психологическая игра?.. Я могу не отвечать на этот вопрос?
– Это… это… игра в допрос, – попыталась Леночка сбавить обороты.
– Отлично. Я могу в нее не играть? – сухо поинтересовался Василий.
– Не можешь. Я хочу понять тебя. Понять мотивы нашей любви.
– Боже мой, почему все умные, читающие девушки такие извращенки? – риторически спросил Вася. – Мало им того, что всё хорошо в разговорах и в постели. Мало им того, что по ресторациям их, прости Господи, водють. Им мотивы любви еще надобно понять!.. Вот ведь мать-то их разыти!
– Если я тебе не нравлюсь, ты можешь найти девушку попроще. Поближе к себе.
– Нормальную дворовую самочку? Пачка сигарет в день и мат через слово?.. Могу. Конечно, могу. Только не хочу. Леночка, я люблю тебя, пойми это наконец! – сказал Вася, надевая на конец свой презерватив.
– Вот я и хочу понять почему, – парировала Лена, снимая с конца презерватив.
– No sex, just brutal fuck1? – иронически поинтересовался Василий.
– Вася, я серьезно. Пока я не проясню наших отношений, я не в состоянии буду их продолжать. В том числе и в постели.
– Фига се! – поразился Василий. – Во дела. Ну нравы.
– Все мужчины – животные! – бросила Лена с вызовом.
– Началось… – вздохнул Вася утомлённо. – Все люди – отчасти животные. И, если кто не в курсе, это абсолютно нормально.
– Нет! – взвизгнула Леночка. – Я!.. Я не животное! И не смей меня так называть!..
– Отлично. А если бы мой член был не 16 сантиметров, а 8? Ты бы тоже меня любила? А если бы мой рост был не 175 см, а 150? А если бы у меня было жуткое пропитое лицо?..
– Я люблю человека, его душу, а не грубую телесную оболочку! В отличие от тебя, я не животное, а человек!
Вася озверел:
– Да! Если бы у тебя был первый размер, я бы с тобой не познакомился. Но и если бы ты не поддержала мой разговор про Зюскинда и Пелевина, я бы тоже не продолжил это знакомство. И, чёрт возьми, это совершенно нормально! Я не понимаю, к чему это лицемерие! Это какой-то бред, какой-то абсурд!
– Мужчины всю жизнь видели во мне только самку, аппетитную, смазливую самку, – всхлипывала Лена. – Если бы не грудь, никому бы и дела не было до моей души. Грудь… всё через нее! Хватит! Мне это надоело.
Она собрала свои вещи и ушла, позабыв даже хлопнуть дверью.
– Дура, – прошептал Вася, наливая в стакан виски. – Ну и дура…
Лена быстро шла по дневному городу. Сладость отчаяния и ликование поступка мешались в ее разбухшей душе. «Всё это так неожиданно, так внезапно… Но я всё сделала правильно! Я не кусок мяса!» – гордо думала она, любуясь загорелыми ребятами, выходившими из спортзала.
11.08.2008
Беседы за пасхальным столом
По официальным данным, 80% россиян прошли обряд крещения. При этом ходят в церковь не реже раза в неделю – 2%.
Статистика
– Ну вот скажи, ну откуда у Собчак бриллианты за 100 штук грина? – патетически вопрошала мама, доставая крашеные яйца – символ возрождения жизни и воскрешения Христа. – Ну кто б ей такое подарил? У нее что, внешность, что ли, есть? Вот тебе нравится ее внешность? – Она посмотрела на своего младшего сына, Андрея.
– Ну, смотря по каким меркам судить, – осторожно ответил Андрей. – По меркам звезды… грудь маловата. А по меркам обычной девушки…
– Вот, я и говорю! – радостно подхватила мама. – Внешности-то нет! Ну кто ей камней столько понадарит с такой рожей? Папочка всё наворовал! Тоже мне, дерьмократы первой волны!
Папа пожал плечами.
– А Галкин! – продолжала мама, разрезая пасхальный кулич – Христову плоть. – Почему он, думаете, со старой, обрюзглой Пугачевой живет?
– Пропитой и прокуренной! – радостно вставил папа.
– Да! – восторженно согласилась мама. – Да потому что женщины его не интересуют! Потому что он тот же гей! Пугачеву для прикрытия взял. А спит с юмористом Дробатенко… Ну, Христос воскресе, типа.
– Ну, типа, воистину, – ответил папа.
И они разбили друг другу яйца2.
06.04.2010
Северное сияние
Январь трещал от холода, мир содрогался от ветра и темноты,
и снежинки яростно вонзались друг в друга.
Ты опаздывала, и звонила, и писала мне сообщения.
Ты так не любила, когда я опаздываю,
а сама пришла позже на полтора часа.
– Нам нужно расстаться, – сказала ты. – Нам нужно расстаться.
– И это всё, ради чего вы хотели встретиться? – спросил я,
а темнота схватила меня за горло и потащила куда-то назад, вниз и назад, вниз и назад.
– Еще я хотела отдать вам ваши вещи.
Как ты красива была в ту секунду!
Твои небольшие синие глаза
стали огромными, ярко-голубыми.
Твоя бледная кожа сияла ослепительным белым пламенем.
Твое длинное тонкое тело было изящным и беспощадным,
как черная пропасть над головой.
Ты была очень прямой, как всегда, ты ведь балерина,
но ты извивалась, я видел, как ты внутри извивалась.
И ты отдала мне вещи в пакете:
журнал и рубашку, в которую ты тщательно замотала книгу по сексу.
Я взял твой пакет,
чувствуя мягкость рубашки и смех твердой книги.
Мне хотелось смеяться.
Моя скорость всё увеличивалась,
в моих ушах свистел мрак,
в ушах колыхалось море безмолвия, будто умерли все звуки.
– Вы хотите меня о чем-то спросить? – сказала ты,
и льдинки с твоих ресниц
с грохотом осыпались в мою разверстую бездну.
Я стоял, слушая эхо.
– Нет, – сказал я. – Зачем?
– Прощайте, – сказала ты и ушла к машине отца.
Это было северное сияние.
2004 г.
Девочка
Голос, всегда тихий и глуховатый, становится вдруг громким и звонким: он создан для песни и плача. Таким голосом не ведут обыденных разговоров, но ты об этом не знаешь. Ты говоришь – и ударяешь слова так сильно, будто в них твоя страсть и душа. Но в них ее нет; где она? Она в твоем голосе, в твоем молчании, в хрупкости твоих нежных пальцев. Ты старательно прячешь ее (от других или от себя?), делаешь вид, что ее и нет, но она прорывается, льнет к твоим гладким запястьям, извивается в волосах… Я вижу ее в тусклой ссадине на предплечье шелковисто обнаженной руки. Я слышу ее в шепоте «Спасибо», в твоем мягком шепоте.
Маленькая капризная девочка, тебе почти двадцать, а я видел твои слезы во сне и однажды – наяву. Подойти, обнять – при всех, среди бела дня? Я тебе никто; я не подошел и не обнял. Плакать, милая, это не современно; ты выглядишь, как красивый манекен, ты ходишь на дискотеки и в клубы, ты «тусуешься», но слезы тебя выдают. Не плачь больше – или стань как они. Мне будет жаль? Нет, мне не будет жаль. Во-первых, ты отпустишь меня: мой взгляд, мое сердце. Ты никогда не будешь моей, так зачем же смотреть, мечтать, видеть сны? А во-вторых… никогда ты ими не станешь. Ты ходишь с ними, с ними говоришь, ты как будто уже они, но ими никогда не была – и не будешь. Ты слишком своя.
Твои подружки… интересно было бы вселиться в тело одной из них. «Иди сюда», «Садись», «Подожди» – аквамариновые слова, я бы говорил их по сто раз на дню, а ты бы… шла сюда, садилась, ждала… Небрежно коснуться твоей руки, провести по спине ладонью… Они не понимают, но это какое-то волшебство. Твой мальчик… я никогда не думал об этом, но он понимает еще меньше, он не смыслит ни черта!
Художница, не люблю твоих картин, кроме одной – тебя. Ты не рисуешься, но рисуешь себя всегда. Вечно одна и та же, ты меняешься каждый день, – вся эта элегантность, утонченность, изысканность. Одежда, косметика – я не буду описывать твой удивительный вкус. Настоящая художница, ты нервна и порывиста; ты нравишься мне больше всего, когда, наклонив голову и раскрыв большие глаза, обиженно и упрямо отстаиваешь ошибку. Ты права, тысячу раз права! Ошибаемся мы, писатели. Слова ничто перед голосом и лицом.
Я как ты, – я твержу об этом сто лет, но ты мне не веришь. Ты странная; я давно уже не гонюсь за тобой, а ты все бежишь – куда? Ты так боишься меня, а я уже нет, я не боюсь ни себя, ни тебя. Мне спокойно. Мне легко писать эти строки.
Ночь 26—27.12.00
Её сны
Напротив меня в автобусе сидит девушка. Она говорит своему приятелю:
– Иногда под утро вижу такие сны… Мозг сам что-то делает, придумывает, показывает. Вот разбуди меня – никогда бы такого специально не придумала. Это какие-то чудесные сказочки, хочется раствориться в них и жить… Вижу такие сны, что хочется рассказать о них всему миру.
– Расскажите мне, – говорю я. Она поражается, мне страшно неловко. Я подслушал её личный разговор – совершенно незнакомый человек, на которого она даже не взглянула.
Вот потому-то я этого и не сказал. У нее было утончённое женственное лицо, но короткая стрижка, простая одежда и не очень интересное тело. Я не хотел её как девушку, но она казалась мне лучшим человеком на земле.
У нее был чарующий голос – мягкий, высокий, ласковый. Ее нежность была адресована всему миру. Когда мы проезжали мимо главного здания МГУ, излучавшего золотистый свет среди белого снежного сияния, она воскликнула:
– Как красиво!
Ее спутник, явно приятель, а не парень, был человеком умным, продвинутым, но, по большому счёту, обычным. За весь разговор он не сказал ни одной глупости, но видно было, что она намного ярче, глубже и тоньше. Её восхищал мир, а она восхищала меня.
Сперва я решил, что она иностранка. У нее был приятный ровный загар и какие-то нездешние манеры. Временами она заговаривала со своим спутником на английском. У нее было произношение, как у носителя языка. Но и по-русски она говорила без акцента.
– Я могу жить в Москве, но мне здесь не очень комфортно, – сказала она мягко. И даже в этих словах, бывших по форме жалобой, чувствовался какой-то спокойный внутренний свет. Наверно, она всё воспринимала с этой тихой радостью. Я снова восхитился. Она сама была под стать своим снам.
– Я могу жить и на Итаке, с родителями, – продолжала она. – Два-три месяца – хорошо, но не больше. Мама слишком, слишком меня контролирует…
На Итаке?! Она что, древняя гречанка?.. Тьфу, почему древняя? Остров же до сих пор существует. Она гречанка, но почему тогда и по-русски, и по-английски говорит без акцента? Или мне Итака эта послышалась?..
Потом они заговорили, кажется, об альпинизме.
– Ночевали на 4800, потом на 5400. Грудь сдавлена, дышать нечем, но столько всего вокруг! – рассказывала она.
– И Интернета нету, – скептически добавил ее приятель. Причем «Интернет» он произнёс через два «е», как никто не говорит. Будто он что-то пародировал. Интеллектуальный МГУшный юмор…
Даже описывая трудности высокогорной ночёвки, она была такой же очаровательной и чудесной, как и всегда. Голос её оставался счастливым. Я подумал, что, когда придёт время умирать, она будет всё такой же. Это было за гранью моего понимания, это было какое-то инопланетное совершенство.
Я знал, что скоро мне выходить, и стал уже думать о том, что надо, надо всё-таки как-то обменяться с ней контактами. Даже если она иностранка и в Москве особо не живёт, мы же можем с ней переписываться. Это нужно, я просто обязан это сделать! Я уже подготовил фразу, но тут они с приятелем встали и направились к двери. Кричать ей через кучу посторонних людей: «Вы очень интересный человек, давайте обменяемся контактами, просто для дружбы!» – я уже постеснялся.
Почему же я не сказал этого раньше? Возможно, я видел перед собой что-то слишком, слишком хорошее. Я боялся в это вмешаться.
Нет, это какой-то школьный романтизм, я давно из этого вырос. Тем более этот обычный парень нормально с ней общался, и никаких трагедий это не вызывало.
Как же так вышло, что я, не раз знакомившийся для отношений и на улице, и в метро, и на разных литературных тусовках, так и не решился заговорить с девушкой просто для дружбы?
Наверно, я просто боялся, что это волшебное существо, готовое открыть свои сны всему миру, именно мне вдруг решит их не открывать, не захочет знакомиться и чем-то там обмениваться. Я боялся, что обида, которую она может мне причинить, наложится на моё восхищение ею. И я запутаюсь, я не буду знать, как к ней относиться.
Она быстро, парой лёгких мазков, нарисовала на запотевшем окне автобуса какой-то замысловатый, но очень милый рисунок. Она написала там себя. Мы так и не познакомились, и для меня она вечно будет ехать в том автобусе, вечно останется на том окне.
Это было сегодня вечером, сейчас ночь, скоро я лягу спать. Мне приснится:
– Иногда под утро я вижу такие сны… Вижу такие сны, что хочется рассказать о них всему миру.
– Расскажите мне.
И она расскажет. И я каждую ночь буду видеть её сны.
25.12.2010
4 года
Четыре года спазматических исканий, сомнений и всяческих страхов, четыре года небывалого счастья, взаимных упреков, истерик и скуки, жажды полного понимания и осознания его невозможности, любования нежностью зеленых листочков и собственных тел, игры волосами и чувствами, детских обид и недетских корчей, восторга и помешательства…
Я помню тот день: я иду на курсы и думаю о тебе, еду в метро и думаю о тебе, пишу контрольную и думаю о тебе, и кто-то мне говорит: так нельзя, а я мысленно отвечаю: коззел…
И первый поцелуй в губы: 15 лет, куча слюней, было даже стыдно, так и говорят ведь, что слюнки текут, и я не понимал, зачем это надо – обмениваться слюной в знак любви.
И в школе: больное самолюбие не разрешает тебе подходить ко мне, и я чувствую, что не нужен тебе, и ты спрашиваешь: что, всё? – и я отвечаю: не знаю, отвечаю хмуро, злобно, и всю дорогу ты плачешь, и я раскаиваюсь, и на следующий день, во время урока, мы стоим одни в коридоре, и я хочу обнять тебя, и ты говоришь, что я должен сначала решить, и я говорю: неужели не ясно, что я решил, и я обнимаю тебя, и чувствую дезодорант, какой только у тебя, и путаю тебя с этим запахом, слышу его в метро, в автобусах и на улице, где его нет и в помине…
А потом ты пишешь стихотворения, и они мне нравятся, потому что я ничего не понимаю в литературе, и мы стоим в другом коридоре, тоже во время урока, ты плачешь у меня на плече, потому что тебя обидел учитель, и я не нахожу слов, чтобы утешить тебя, потому что все слова кажутся глупыми и бессмысленными, когда ты плачешь, потому что я не знаю еще, что слова не важны, а важен голос, что в любви слова не важны, а важен голос, и в этом все дело: я любил слова, которые теперь ненавижу, потому что люблю больше прежнего, потому что ты уже не со мной, а они со мной, при мне и во мне, потому что мне кажется, что, кроме слов, я ничего не умею, потому что мне всегда кажется…
И шли после школы к тебе, гладили друг друга до исступления и не могли оторваться, пили на кухне чай, глядя на часы, которые отставали, потому что я отказывался видеть их стрелки, потому что надо было на курсы, и опаздывал каждый раз, бежал, бежал до метро, торопил поезд, в котором ехал, в мыслях подталкивал его сзади, входил посреди контрольной, ругая себя слабоволком, и зарекался опаздывать, давал пионерскую клятву и торжественное обещание, чтобы на следующий день нарушить его у тебя на груди…
А однажды, помнишь, не могли расстаться до ночи, ты встречалась с подругой в метро и опоздала на час, она ушла, я чувствовал себя виноватым сахарной виной, позже – рассказывал тебе какие-то мысли, которых ты никак не могла понять, отвечая, что надо почувствовать, и я дразнил тебя чувственной девочкой – мне так нравилось, потому что никогда ты такой не была, а чувственность только пробуждала, и я зависел от тебя больше, чем ты от меня…
Я знал, что ты держишь меня в руках, но оттого лишь слаще было тебя раздевать, обладать – целиком! – твоей нежной шоколадной красотой, обнаженной и глуповатой, да, я считал тебя иногда глуповатой, но никогда открыто не говорил – как будто ты без меня не чувствовала, как будто не обижалась, как будто не боялась говорить что-то свое.
Но мы были вместе, потому что ты чувствовала и другое: я болел у друга в деревне, температура за сорок, мне было пятнадцать лет, и мне казалось, что я умираю, я стал думать о тебе, думал весь вечер и всю ночь, а ты была далеко, за тысячу километров, но потом я прочел в твоем дневнике, что 28-го июня, в тот самый день, ты хотела сесть на поезд и ехать ко мне, знала, что мне плохо, и хотела помочь.
А потом, следующим летом – ты помнишь? – мы решили подумать друг о друге 15 августа вечером, в половину двенадцатого, подумать, глядя на крайнюю звезду Большого Ковша, ты еще засмеялась и сказала, что мы встретимся на звезде, как в сказке, ты любила сказки, а я так не умел их рассказывать, хотя нет, написал тебе одну, из той же деревни, да, я сидел в саду, меня ели комары и говорили «спасибо», потому что я совсем их не смахивал, потому что писал тебе длинное-длинное письмо, первое любовное письмо в жизни, и отправил не в ту квартиру, потому что не расслышал по телефону твой адрес, да, как они смеялись, когда его получили, а может, взгрустнули, потому что уже сто лет ничего такого не пишут и не получают, как красиво, правда?
Но потом, потом я ленился провожать тебя, хоть мы живем в двадцати минутах ходьбы, а это не очень красиво, правда, я об этом не буду, и кому там еще нужна правда, когда может быть красота, когда после прощаний на лето я уходил на крышу высокого дома, сидел там, смотрел на небо, пока из него не капали слезы, и тоже хотел плакать, хоть и знал, что это слащаво, зато так красиво, но не успевал, потому что шел дождь, и бежал за аперитивом, заходил к другу, и мы заливали мое горе, всем бы таких друзей, правда, но, когда тебя нет, не помогут никакие друзья.
А весной начинались философские ломки, обострение у шизофреников и т. д., мы сидели в песочнице опустевшего детского сада, я смотрел вниз и молчал, молчал полчаса, ты говорила, что с крыши спрыгнешь ради меня, что пойдешь хоть сейчас и спрыгнешь, и давала свои ладони, я бессильно ласкал их, ты снимала с пальца кольцо, девчачье кольцо с розовым сердечком, и втыкала его в вершину песочного домика, я спрашивал: ты что, хочешь оставить его здесь? – ты говорила: зачем, это только потом, и я был уверен, что это «потом» никогда не придет, но ни разу не говорил тебе об этом, боялся сглазить…
Ведь мы говорили ночами по телефону, и нас шпыняли родители, говорили, что говорим мы о ерунде, а завтра контрольная, – мы боялись расстаться, не договорив, мы все равно бы не спали, мы… вечерами боялись лежать у тебя, потому что в соседней комнате гудел телевизор, мы слушали каждый звук, вздрагивали и нервно смеялись, потому что все время казалось, что кто-то подходит к двери, а у меня – маленькая кровать, унизительно скрипит, зато как мы скидывали с нее друг друга! как валялись на полу и катались по ковру, как… боялся я смерти, ни во что не веря, и не важно было, что мы вместе, потому что я боюсь смерти, потому что меня так научил Леонид Андреев, потому что развратил и потому что боюсь…
Но мы идем по солнечной улице, и так хорошо, что слова не нужны, мы идем на крышу и делаем фотки: облаков, и центра Москвы, и прохожих, и сияния солнца, и сияния наших глаз и какого-то другого сияния, нам кажется, что все вокруг сияет, а потом идет дождь, и мы спускаемся на чердак, и на последний этаж, и слушаем дождь, и я опять обнимаю тебя и начинаю гладить, у тебя милая пушистая майка, под которую так приятно запускать руку, потому что ты гладкая и нежная, и шелковистая, и я очень хочу тебя, и чего тут больше, радости или томления, или этого дождя, который прошел, и кажется, что прыгни вот из того окна и взлетишь, и совсем не боишься высоты, потому что не боишься ни тебя, ни себя.
А позже показывал тебе новые рассказы, и каждый раз замирал: а вдруг тебе не понравится, и тебе так сложно было что-то сказать, ты чувствовала, но не умела сказать, и казалось, что ты ничего и не поняла, но мы лежали в постели, сладко лежали в постели, а когда звонил телефон, ты нехотя подходила – я любовался каждым движением – и серьезно, буднично говорила, что обедаешь и перезвонишь потом, и я говорил негромко: теперь это так называется? – и хихикал, ты прикладывала палец к губам, а потом в шутку душила меня, а я обращал это в страсть…
Вот стоим у твоих дверей, поздно вечером, и не можем расстаться, и стоим час, и другой, а однажды приснилось, что ты умерла, и все утро мне было страшно, и я не успокоился, пока не услышал тебя по телефону, и ты сказала, что тоже видела во сне мою смерть, и не успокоилась, пока не увидела меня в школе, забавно, правда, а летом, когда ты возвращалась с своего Юга и мы шли гулять, то целый час, целый вечер не знали о чем говорить, и шли как чужие, и боялись, я даже боялся поцеловать тебя, такие мы были смешные в своей серьезности.
А вот тот пляж, где мы были вместе до ночи, где был ливень и шторм, и мы смотрели на кипарисы и на те далекие огоньки, и мне стало тоскливо от того, что мы всегда вместе и мне нечего больше желать, и весь этот город, он такой сонный, все одно и то же, и эти глупые ссоры, когда ни заснуть, ни попросить прощения…
И как мы ходили с тобой в порт, как держались за руки, и я смотрел на кого угодно, но не на тебя, потому что я и так держу твою руку, точнее держал, вот черт, потому что держал, и тебя охватила грусть, мы шли по берегу моря, по древней меланхоличной гальке, по сырому песку, сняв сандали и думая ни о чем, нет, обо всем, ни о чем слишком хорошо, а мы себе такого позволять не умели…
И там были еще эти милые грустные ребята, с гитарами, в черных туфлях, они сидели на валунах и пели тихие песни, и я любил их, не знаю за что, за то, наверное, что было тоскливо и волны шумели совсем рядом, за то, что в эти минуты я жил рядом с ними, с ребятами и с волнами, и с тобой, которую разучился любить, а потом мы дошли до самого порта и я лежал на скамейке, а рядом качался корабль, и было страшно и пасмурно, и я почти засыпал от этой смутной тревоги, как странно, правда, как сонно и необычно, и были чайки, такие пронзительно одинокие…
А потом мы долго искали дорогу назад, и опять эти ссоры, и горы, и поры, поры твоей кожи, к которой я прижимался, и что же я все-таки любил, кожу или тебя, и научусь ли когда-нибудь все сразу, – без эгоизма, без обладания, без боли – или возраст не спрашивает, как любить? – но когда-нибудь, когда-нибудь я стану старше и научусь любви светлой, хоть и глубокой, спокойной, хоть и сильной, – скорее бы!
А пока – пока что какая разница, ведь я смотрю на твои фотки, на наши фотки, и хочу встать на четвереньки, и выть, и хватать мебель зубами, глодать кость и подавать кому-нибудь палку, забыть, что когда-то был с тобой, когда-то был человеком и ненавидел каждую книжку, которую подарил тебе не сам, потому что от нее тянуло кем-то другим…
А вот однокурсник спрашивает: ты совершал когда-нибудь что-то иррациональное, и я молчу, я смеюсь ему в лицо, потому что он другой, он мне не может помочь, если б даже хотел, а кто кому хочет помочь?..
И эти мишки, мишки у тебя на кровати, и один из них мой, я дарил его тебе в прошлом тысячелетии… и это детское неуклюжее одиночество, и шахматные разочарования, и опять одиночество, а потом была ты, и тут начались философские ломки, а потом уже этот страх смерти, и халтура в литературе, и опять страх, опять одиночество, и стоило мне решить все свои вопросы и научиться тебя любить, как ты пропала, «чтобы не было слишком хорошо», как мы с тобой говорили, наша с тобой любимая фраза, а мне ведь никогда слишком и не было хорошо…
И как мы сидели потом у тебя в комнате, ты пахла тем же дезодорантом, и ты сказала мне всё, и я смотрел на тебя, и ты, вся целиком, через глаза проникла мне в мозг, в натуральную величину, и надорвала его, я помню тот странный хруст, а было 23 февраля, и вошла твоя мама, подарила мне шоколадку «Шок», как настоящая гуманистка, и опять эти спазматические объятия, и слезы, и я не в силах насиловать, как тогда, когда я вернул тебя этим, я хочу выйти за дверь, как Вронский, и угостить себя пулей, этим изысканным лакомством, хоть и пистолета у меня нет и время уже не то, и банально как-то…
Я еду утром в метро, уткнувшись в учебник, и слезы капают одна за другой, не «скупая мужская слеза», а обильная женская, и делаю вид, что сами собой слезятся, не выспался, и мысль: хоть бы поезд разбился, только других пассажиров жалко, и думаешь: серьезно ли это, насчет поезда, обидно ведь как-то, столько учился, лечился, а теперь из-за какой-то «фигни»…
Но стены, холодные поручни, ледяные лица и чернота туннеля – всё излучает такую боль, такую бессмысленность, такую бессмысленность боли, – учился-то по инерции, а «фигня» своя, родимая, ради нее ведь и учатся, стало быть, можно и разбиться, – и боюсь расплакаться среди пары, как мальчишка, точнее, девчонка, и словно бы наслаждаюсь этим, сижу на занятии, а всем весело, и опять хочется их всех ненавидеть, но вот и я смеюсь, помимо воли…
А теперь всё кончается, и сверкающий день убивает меня, каждой капелькой звонкой капели, каждым весенним ручейком, каждой птичьей песней, каждым солнечным лучиком, и друг, друг спрашивает: она тебя что, ненавидит, а я ухмыляюсь: нет, хуже, у нее ко мне «хорошее отношение»…
И я вспоминаю твой голос: когда-то он был осторожный, потом ласковый, нежный, потом как будто обиженный, обвиняющий, я сказал еще: ты с подругами ласковей, чем со мной, – а теперь он приветливый, этот голос, ему от меня ничего не надо, почему бы не быть и приветливым, ведь теперь «хорошее отношение»…
И теперь, когда я звоню, я слышу за твоим голосом другой, чужой, в глубине комнаты – и ты говоришь: обедаю, перезвоню потом… вот и вечер, я сижу в поликлинике, жду свою очередь в коридоре, и огни льются в окно, и почти пусто кругом, только слабые, усталые люди и гитарный аккорд из какого-то кабинета, и нога закинута за ногу, и вода, прозрачная талая вода падает с ботинка на скользкий линолеум, и эта лужица, лужица чистой воды, о господи, эта лужица…
Ночь 07.03.2001
Жажда
Море было мечтой. Бесконечностью бирюзового счастья, которого он не заслужил. Маленький Андрей считал дни, оставшиеся до отъезда в Крым, и с каждым днем изумление его всё росло. Он был уверен, что в последний момент обязательно что-нибудь случится. Скажем, он заболеет, и его оставят дома. Или отменят поезд. Или Луна упадёт на Землю. Но так ничего и не случилось.
А потом были помидоры и яйца в поезде, и соль в спичечном коробке, и карты. А потом он забрался на вторую полку и увидел на потолке следы ног… Он чуть не упал на пол. А потом подумал, что если через сутки он своими глазами всё же увидит море, то и люди, гуляющие по потолку, перестанут удивлять. Загадка – ничто по сравнению с тайной…
У Перекопа были маленькие заливчики, и в каждом был рыбак. А деревьев стало мало, только редкие кипарисы. Люди затаили дыхание, они уже предвкушали долгожданное, настоящее море. Во всех их движениях появилась какая-то значимость, осмысленность. Даже моя ложки или наливая кипяток, они будто чувствовали сопричастность к чему-то важному. Они стали более молчаливы и глубоки.
А потом все вдруг затаили дыхание, и сиреневый свет отразился в их глазах. И Андрей понял: свершилось. Он мгновенно взглянул в окно: чудесная красота уходила за горизонт, разливалась повсюду, заполняя мир до краёв. Теперь он знал: возможно всё. Мир одарил его этой неизъяснимой радостью, мир открылся ему; теперь и он мог довериться миру. Сквозь посеревшее от дорожной пыли окно фиолетовое море, сияя, вливалось в него, утоляя его жажду. Но жажда была огромна.
И вот они стоят в очереди за какими-то бумагами, а справа – лиловая необъятность. Она затягивает, Андрей весь в ней. А с неба обрушивается солнце, и всё вокруг нестерпимо, восхитительно ярко. И его завораживает эта чрезмерность. Родители говорят о гостинице, о бумагах, а он не в силах сказать и слова. Он лишь зачарованно молчит. И он не верит, что это он и что всё это наконец случилось.
И вот он впервые в море, и глоток воды заливается в рот. Ого, она и правда солёная! Это поражает его: он никогда еще в такой не был. Земля – это в основном океан… Вкус моря – вкус Земли. И вот он проглатывает немного планеты, и плещется в ней, и несётся вместе с ней по Вселенной.
А потом он начинает замечать то, что помнят всю жизнь. Мелочи, из которых и складывались тогда Юг, лето, радость. Аттракционы за 15 копеек: все эти карусельки, лошадки и, конечно, автодром, где гоняют и толкаются машинки. Где самый скромный и утончённый ребенок вроде Андрея невольно превращается в дорожного разбойника, который специально таранит всех, особенно папу с мамой. И хождение в столовую за полдничным соком, это сладострастие возвышенных натур. Прийти пораньше, взять побольше, залить в банки, пока никто не увидел…
А вот тихий час. Странно: дети подвижны и не любят подолгу спать, но их заставляют. И в детском саду, и в лагере, и часто в домах отдыха. Их запирают после обеда в комнате на целых два часа, два самых теплых и солнечных часа: спите! А их мучает жажда, которую невозможно утолить из графина… Взрослые устают больше, и многие из них хотят спать целый день, но им нельзя: работа… Ах, если бы только мы могли перенести, отдать всё наше время детских тихих часов себе взрослым!..
Андрей смотрит из-под одеяла: мама сопит всё более мерно и уже не ворочается… Можно действовать! Его мучает жажда. Жажда! Он тихонько встаёт, наливает холодную воду из графина в стакан, залпом выпивает. И жажда ведёт его дальше. Он крадётся к выходу… Главное – бесшумно закрыть дверь. Получилось!
Теперь он один, один в этом жарком золотом мире. И это чудесно. Он чувствует не одиночество, а свободу. Он идёт по ковру коридора, и этот запах гостиницы, невыразимый запах всех на свете домов отдыха, который ни с чем не спутаешь! В холле он еще сильнее; он волнует, он живёт.
Перед входом в корпус две девочки в белых шортах играют в бадминтон. Их почти обнаженные тела пропитаны южным солнцем. Они гибко наклоняются и прыгают за воланом. Ему почему-то нравится за ними наблюдать. И Андрей вдруг понимает, что его восхищает не только их гибкость, но и само их устройство: руки, ноги, бёдра, рёбра, соски… нежность их черт, стройность тел, и то, что они добровольно решили обнажиться, подарив свою красоту миру одетых. И вот секундное наваждение: ему хочется вдруг прижаться губами к их пупкам, целовать их загорелые животы, гладить грудь, спину… Он не понимает, что с ним происходит. Такого никогда не было. Еще одна тайна завораживает его. Мир сверкает своими гранями, тая в себе радость и опасность…
А вон гора Волошина. Ее очертания напоминают профиль поэта, который любил здесь жить. А там и другие Крымские горы. Не слишком высокие, но кое-где очень крутые. Ему рассказывали, что на них гибли альпинисты, штурмовавшие отвесные склоны. И снова его поражает это сочетание – красота и опасность, смерть и красота.
Он вспоминает, как неделю назад они шли по набережной и все ели сахарную вату: и дети, и взрослые. И его родители, и брат. И он понял, что должен, обязан получить свою сахарную вату: это был его кусок жизни, которого он не должен был лишаться. Родители упрашивали его отказаться, но он стоял на своём. И вот ему купили порцию ваты, он с удовольствием съел ее, а на следующее утро у него опухли веки и началась такая аллергия, что ему вызвали скорую. И вот машина увозила его в больницу, в Феодосию. А он почти в слезах провожал глазами такие знакомые уже корпуса, холмы, кипарисы… На море был шторм, огромные волны разбивались о берег, дул ветер, его мир рушился и катился в пропасть.
В больнице ему вкатили такой укол, что он долго потом не мог лежать на спине. Его поместили в одиночную палату. Мама дала ему с собой книгу – «Четвёртая высота», страниц 150. Он прочёл книгу за день. И начался кошмар скуки.
Минуты превратились в часы, часы – в дни, дни – в недели. Он проваливался в чудовищную, страшную вечность. Он лежал в каком-то мраке один, как в космосе. Иногда его звали на процедуры, тоже какие-то дурацкие. Ему понравился только кислородный напиток.
Но вот ему стало получше, он вышел в коридор… И с удивлением обнаружил, что и в этом странном мире есть люди. Там тоже стояла какая-то полутьма, но везде кипела жизнь. Дети играли у подоконников, у стен. Он отважился на путешествие в другой конец широкого коридора, похожего скорее на зал. Это было как хождение за три моря. Он шёл медленно и долго, поражаясь на каждом шагу. Это был другой мир. Там совсем маленькие дети играли в игрушки на полу. У них были человечки, солдатики, дома, машинки. И человечки эти жили в городах и ездили на машинах. Дети играли в ту же игру, что и он с братом в Москве.
Сколько жизни было вокруг! Почему он раньше ее не замечал? Потому что закрылся от мира своей болью. Он смотрел на играющих детей тоже с какой-то жаждой и завистью. Он хотел быть с ними, одним из них… Но стена страха, робости и отчаяния удерживала его в своем одиночестве. Ему понадобилось много лет, чтобы сломать эту стену.
Ему с самого начала сказали, что он проведет здесь, по крайней мере, неделю. И он думал, что не доживет, что скука и одиночество убьют его окончательно. Хотя это существование он и не воспринимал как жизнь: оно было адом. Он стеснялся не только пойти играть к другим детям, но и попросить книжку у кого-то из персонала. Нет, он даже не стеснялся. Ему просто не приходило это в голову. Одиночество – самый страшный ад.
Такой же ад пережил он и несколько лет спустя, когда родители впервые отправили его в летний лагерь. Еще в автобусе он сразу выбрал одиночное место спереди, слева, у окна. Он снова жаждал видеть всё, что было за окном, и снова боялся людей. В лагере тоже кипела вокруг жизнь: дети болтали друг с другом, играли в мячик, в одно касание от стены. Он дико завидовал им, неимоверно хотел играть и быть с ними – и снова ему даже в голову не приходило к ним подойти. Ему почему-то казалось, что они сами должны его позвать. Они ничего не имели против него, но считали, что раз он ходит один, то сам, наверно, этого хочет и тревожить его не надо.
Вскоре у него начался жуткий конъюнктивит, и его перевели в изолятор медпункта. И снова всё повторилось: ему дали какую-то книжку про пионера-героя, он прочёл ее минут за 20. Он перечёл книгу несколько раз, но потом это надоело, и потянулись долгие, бесконечные, страшные часы пустоты и одиночества. К нему приходили дети из его отряда, заглядывали в окно (он жил на первом этаже), спрашивали, как он там.
– Нормально, – едва слышно отвечал он, опуская глаза.
И они уходили.
Ему даже в голову не приходило попросить их побыть с ним еще немного – ну или принести ему побольше книг. Бывало, он выходил в туалет через коридор, остро и жадно впитывая в себя по дороге незнакомые запахи лекарств. Там, за дверьми, в других палатах, шла жизнь, были люди. Андрей припадал к дверям, не решаясь туда войти, с кем-то пообщаться. Иногда ему попадались разные медсёстры в белых халатах, с нормальными, открытыми лицами… Но он и с ними не решался заговорить или о чем-нибудь попросить.
Ночью ему приснился сон. Он дома, в Москве. Стоит в своем подъезде, любуется игрой светотени, счастливыми солнечными зайчиками, слушает звуки двора. Зовёт брата поиграть, даже дразнится. Ему весело, он знает, что брат сейчас выйдет, они будут гулять вместе и придумывать разные истории – про клады, про человечков, про путешествия. И брат выходит, и солнце светит ярче, и красные, синие, желтые, зеленые пылинки кружатся в его лучах так дружно и красиво…
Когда утром он открыл глаза и увидел сверху потолок изолятора, ему захотелось кричать от отчаяния – но он лишь тихо и долго плакал в подушку. В тот же день приехали родители и брат и увезли его домой.
Как бы то ни было, тогда, в Феодосии, он поправился намного скорее, чем ожидалось. Может быть, помогла его жажда… Мама забрала его уже на третий день. Огромное жаркое солнце вкатилось, вломилось в его ад, превратив его в рай.
…И вот он идёт от корпуса на пляж, и смотрит на горы. Он слышал, что им много миллионов лет. И он думает: как это возможно? Есть ли у гор душа? А что, если бы он был этими горами? Стоял бы гигантский, тяжеленный, такой величественный и такой неподвижный. Такой мудрый и всё видевший, но такой немой. Такой могучий, но не способный даже пошевелиться. Он жил бы миллионы лет, он был бы бессмертен. Он знал бы всё, но ни о чём бы не мог поведать. Он мог бы любить и грустить, плакать и смеяться, но никому, ни единой живой душе не смог бы об этом рассказать. И только художники и поэты пытались бы его почувствовать…
Нет, уж лучше быть маленьким и теплым человеком. Смертным, с короткой жизнью, но не таким безнадёжно одиноким. У него-то хотя бы папа с мамой есть и брат. И те летние девочки, и счастье от их гибкости и красоты…
Вот он вышел на море и впервые задумался о том, что если считать валы, то можно не уснуть, а сойти с ума. Но это тихое помешательство, это просто вхождение в бесконечность. Кто древнее – горы или море? А что, если бы он был морем? Море живое, в нем медузы и рыбы, в нем люди, в нем будут сегодня и те две девочки… Да, морем стать он бы не отказался. Вместить в себя всё, быть с людьми, с животными, но при этом жить вечно.
Теней почти не было, жара становилась невыносимой. Было градусов 35. Андрей пошел в парк писателей. Он играл там раньше с семьей в настольный теннис. Но вот он отошел от столов и направился по незнакомой тропинке. Лес вокруг становился всё чаще. Он уже с трудом пробирался сквозь заросли, но именно это ему и нравилось: жажда звала его. Вдруг он увидел перед собой какую-то то ли лужу, то ли дыру. Он решил, что в длину она не больше метра. Он слегка разбежался и хотел было уже ее перепрыгнуть, но вдруг чьи-то большие сильные руки поймали его в последний момент, уже в воздухе.
– Стой! – прокричал хозяин рук…
– Что?.. – ошеломленно спросил Андрей.
– Там яма. Огромная яма. В длину метров пять.
– Так… А что в яме?
– Провал в канализацию. Оттуда уже не выбраться.
Андрей пораженно смотрел на сторожа, на сияющий, лучезарный мир вокруг, на это жаркое южное лето, глянцевую зелень… И думал о том, как он бы прямо сейчас тонул, задыхался в омерзительно вонючих фекальных массах. Как еще минуту спустя он умер бы от отвращения, а лишь потом наступило бы удушье. И всё это посреди сверкающего солнца, тепла, покоя, гармонии, целого мира живой красоты. И он почувствовал вдруг, что мир открыт в любую сторону: и в сторону безграничного счастья, и в сторону чудовищной смерти.
Внезапно он побежал прочь… Даже не от ямы, а именно от этого осознания. Мир предал его, надругался над его доверием, открытостью. Но разве не то же самое было с сахарной ватой, обещавшей радость, но вместо этого погрузившей его в ад на бесконечные три дня?.. Он остановился, пораженный этой тайной. Мир оказался коварнее и страшнее, чем он думал. Но именно это оттеняло его красоту. Это напугало и заворожило еще больше, жажда лишь росла.
Он вернулся обратно к морю и пошел вдоль берега. Ему почудилось вдруг, что море можно обогнуть. Умом он понимал, что оно огромно, но идти было так легко, что, казалось, можно обойти и море, прийти пешком в чужие дальние страны. Он видел их только на карте, но существуют ли они на самом деле? Всю жизнь все вокруг него говорили только по-русски. Может, в мире только и есть, что русский язык?.. А те английские пластинки, что иногда слышал, – это кто-то придумал, подстроил, разыграл. Подшутил над ним, чтобы он повторял, как дурак, какие-то странные слова, издавал нелепые звуки, а этот кто-то только смеялся бы над ним.
Стоп! Почему он не поблагодарил сторожа? Ведь тот спас ему жизнь! А Андрей был так поглощен своими чувствами, что даже не подумал сказать ему спасибо. Как несправедливо… и как странно, что какой-то незнакомый человек вынырнул вдруг из ниоткуда, спас его от кошмарной гибели и снова пропал в никуда, навечно… Андрей почему-то знал, что больше они никогда не встретятся. Эта внезапность пересечений человеческих судеб поразила его, по телу пошли мурашки…
Он залез на скалу прямо над волнами, но вдруг пошёл дождь, и порыв ветра чуть не сдул его в море, на хищные острые камни, лежавшие внизу. Андрей вжался в скалу, лёг на нее и замер… Опять! Опять он чуть не погиб, но теперь уже спасся сам. И опять с такой внезапностью… Это было волшебно, это было страшно, это было непостижимо.
Но ливень закончился. В небе возникла радуга, и Андрею захотелось вдруг дойти до ее начала. До основы, которой она опирается о землю. Он ясно видел: макушка радуги – вон у того облака, дужка – над морем, а начало – вон у той скалы. Это легко, он сможет. Там всего километр.
И он пошёл к радуге, чтобы потрогать ее, войти в нее, стать разноцветным, как она, как весь этот мир, слиться с ним, оставшись собой…
Но вдруг он почувствовал, что скоро кончится тихий час, и мама узнает, что он ушел без спросу куда-то один. Надо возвращаться. Пару дней назад он хотел встать прямо под луной, чтобы снизу она выглядела как узкая полоска. Не вышло. Вот и сейчас радуга куда-то отъезжала…
…Он прокрался в номер, осторожно лег в постель, накрылся пододеяльником… и только сейчас понял, как устал. Сон обрушился на него, накрыв его с головой. И он уже – горы, по нему карабкаются какие-то люди, о чем-то говорят. Он хочет ответить – и не может. Его засасывает какая-то вонючая масса, он уходит всё глубже и глубже, он машет руками и ногами, он зовёт маму, но вместо нее слетает с луны сторож, похожий на Бога… У него опухают веки, кто-то изо всех сил бьёт его в задницу чем-то острым, Андрей орёт что есть сил и вдруг понимает, что на спине уже не полежать, он переворачивается на бок, но, кстати, он же всё еще летит в вонючую пропасть, где-то рядом звенит графин о стакан, льётся холодная вода, – и он долетел до дна, ударился о него – но вот она, радуга! Он стал ею, теперь он такой же разноцветный, как этот мир, он слился с ним, оставшись собою! Но теперь ему нужно попасть на вершину этой радуги…
– Ты чего? – спрашивает мама тревожно, но при этом почему-то смеётся.
– А что? – как можно спокойнее отвечает Андрей.
– Ты чего с кровати-то скатился?
– Я?
– Ну да.
И он понимает вдруг, что лежит на полу, прямо на ковре… Он хочет продолжения этого сна, этого приключения. Неизъяснимая жажда наполняет его волнением, страхом и жгучей радостью. Но то, что ему приснилось, можно продолжить и сейчас, после того как он проснулся. Тут нет разницы. Он в любом случае будет это продолжать.
– Ты так махал руками и ногами, – продолжает мама. – Тебе что-то приснилось?
– Жизнь.
18—20.07.2010
Из цикла «Галерея типов»
Портрет №2. – Оглушительная нежность
Любишь людей вообще —
и не можешь терпеть их в частности,
пишешь стихи, которые понимают лишь девушки:
слишком они тонки,
слишком неуловимые ты описываешь ощущения.
Пьяница, извращенец и эстет,
боящийся мамы и истосковавшийся по любви,
ты выходишь по вечерам на балкон и мечтаешь…